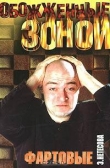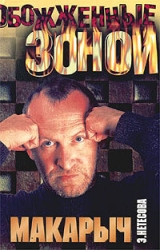
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
– Как знать. Колька не таковский.
– Я про своево тож так думал. Да думка прореху дала, што старые порты.
– Один ен у нас. Пущай вольготней живет. К чему бабой связывать спозаранок?
– К тому, штоб смолоду человеком стал, а не этим, как их там, геолухом, – ворчал Акимыч досадливо.
– Будет об этом. Про сибе сказывай. Чево
нынче попусту об Кольке? Не воротишь вспять. Как ты тут маешься?
– Да надысь чуть не помер. Воды из ключа
попил студеной, весь дух заложило. Видать, потому одыбался, што духу не во што выйти стало. Нынче вот травку насобирал. Мослы отпарю.
– Я и гляжу – студено у тибе.
– В холоде, слыхивал, скоро не помирают.
Потому теплом себя не нежу
– В холоди тоже належимси, кады черед придет.
– Мне-то уж недолго свет коптить осталось.
– С чево это ты взял?
– Сны вижу недобрые. Вечор уснул, вижу: вроде Василинка ко мне пришла. Плат на ней черный, большой. А сама такая грустная: «Иди ко мне, любый! Обогрею. Обласкаю. Нескладно живешь ты. Невесело. Хоть ба бабу завел». Ну я ей сказываю: «На што мне нынче баба? Ей утеха нужна. Мне ж не то утешить, а раздеться-то при ней неловко. Мощи едины. Да и не могу тебя позабыть. Вона ты какая пригожая». Она встала, рассмеялась и сказывает: «На том тебе спасибо, што не променял меня ни на кого, помнишь. Вот за это тебе подарок. Прими, не потребуй». И с плеч тот платок скинула. Прямо на меня. А сама крутнулась. И так рассмеялась весело. И исчезла. Платок остался. Знаю, худая то примета, коль покойница зовет к себе. Погреть хочет, обласкать. Да еще подарок оставляет.
– То на тибе благодать сошла. Слыхал, к иным младость вертаетца. Бабы зачинают снитца…
– Креста на тебе, охальник, нету, – обиделся Акимыч.
– Пошто лаешь? Живое для живова. Ты жа плоть свою давно взаперти держишь. Негоже. За то и маишься, сны дурныи смотришь. Хватай от жисти все. И баб не сторонись. Оне ить не все поганый.
– Тьфу! Идол срамной! Завелся, што муха на навозе. Говорю, в гроб мне скоро. А ты про грешное. Куда мне бабу?
– Штоб заместо травы парила.
– Эдак ты ангела совратишь.
– На што ангел? Тож мине – святой! Пригляди сибе какую. Хоть обиходить. Всю жисть ты каво-то выхаживал. Типерь-то свое возверни.
– Отошло время.
– Ты спробовал?
– Не-е-е, мараться да и позориться не хочу.
– Ну и живи блажным.
– Видно, так Богу угодно.
– Божье писание про другое сказываит. Не забить, не убей, не укради. Про бабу, штоб чурались ее, в помине нет.
– Внучок, поди, скоро бабу заведет. Правнуки народятся. Чево у мине? Мое дело стариковское – на печке бока греть да тараканам байки сказывать. Молодые нас нынче слухать не хотят.
– Так-так, – тихо подтвердила Марья.
– Што так-то? Колька смирный. Нас почитает. Коль и сорвалси в тайгу, так баламутить не станить. Попомните, ен большим человеком сделаитца.
– В нашей породе недоумков не было. Изъяны случались, с моим, бабником. Но голова варит, мозгами не обделен. Но я не про то толкую. Непочтительные они нынче. Отца чертом облают вместо отчества. К матери уважения не имеют. Перед старыми шапку снять – зазорным считают. Разве так путево? На праздниках, заместо веселья, лаются, гадко слухать.
Макарыч заелозил по табуретке. Носом засопел. Перебил запальчиво:
– По-твоему – молодь поганая? Брань не по нутру? Так нехай оне елейными растуть. Драк не ведають. Как только ты умудрилси сильника пристукнуть? Аль от речей твоих ен издох?
– Зашиб я ево насмерть. Но то другое. Разе тоже по-нынешнему? Надысь в селе на престольный праздник мужики промеж собой, што собаки перегрызлись. Стал одново усмирять, он же, свиной выкидыш, шиш мне под нос сунул. И говорит: «Иди, старой хрен, отсель, покуда костыли на холодец не повыдергал». Ране за такое палками попотчевали, пороли розгами.
– Не цепляйси к им, не получил ба.
– В том же дне баба одна, она на сносях ходила, у другой попросила чевой-то. Та ее со двора кочертой погнала. Хотел усовестить – в бороду мне плюнула. При моей памяти, отказ брюхатой бабе большим грехом считался.
– Не ты отказал? Греха на тибе и нету.
– Эх-х-х, люд портится, – выдохнул Акимыч.
Да будя тибе!
Марья тихо сидела у печки. Грелась. Акимыч посмотрел на нее. Улыбнулся.
– Как живется тебе, Марьюшка? Поведай хоть.
А то мы и забыли про тебя.
– Хорошо, Акимыч. Видать, за прежнее судьба наградила.
– Не забижает тебя Макарыч?
– Такого не было. Жалеет. Заботится. Ты, е с ли что, не серчай на него. Он покладистый. Добрый.
– Покладистый! Да в нем норов диково коня сидит. Таково в узде держать – силушка надобна.
– На то я и мужик, – оборвал Макарыч.
– Не приведись, внучок х арахтером в нево станется. Твоему лешаку малова на свою колодку переделать, што воды испить. Тогда какой-то бабе гоже бедовать придется, – сказал Акимыч.
– В мине станить – худо не приключитца. Ежели в тибе, почитай, за зря промаетца. Разе то мыслимо блажным вековать? На кой ляд мужиком звалси?
– Мужик мужику рознь.
– То я ужо слыхал. Оно, как помыслить, и верно. Не дай Бог эдаких, как ты, ровней признать. Лучче враз вздернутца. Но прок от тибе имеетца. Люду ты нужнай. Потому всякому бесу своя судьбина.
– И на том тебе благодарствую.
– Ты мине вот што: перебиралси ба к нам. Че-во, как змей, маешьси? Изба у мине просторная. Теплая. Кольку поглянешь. Чай, род н ай, – предложил Макарыч.
Марья заулыбалась. Подошла к мужу. Поцеловала в щеку.
– Жену знаишь. Баба она редкая. Втрех нам все отрадней. Там и старуху тибе сыщу. Сбирайси!
Акимыч задумался. Оно неплохо так. Чуял, Макарыч с виду занозистый, как неструганая лиственица. Душа же, что воск, податливая, щедрая. Но как уйти? В своей избушке он прожил немало. Сам бревна пилил, подгонял одно к другому. Тут сын родился. Какой-никакой, а свое все же. Здесь Василинка хозяевала. Сколь набедовался он тут! Незаметно вместе с избой состарился. Отрастил бороду. На крыше избы тож трава появилась. Плешь избу изгрызла. Зимовье нынче обветшало. Ишь, скособочилось на ветру, будто браги перебрало. Венцы погнили, не держат. Даже по теплу воют голодно. Ничто не вечно. Но как уйти? Тут вот сыновья березка растет. Та, что при рождении посадил. А вот Василинка сгинула, и ее березка упала, не прижилась. «Конешно, на Кольку глянуть охота. Но ево уже не воротишь. Макарычев он. И фамилия – Касюгин. Чужая. Глянешь – душу растравишь. Мо– же, внучок и свидеться не схочет. Похотел ба – пришел. Нешто в три года не вспомнил? Видать, так. Зачем жа ехать. У Макарыча, може, и неплохо. Но чужой он там. Здесь каждая кочка знакома. В родном месте и помирать легше».
Акимыч глянул на ожидавшего Макарыча, на Марью. Сказал, как отрезал.
– Плохое болото, а свое. Не обессудь. За доброе благодарствую. Поехать к тебе не смогу.
– Не тороплю. Подумай. Обмозгуй путем.
– Ты ведаешь: кета приходит помирать туда, где с малька вышла. Рыба, а дом почитаит. Што ж я дурней ее?
– Неволить не могу. А резон тибе есть перебиратца.
Акимыч не поддержал разговора. Два дня гостил у него Макарыч. Как ни уговаривал – не согласился старик.
Дома, Макарыч понял сразу, Колька был. Искал что-то. В углу не было ружья, Акимычева подарка.
– Сходить к ему надоть. Може, приключилось неладное, – бурчал Макарыч.
– Охолонем с дороги и наведаем.
– Душа болит. Чуюбеду. Тыбудь дома. Я скоро, – заторопился лесник.
– Куда в ночь-то? Дождись света. Я с тобой схожу. Как знать, где они?
– Ведаю. Углядел, куды девка повела.
– Говорила – не пускай! Та девка шалая. Доверил ей Колюшку…
– Не стони, мать. Можа, и нет ничево. А сходить надобно. Штой-то неспокойно мине.
– Я с тобой.
– Сиди дома. Куды в темь? Сказал – недолго буду. К утру в обрат жди.
Но Марья уже натягивала душегрейку. Хлюпала носом, упрямо, по-козлиному, смотрела на Макарыча.
– Нешто он мне чужой? Тоже свидеться хочу. Как там ему? Может, сгожусь в чем, – держа мужа за рукав, она надевала сапоги.
Над сумеречной тайгой навис туман. Он задремал на верхушках берез. Кудлатыми космами опутал стланик. Вот в стороне испуганно вскрикнула сойка, по-бабьи кого-то обозвав. Из-под куста выскочил, как от чужой женщины, нашкодивший бурундук. За ним другой гнался. Лопотал, пищал. Расправой грозился. Преследователя на обратном пути неприятность подстерегла. Голодная, еще не отлинявшая лиса словила его у самого дома. Испугаться не успел.
Закон тайги – выживает кто сильнее. Вон и белка шельмой в дупло юркнула. Макарыч прислушался. Не рысь ли объявилась? Но тайга молчала…
Марья, тяжело дыша, едва поспевала. Часто o г лядывалась. Вздрагивала спиной от каждого шороха. От страха даже платок на голове взмок. Она судорожно ухватилась за руку Макарыча.
– Ну што ты?
– Страхотища одолела, – зябко передернула она плечами.
– С чево?
– Не знаю. Только боязно мне.
– Не пужайсь. Тайга – твой дом. Она што человек.
– Человеки не все хорошие.
– Как ты к ей, так и она… Со мной не боись.
Под ногами ломались, трещали ветки, сучья.
Макарыч глянул на жену. Та еле шла.
– Передохнем, – достал он кисет из-за пазухи.
Только уселись на отжившее дерево, как в стороне шорох послышался. Марья, прикрыв рот, прижалась к мужу. Макарыч настороженно оглядывался. И вдруг тихонько показал под ель. Там стоял олененок. Маленький, тонконогий, белый, как молоко, он нюхал наступающую ночь. Но вот оглянулся, тихонько хоркнул и быстро убежал.
Марья улыбнулась.
– То-то. Што я тибе сказывал? Тайга, што человек. Ее понять надобно…
– С чего он сбежал?
– Дым почуял. Ветер от нас. Вот и сбег.
– Махонький, а знает.
– Ну, пошли, – встал Макарыч.
Дальше идти становилось труднее. Буреломы и завалы преграждали путь. А над тайгой уже повисла ночь. Накрепко слилась с деревьями. Переплелась крепко с кустами. Звезды задушила туманом. Но лесник шел уверенно – как у себя дома. Лишь изредка останавливался, вслушивался и снова шел. Вскоре прислушался, принюхался. Повеселев, полез напролом, волоча за руку обессилевшую Марью.
– Уже недалече, покрепись, мать.
Вскоре они услышали голоса, увидели костер. Вокруг него шевелились большие темные тени.
– Колька! – позвал Макарыч.
У костра замерли. Ни голоса.
– Колюшка! – крикнул лесник громче.
– А-а-а-а, – отозвалось эхо.
У огня задвигались. Макарыч ходко подминал ногами траву. Почти бежал. Вид костра прибавил силы и Марье. Она заторопилась. Люди немало удивились появлению Макарыча и Марьи. Когда узнали, кто они, обступили уважительно.
– Сын у вас молодец. Находка для нас. Всех выручил, – говорил какой-то рыжий патлатый детина.
– Иде ен? – перебил его Макарыч.
– Позови Николая, – велел рыжий парню, стоявшему за спиной. Тот ответил что-то шепотом.
– Иди, говорю! – крикнул рыжий.
– А Зоя-то что не идет? – спросила Марья.
– Приболела немного.
– С чево бы?
– Не знаю.
…Николай устало шел к костру. Макарыч кинулся навстречу. Обнял. В лицо вгляделся. Встревожился:
– Захворал ненароком?
– Нет. Я ничего. Зое худо.
– А што с ей?
– Не знаю. Врач завтра обещал прилететь.
– Покажи ее.
Зоя лежала в прокуренной темной палатке. Казалось, спала. Колька зажег свечку. Девчонка открыла глаза.
– Отец пришел проведать. Тебя вот навестил.
– Здравствуйте, – слабо прошептала Зойка.
– Што с тобой, девонька?
– Не знаю. Жарко мне. И слабость.
Макарыч велел Кольке выйти. Сам расспросил
Зою. Послушал дыхание. Ощупал лоб. И вышел.
Колька курил за палаткой. Заслышав шаги Макарыча, подошел.
– Ну что? – спросил тихо.
Лесник оглянулся кругом. Отвел парня подальше от палатки и сказал еле слышно:
– Чахотка у ней.
Колька вздрогнул.
– Да, Колюшка, чахотка. Она девку за месяц сожрет.
– Врач обещался. Может, вылечит.
– Ты што? Поздно.
– А как же я? Отец! – закричал парень.
– Тихо ты, не блажи. Обмозговать надоть.
В палатке о чем-то переговаривались Марья и Зойка.
Колька подошел к костру. Сел. Обхватил руками голову. Долго сидел неподвижно. Смотрел на костер.
Зойка, Зойка. И зачем кинулась она за ним в студеную воду? Испугалась, что в воронку затянет. Ему помогала. Сама на берег еле выползла. Тут и упала. Видно, обострилась болезнь.
Зойка и до того часто и больно кашляла. Недомогала. Быстро уставала на работе. К концу дня едва до палатки – сразу спать. Но такой она стала недавно. Это Колька знал от ребят. О девчонке они говорят уважительно. Такое о мужике не всегда услышишь. Она ж о себе ничего не рассказывала. Лишь, отлежавшись немного, возьмет гитару, к к о стру подойдет. Сядет рядом с кем-нибудь из парней, тронет струны гитарные, да так, как только одна она и умела. Гитара в ее руках человеческим голосом плакала, ребенком смеялась, вздыхала, как живая. Будто и впрямь струны те из голосов людских были сделаны. Чудеса вытворяла с ними девчонка. Захочет – заговорит гитара звонким ручьем, тайгой зашумит, расскажет о далеком Кавказе, запоет его языком. Парни могли ночами напролет Зойку слушать. Она выставит поближе к огню узкие босые пятки, и далеко-далеко уносит ее песня.
Рассказывали ребята, что никто из них не смог добиться расположения девчонки. Со всеми одинакова была. Как с братьями своими. Хотя многие пытались напеть ей другие песни. Вздыхали открыто. Тенью за нею ходили.
Кольку такое озадачивало. Ему иногда хотелось помочь ей. Пытался взять ее тяжеленный рюкзак. За это был ошпарен таким взглядом, что больше не посмел.
Умела Зойка стрелять не хуже ребят, ловко нолей метала. Даже у галопирующей лошади под брюхом ехала. Шашлык умела на углях пожарить, лепешки испечь. Работала наравне с парнями. В отряде любили ее.
Колька и не заметил, как наступило утро. Давно погас костер. Из Зойкиной палатки доносился приглушенный голос Макарыча. Колька подошел туда и заглянул. Зойка спала. Макарыч, завидев парня, вышел.
– Взять ее домой надоть. Выхожу. За пару месяцев.
– С ребятами поговорю. Как они.
– Што они? Девка помираит. Застужена шибко.
– Я схожу, перетолкую с ними, – кивнул парень в сторону ребят, бежавших к реке умываться.
Макарыч только рукой махнул. В сердцах Кольку обругал. Хто ж за девку спрашиваитца. Бери и уводи. Порядки нонешние…
Но ребята решили обождать врача. Потому к самолету гурьбой кинулись, как мальчишки в драку. Ждали, что прилетит старый врач, а тут – почти ровесник. Брюки клеш. Бабочка на горле вместо галстука. Эдаким гусем к палатке вышагивал, как лошадка цирковая, даже пятки выкручивал.
– Экий крендель столишнай. Што ен, желторотай, в болестях смыслить? В башке, поди, так жа пусто, как у барана. И кудерки на башке, как у ета-во рогатова. Ишь, копыты наблескотил, – выругался Макарыч.
Когда врач вышел из палатки, к нему Колька протиснулся.
– Поздно. Ничем помочь не смогу. Перевозить нельзя. В дороге умрет. Операцию на месте делать и нечем, и бесполезно.
– Слушай! Может, все же хоть лекарство, а?
– Бесполезно.
– А что ж делать?
– Не знаю. Жаль. Красивая девушка.
– Это мы и без тебя знаем. Ты помоги вот.
– Нечем.
– На кой черт ты тогда ехал?
– Послали.
– А что с ней?
– Туберкулез, наверное. Похоже.
– Туберкулез или похоже?
– Я же гинеколог.
– Вот это штуки! Тебя зачем сюда прислали?
– Сказали – экстренный случай. Вероятно, криминальный подозревали.
Парни, не поняв, что же подозревали, переглядывались. Тут Макарыч не стерпел.
– Возьмешь девку в больницу ал и нет?
– Ну да: она умрет по дороге, а мне отвечай.
– Валяй отсель, покеда я тибе очки в пятки не вправил, – ругнулся Макарыч и велел парням мастерить носилки для Зойки.
К следующему утру они принесли ее в зимовье. Кольку ребята упросили вернуться в отряд, с лесника взяли слово, что он вылечит Зойку.
Та долго не приходила в сознание. А чуть открывала глаза, Макарыч поил ее из ложки чем-то тягучим, противным. А Марья уговаривала проглатывать. Девчонка вначале стеснялась этих забот. Потом обвыкла. Макарыч сказал, что поит ее особливым отваром. Марья усиленно прятала от глаз девчонки шкуры убитых собак, чьим жиром выхаживали девчонку. Этого Зойке нельзя было знать. Правда, Макарыч давал ей и перетопленный медвежий жир, поил первым медом из своих ульев. И Зойка понемногу оживала.
Ни Макарыч, ни Марья словом не обмолвились о бессонных ночах у ее постели. О страхе, когда дыхание уже не прослушивалось. А на подставленном зеркале замирало остывающее тепло. Зойка подолгу бредила. Кашляла надрывно, с кровью. Не скоро это прекратилось. Дважды сходил на охоту Макарыч, чтобы запастись свежим медвежьим жиром. Повеселел, когда на щеках девчонки здоровый румянец проступил.
Зойка стала ему еще ближе. Марья привязалась к ней. Учила готовить, вязать. Та быстро все перенимала. Но больше всего любила слушать Макарыча.
Сядут они у открытой печки, пекут картошку, и лесник рассказывает разные случаи, что были с ним.
– Я по молодости любил девок. Ох уж и поплакались они от мине! Перва Алена была. Знатная девка. Парни за ей табуном ишли. Коситиши в руку толщиной, до самой задницы. Собою статная. Можа, и оженились ба, кабы моя тропка в другу сторону не поворотила. Все хранцужанку хотел. Т ак и не привелось… Сказывають, они уж больно толк в любви ведают.
– Чеченок у вас тоже быть не могло.
– Не добралси туды. А то ба как знать… Ну чево не было, таво не было.
– А на каторге бабы были?
– Была одна. Обчая. Дыбой звали.
– ?!
– Нашенская. Штоб ей… – И, помолчав, продолжил: – На ей пытали нашево брата. Особливо политических. Мы их книжниками звали. Також смутьянов, беглых.
– Какая же она была?
– Ох, девонька. Сколь рук и ног на ей повыкручено. На дереве живова места от кровушки не было. Вся в ей запеклась. На палец толщиной нарастеть – соскоблють. С ее нихто живым не возверталси.
– Как же на ней пытали?
– Сам не бывал. Иначе тут не сидел ба. Но слухом пользовался. Сказывали, человека к ей, как Христа, привязывали. Дыба, она што крест. Такмо растягивалась. Привяжут к ей накрепко, опосля какую-то чертовину крутять. Она али напрочь руки и ноги выдергиваит, али выкручиваит. Смотря как ту чертовину крутнуть. Так вот она едина на всех была, ета баба. И боялись ее пушше смертушки.
Зойку от таких рассказов морозило.
– Значит, на каторге только мужики были?
– От люду слыхивал, што и баб ссылали. Но мине не доводилось их увидеть. Окромя, разе, сук сторожевых.
– Много ли ссылали на каторгу?
– Ого! При мине за год камера по десятку разов и боле обновлялась. За раз в ее триста душ сгоняли.
– Куда они девались?
– Откуда не возвертаютца. Нам доложитца не поспели.
– Как же вы уцелели?
– Верно, смертушке на потеху, – грустно отшутился лесник.
Зойка задумчиво смотрела на подернутые седым пеплом остывающие угли. Они еще живы, кроваво-красные точки освещают топку, и кажется, что в ней тоже запеклась кровь.
Марья сидела рядом, шила чулки из собачьих шкур.
– Мать-то для тебя мастерить. Штоб ноги берегла наперед, – сказал Макарыч.
– А зачем собаку убил?
– Шалая была. Зверье забижала.
– Хорошую надо завести. Овчарку
– Господь с тобой. Только не етих. Духу ихнег о терпеть не могу. Воротит.
– Почему?
– Насмотрелси на их. Навек запомнил.
– Расскажи, Макарыч..
– Не потрафил я старшому конвоя. Не делил табакерку. Хоть долго ен про то просил. Вот и удумал за то поизголятца. В ту пору у одной суки шш енки объявились. Видать, черед им пришел на под накидыватца. Поначалу их науськивали на привязанных. Я ж е веревку порвал. Тоды мине по и лечи в яму зарыли. А к макухе мясо привязали, с уку ету с ее оравой на мине и выпустили. Глянул я – ну, думаю, тут и погибель моя. Овчарка ета скачить, пасть клыкастая внутрях черная. Бока вп али. Видать, нарошно голодом до етова морили, штоб мине вместях с мясом слопала. Собаке лишь раз стоить человечины отведать – не отучишь опосля. Тут жа шшенков куча. Подскочила сука к мине, хвать за мясо. И жреть. А я думаю: што коль ни весь кусок вырвала? Так ить на наших глазах сколь люду порвали. Тут чую – обнюхивает макуху. А старшой уськаить: «Куси, мол, ево, стерву». Та, знать, молодуха была. Небитая отошла. Поворотилась к мине задом, нужду тяжкую справила и ходу вместях с выводком. На утро видел – битые бока зализывала. А в вечеру двоих задрала. В глотки вцеплялась. Мине повезло, што необученную выпустили. Для острастки. Сказывали в камере, будто я на полвека сдал. Роднова волосу не осталось. С той годины овчарок не терплю! Все морды их в человечьей кровушке видютца.
– Но в тайге без собаки плохо. Хоть дворнягу бы…
– Провались она пропадом. Сами с рукавицу, а харчатца за кабана. Навару с их, што шерсти с курки. Брех единай. А горластых не терплю. На што мине в дом барбоску! Блох разводить. Вот была тут единая, Мэри. Сука такая. От то да-а-а! Отродясь таких не видывал. Харя – аж ведмедь от ей на попятки удирал. А хваткая! Ужо за порты уцепит – вместях с исподним сдереть. Так оказия приключилась. Померла. Иде я ишо такую сышшу? Порода в ей сидела не нашенская, загранишная, без хвоста и носу. И воровитая. И сибе, и мине харчила. Все сподтишка. В село приедем, глядь – колбасу волокеть. Какая-то баба проворонила. Помню, в проводниках тоды был, начальник на мине глянул косо. Мол, самим жрать нече, а тут псина. Мэри и углядела. Как кинетца на ево. Наземь свалила и матом собачьим эдак в самую морду ево гавчит. Не тонко, а густо, по-мужичьи. Тот начальник потом перед ей на карачках пробовал ходить, как с бабой заигрывал. Да Мэри знала породу, на всякое барахло не глядела. Сибе блюла. Жалко шшенка не оставила. То-то ба утешила.
– Я знаю, где такую достать.
– От ба утешила.
– Поправлюсь, принесу. Только щенка.
– Конешно, шшенка. Нехай смальству единова хозяина ведаит.
Макарыч успокоенно ложился спать. Да вдруг среди ночи вскочил в поту. По избе заметался. Стал трубку искать. Курил быстро.
– Что с тобой, отец? – проснулась Марья.
– Ништо. Ты спи.
– Рано. С чего вскочил?
– Охолону малость. Сон дурной, Кольке худо. Пьяным привиделси, веселый. К мине битца лез.
– Не к добру.
– То-то и я так мерекаю. На душе свербить шт ой-то.
Макарыч в исподнем вышел на крыльцо глотнуть воздуха. Остыть от внезапной тревоги. Вернулся не скоро. А чуть вздремнул – шаги на крыльце услышал. Вскочил. Сна – будто не было. В избу вошел Колька.
– Што, сынок? Навовси?
– Ага.
– По што?
– Потапов прилетел! Говорит, война началась.
– Иде?
– Немцы на нас напали.
– Ерманец такой. Слыхивал.
– Рассказывает Потапов, будто работы сворачивать станут. Потому что воевать надо.
– Вона как… Верно, тибе намекал?
– Всем. Ну да мне в техникум скоро.
– Тибе не признал, значитца?
– Что ты, будто о незнакомом, осведомился.
– Зазорно?
– Смотря кому. Ребята просили остаться, но я ушел.
– Про девку-то спрашивал?
– Как же.
– Ну и што?
– Разозлился. Говорит, в больницу надо. Зачем, дескать, к знахарям водить. Ребят ругал. Велел забрать ее. Наверное, за нею скоро придут.
– Хрен ему в зубы. Слаба ишо. Не пушшу. Да и кости перешибу, ежели хто сунетца. Нехристи окая н ные. Загробили девку и выходить не дають. Выкусят они у мине вот ето, – Макарыч сложил черную фигу и покрутил у себя под носом.
– Я и сама не пойду к ним больше, — внезапно вмешалась Зойка. Подойдя к столу, она стукнула худым мальчуковским кулаком. – Хватит с меня.
– Пора ужо тибе одуматца. На че те тайга?
– Да не в ней дело. Учиться поеду поступать. В Колькин техникум.
– Верно, Зоя, – обрадовался парень такому обороту.
– Опомнился, спросил! А проведать никто не пришел. Да, может, меня и на свете нет! Нужна здоровая. Больна – забыли. В больницу, вишь, надо было! Нужна там кому. Доктор тот на меня мужиком смотрел. Ему не до моих болячек. И эти хороши. Сплавили и ладно. Теперь знахарем называют. Да Потапов давно мне по ночам про любовь шепчет. Все лысину свою беретом закрывает. Годы убавляет. Будто не знаю ничего о нем. Не пойду к ним. Сыта я их тайгой!
– Охолонь, Зоя, охолонь. Хошь и решилась ба не выпушшу. Я настырнай. А што надумала, то по правди вовсе неплохо. Времечко тибе и об завтрем помыслить.
До первых петухов, как влюбленные, просидели Колька и Зойка. Вышел Макарыч послушать, как они воркуют, да чуть по-нехорошему не обозвал. Про какие-то синусы друг дружку пытают. Поначалу думал, что нонешние так объясняются. Оказалось, тут любовью и не пахло. На всякий случай к Марье пошел разузнать. Та спросонку ничего не могла понять.
– Синусы? Чего это?
– Може, эдак ноне друг дружку называют? – допытывался Макарыч.
– Не рехнулся ли ты, отец?
– Рехнесси с ими. Я-то помышлял, как ба дом им наладить. Вдвух с Колькой срубили б скоро. Они ж про то и в ус не дуют. Экая несуразица получается!
– Оженишь. Успеется. Пускай потешатся.
– Оно и верно. Только она, – черт, не наше во Бога! – небось Колькой гребуить? Мозги зазря сушить? Тоды я ее за косишши оттаскаю. Не по– гляну, што на рожу ладная. Чево кочевряжитца? Не урод парень-то. Не густо ноне таких. За счастье почитала ба.
– Кто их знает. Колька и сам разборчивый.
Макарыч даже вздрогнул. Припомнилась
Полька, Колькина зазноба. Нехорошо в душе стало. Может, та Кольку присушила? На Зойку и не смотрит. Свое на уме держит. Вконец озлившись, он так грохнул по столу кулаком, что стекла дрогнули.
Почуяв неладное, Колька прибежал. Макарыч коршуном на него наки н улся:
– Кады оженисси?
– Да ты что, отец?
– Бери девку, говорю! Чую, баба с ей добрая станет. Аль не люба?
– Рано мне.
– Ишо што? Само время. Може, друга болячка помехой стала?
– Не-е-ет…
– Не тяни. Бери, пока твоя. Не то упустишь. Такая не залежитца. Товар добрый. Как мужик вижу.
– Не торопи. Так лучше. И мне, и ей.
– Марье помощница надобна. Мине внуков при жизни понянчить охота. Поглянуть их. Аль старости моей не утешишь?
– С этим успеется.
– То-то вы нонешние несговорчивый да нескладный. Мине б твою долю в леты ети. Оженился б не сморгнув.
– Учиться хочу.
– Не перечу. Но баба в том не помеха.
– Она тоже учиться будет.
– Ей ето лишнее. Зачем голову наукой забивать? Нехай детей родить. Ета наука сподручней. И ума ученова не требуит. При мужике грамота – дело зряшное. Баба, она хто? Хозяйка в доме. Мать детям. Наука их портить.
– Не Зойку.
– Прожила же я без грамоты, – вставила Марья.
– Ты, мать, в наши дела мужичьи не встревай. То не твово ума курьева дело, – оборвал Макарыч.
Та насупилась. Замолчала.
– Што мине на ето скажишь? – не отставал Макарыч.
– Погожу
– Олух. Помышлял мужика с тибе сделать. Да, видать, мозги тибе ни с тово конца вправлены, – осерчал лесник.
Чуть обсохла роса на деревьях, заслышал Макарыч, как кто-то к избе идет. По-чужому тайгу будоражит.
– Зойка! Подь с избы. Чую – за тобой. Пот о лковать с ими надоть без твоих ушей.
– Я не маленькая убегать. Подумают, прячусь.
– Иди, иди. Мине, може, давно с им сустренутца хотца.
– Не помешаю.
Пока препирались, на крыльцо чужие шаги встопотили. Под ними доски надрывно рявкнули. Заплакали в голос. В избу поскреблись.
– Ишь непутевай. Скребетца. По-человечьи не могет. Хошь ба кулака не жалел. Ровно баба худая, – бурчал лесник, нехотя подходя к двери.
Потапов в приоткрытую дверь чуть просунулся:
– Зою можно?
– Што как кот! Аль по-людски разучилси? Хозяев не приветил. Поди, шкоду помнишь, супостат.
Тот выдавился из-за двери. По углам огляделся. Приметил девчонку. Приободрился.
– В отряд давай. Завтра уходим. Так приказано, – хотел еще что-то сказать, да Макарыч за грудки хватнул, будто котенка. Приподнял к притолоке, потряс что тряпкой.
– Ты об здравии спытал? Душегуб! У мине испросил, можно ль ей вертатца? Знахарем лаял, паскудник, говно заячье. Я те кишки на завязки порву!
– Этого я не прощу. Свидетели есть. За такие делишки в военное время найдут куда упрятать. Мне старость твою жаль, ты же тем и прикрываешься. Мало каторги было! – подал голос Потапов, пятясь к двери.
– Цыть! – топнул ногой Макарыч. – Мог ба тибе годов пять одолжить. Такмо не выдюжишь. Кишка в тибе тонкая. Сдох ба. Оно и к луччему. Раз тибе Акимыч оплакал ба и успокоилси. Жил ты погано и сдохнешь не по-людски. Старость мою не трожь, червяк ползучий. Не про тибе она. Найдетца кому об ей пекчись. Пожалисси – порешу. Свидетелев выискал, подлюга. Брехалка не усохла. Хошь ба усовестилси.
– Отец!
Потапов и Макарыч враз повернулись на Колькин голос. Парень смотрел на лесника.
– Успокойся. Я не дам тебя в обиду – повернувшись к Потапову: – Судить тебя надо. Отца не трожь. Да и Зоей не командуй. Не пойдет она в отряд.
– Она сама пусть скажет.
– Мне уже и говорить не о чем. Все ясно.
Давно его ребята невзлюбили. Избавиться хотели. В разведке другого начальника присматривали. Я их, дура, отговаривала. Сколько голодали из-за него! На наших бедах кандидатскую защитил…
– Всю грязь на меня собрали. Сами чистенькие. А за что тебя искали с милицией? Не иначе в темном замешана. Зачем было разведки менять?
Зойка подскочила к Потапову, но ее удержал Колька.
Макарыч, гулко вдавливая пятками визжащий пол, подошел к двери. Открыл. Вытряхнул в проем Потапова. Буркнул вслед:
– И диет…
Колька нервничал. Мерил избу шагами. Зойка в окно уставилась. Дрожащий подбородок рукой держала. Марья о чем-то с иконой шепталась. Макарыч грыз мундштук трубки. Лицо у него белое, злое. В зимовье – как перед дождем.
И вдруг Зойка охнула. К стеклу прилипла. Потом отпрянула испуганно.
Лесник нутром понял – что-то случилось. А девчонка смотрела на него большими глазищами, – слова не вымолвит, будто язык умолк навовсе.
– Што стряслось? – подскочил Макарыч, — ч ево спужалась? – глянув в окно, обмер.
Потапов на карачках к дому пятился. На него, оскалившись, наступал медведь. Загонял супротивника. Рычал тихо, свирепо. Тот зайцем вилял. В стороны подавался, медведь предупреждающе на дыбки вставал. Лесник вгляделся. Приметил знакомую подпалину на зверином боку Белый ворот рубахи медвежьей, с рыжинкой. И ошейник, какой на вырост своему питомцу пошил, – знак охотникам, что зверь прирученный. Таких в тайге не стреляли.
– Коль! Поглянь, дружок твой объявилси. Давненько не наведывалси.
Только парень к окну подошел, медведь Потапова сгреб. Макарыч руки потирал довольно. Колька молчал. Марья крестилась, кого-то с Богом на тот свет спроваживала.
Лесник взял со стола кус сахара, на крыльцо вышел.
– Гришка! Подь к мине, лешак лохматый.
Медведь, услышав знакомый голос, откинул с лапы Потапова и, поджав уши, с радостным рыком к леснику кинулся. Лапу, как в детстве был приучен, тянул. Мордой всего Макарыча обслюнил, обнюхал. Сахар сразу слопал.
– Ну, пошли в избу, пошли, – позвал Гришку Макарыч.
Тот, свойски обняв лесника, привычно перешагнул порог. К Кольке кинулся. Завизжал, рассказывая о своей жизни. В глаза парня заглядывал. Покосился на Зойку. Потом снова к Макарычу.
– Ворога и зверь чует. Помнишь, Колюшка, как ен за твово сторожа был. Ты хворал. А ен мед с тайги приволакивал. Аж скулил, схарчить сблазнял.
– Помню.
– Мине от смертушки спас. Взад оттолкнул, кады рысь кинулась. Зверь-то ноне верней человека. Три зимы Гришка у нас жил. За пазухой ево принес. Паводок с берлоги выгнал. Утоп ба. Несеть водой, Гришка, тоды без званья, блажит на весь околоток. За шиворот выволок ево. Типерь ен за добро добром платит. В Потапове мово супостата учуял. Сдаетца, чужова сюды за версту не подпустит. Мине по зверьему недоумию завсегдашним хозяином счел.