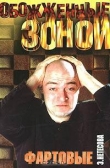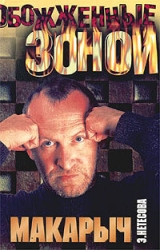
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– А с остальными отрядами что случилось?
– Одни в речке утопли. Лодка в водоворот попала. Остатнии хто с голодухи помер, другии с путя сбились. Тайга в те места никаво не допустила.
– Но вот Потапова?
– Што? С гольными руками выплюнула. Ничевошки не дала. Поводила за нюхалку, тож жисти в отряди поотняла да и выкинула. Нет на те места хозяина и не будить, – уверенно заявил лесник.
Колька барабанил пальцами по пню. О чем-то думал. Где-то по-котеночьи рысь мяукала. Будто молока выклянчивала.
– Ты, Колюшка, шло млад. Тайгу-то хочь и знаишь, хозяином ее тибе ни стать. Много она от тибе скрываит.
– Почему же?
– Когда ты в ее уходишь, харю не хрестишь. Позабыл про все. А она возьмет да и подсунет тибе на путь заместо цветов – ворона. Што наперед тибе промеж дерев поскачит. Што делать-то ставишь?
– Подумаешь, ворон. Не видал я их. Испугал чем!
– Дурак ты вислоухай. Не гонорись пред вороном. В тайге ен свой, а мы пришлыи. Да слухай. Знай, завидел на своем пути цветы – удача, стало быть, ждет. Ну, а ворон, то к смертушке, к трупу видитца. Хто первым повстречалси с им, тот из тайги не возвернетца. Ворон смерть предсказываит. До креста довидеть. Потом на ем жа усопшево отпевать зачнет. Примета верная. Ты слыхал, как ворон на могили кричит? То ен душу покойнава на суд Божий кличить.
– Видно, это от судьбы.
– Черт ты непутя щ ий! Судьбу ить тож умилостивить надоть.
– Как?
– Ворона таво хлебом отманить надоть. Заставить со свово пути сойтить. И, перехрестясь, в дорогу поспешать, штоб планида не догнала.
– Цветы, говоришь, на удачу?
– Не шибко-то оне сустренутца на пути.
– Вот ты говорил, что умрет тот, кто увидел ворона. А если весь отряд увидит. Тогда как?
– Хто первый приметил, тому и могила.
– Даа…
– Ты што башку к коленкам сломил? Аль тож што чуишь?
– Я-то нет. А Зойка…
– Че?
– Прямо над головой ее ворон кружил, когда на практику поехала. Я провожал ее.
– Надолго она подалась?
– На три месяца.
– И далеко?
– Да.
– Эх, сынок, – вздохнул лесник, и резкие складки прорезали его лоб.
Колька зябко передернул плечами. Уткнулся в ладони. Молча смотрел на посинелые угли костра. Он не видел лица Макарыча. А тот шептал молитву. Глаза его к небу тянулись. Где под бархатной занавесью, по его понятиям, Бог живет. Там он судьбы и справедливость вершит.
Лесник искал хоть малейший отклик на молитву. Но небо запечатано, как набитый деньгами сейф. Спрятало все звезды. Облаянный Макарычем месяц, видно, нашел свою половину. И теперь, забыв обо всем, спрятался, ушел к Богу.
Колька, упершись локтями в колени, сжался замерзшим кузнечиком. Откуда ему было знать, что Зойки, его Зойки, уже нет в живых? Злой ли рок был тому виною или проклятая случайность отняла жизнь у девчонки. Удача оставила ее в тот же день, последний день их встречи. Когда, проводив Зойку на профиль, Колька, не оглядываясь, вернулся назад в город. Ее отряд ушел вперед. Голоса людей были слышны неподалеку. Девчонка села верхом на лошадь, тронула поводья. Подъехала к тропинке и уже совсем было хотела спуститься вниз, как перед мордой кобылы из-под куста выскочила мышь. Лошадь встала на дыбы. Захрипела. Округлившиеся ее глаза налились кровью. Она затанцевала на задних ногах, а потом, резко подбросив ими, перекинула Зойку через себя. Девчонка не знала, что старая кобыла пуще смерти боялась мышей. Успокоить ее не смогла, не успела.
Все кончилось быстро. В сознании девчонки умер оборвавшийся звук зурны. Той зурны, с которой был неразлучен отец. Чьи песни, полюбив однажды, запомнила на всю жизнь. Но старая зурна смолкла. Нет песен, нет Зойки. Лишь старая кляча, шлепая с досады мокрыми губами, плелась за отрядом. Может, и кляла себя плешатая кобыла, да ведь не поднять этим Зойку, не вернуть к жизни.
…Уперевшись подбородком в костлявые кулаки, молчал Макарыч. Что-то морозило душу лесника. Он сам пока не мог понять, откуда грянет беда. Только на душе его неспокойно.
А над тайгой, прикорнув на головах деревьев, чутко спала ночь. Незаметно очистившееся небо сплошь усыпано колючками звезд. Перемаргивались звезды, туманились в слезах. Умирали, как люди. Вот одна, прочертив свой последний путь, упала в темноту. След тут же погас. Была звезда и пет ее. Подружки даже не заметили беды. Словно ничего не случилось. Собрались в хоровод, девичьи дела обсуждали. Нарядами блескучими похвалялись друг перед дружкой. Смерть ли, рождение – не трогали их холодные души.
Макарыч глянул на небо.
– Вишь, и там про грешников есть, – указал он Кольке на Млечный Путь.
– А при чем там грешники? – хотел было тот отмахнуться.
– При том. Кабы не оне, той дороги на небесях не было. То всем смертным от их в память осталось. Грешники, оне ить тож сродни каторжникам. Ну, а когда позвал их Господь на суд свой, так оне, окаянные, аж из дому Божьева в бега порешили вдаритца, расплаты спужались. Зазря енто оне. Господь с ими расправился. Враз. Обратил их в песок сыпучий, кой мертвым тленом светитца стал.
Давно его было. А путь их недолгий и ныне всем живым укор за все грешное, што сотворят. Слыхивал от книжника каторжнава: звезды, бывалоче, сдвигались. По-всякому. Кои разбегались. От только ента тропка не движггпш. По ей дорогу в тайге и люд, и зверье сыскиваит. Святая она: што праведное наказание, што крест. И нести ево будуть все.
– Ты сам-то в это веришь?
– А што? Я ба от суда не утек… Ну вот заместо там всяких яблоков райских спирту у Боженьки испросил ба. За спрос ить и на земи в лоб не б ью ть. Ну, а коль прогневил ба, в ад к чертям подался б. В их веселее. Не то спирт – бабы имеютца! Всякий. Там и мертвому мине не худо ба стало. Черти– то только в сказках страшный, взять жа по-всамделишнаму моих другое оне верней оказались ба. Так на што мине рай? На што суда пужатца? Я и сам с потрохами в ад пойду. Абы взяли, — засмеялся Макарыч. – Коли при кончине моей будишь, не забудь под голову бутылку спирту сунуть, все для знакомству сгодитца.
– Со мною уже прощались. И о похоронах говорили. Наверное, хватит отпевать самих себя, – отмахнулся Колька.
– Што-то из тя прохвост егозливай становитца зачал, ровно в пауке не пару портков, а душу на износ спустил. Мудрей мудренаво сибе почитаишь, шалопай! Чево рожу-то от мине воротишь, ровно от прокаженаво? Мине твоя ученость – што зайцу исподнее. Ума ты в городи ни набралси. Последний растерял. Стал, што кабан холощенай. Тот свово хозяина ни признаеть. Ты жа своих почитать перестал. Не уразумишь: рано от мине в бега ударилси. Непутно так. Не по разуму. Не попрекаю. Можа, оно везде ноне так. За доброе по горбу кнутом получать. Ну, што ж… Воля твоя. Токо запомни. Окромя мине, хошь я и темнай, как тайга, науку ту не знавал, нихто не настропалит тибе доброму. От беды не оборонит. Свою жисть заместо твоей не положит.
– Зря ты, отец, обижаешься. И доказать-то мне сейчас нечем обратное.
– Погоди, чую – докажишь, – недобро осек его Макарыч и, кряхтя тяжело, пошел за сушняком.
Ему впервые не захотелось быть с парнем, видеть его, слышать его голос. Тот неспроста не пошел за Макарычем. Боясь сорваться, он закусил до боли губу. Уговаривал себя смолчать. А обидные колкие слова кипели, рвались наружу, но Колька смолчал.
Макарыч заменил ему мать и отца. Колька любил его. Колким холодом обдавало душу парня, когда видел поприбавившиеся заморозки на его висках, в бороде. Будто стылая зима вымораживала душу, горькой сол ью выбеливала гордую голову. Каждая седина, рваная ли морщина – памятка беды пережитой, – о многом говорили Кольке. Он мог, ни о чем не спрашивая Макарыча, прочесть по ним, как прожил тот без него. Как хотелось парню согреть его! Чтобы оттаяла седина, насовсем разгладились морщины, да будто в последний момент тепла не хватало. И мучился Колька, и клял себя за свое неумение. Знал, что когда-то нечаянно сделал что-то, отчего застряла в душе Макарыча заноза неверия. И вот теперь ныла она, беспокоила…
Может, тогда? И вспомнил первый день приезда Макарыча в город. Парень звал его на буровую. Мол, погляди, где я работать стану. Ведь из земли нефть начну добывать. Пойдем, посмотришь, что это такое – нефть. Послушаешь, как земля гудит под ногами. Как с поклоном земным здороваются с человеком качалки на промысле. А ночью буровые в огнях рождественскими елками город обступают. Но Макарыч не пошел. Глянул на Кольку из-под жестких бровей и заругался:
– Те, прохвосту, мозги в науки повыкрутили. Мерекаишь, я тож свихнулси? На што мине под гроб на грехи ваши глядеть? Кровушку с земи вымаити, рази то по-людски? И обозвали-то ее не по– нашенски. Стыдитесь свое ремесло назвать, как оно таво стоить. А я кровопивцем не был. Вы ж, нонешние, не то друг дружку, землю-матку ссиловали. Заместо таво, штоб хлебушек с ей брать, нутро высасывать удумали!
Колька пытался было переубедить, но не получилось. Лесник глянул на него зло и сказал:
– Думал, в тайгу ты человеком возвернесси. Худа ей не причинишь. Ты жа што варнак. Ну, погоди. Не таким, как ты, она рога ломала. Как ба в ей свою кровушку не пролил.
О буровой он больше не хотел слушать. И Колька, возвращаясь со смены, не знал, о чем заговорить
с ним. Вот тогда-то, кажется, и повеяло холодом.
А Макарыч, порядком измотавшись по бурелому, сел на сломанную гнилью пихту. Понюхал табак и, раздумав курить, положил кисет обратно. Здесь, в самом сердце тайги, леснику полегчало. Улеглась обида на Кольку, да и что возьмешь с нечужекровного?
Над головой лесника тренькала жалобно птаха. Жаловалась, что в эту весну не нашлось ей дружка. Никто не посмотрел на старую. А дети где теперь? Даже внуков не показали. Ни червяка, ни комара матери не принесут. В заботах забыли о ней. И плакала жалобно птаха, надрывала себе душу. Что ждать ей нынче от жизни? Раз на нее никто не глянул на птичьих смотринах, знать, жизнь кончилась. Уж никто не поможет ей подновить, утеплить гнездо. Да и зачем? Потомства теперь не ждать, а значит, о гнезде заботиться ни к чему. В эту зиму птахе не увидеть заморского тепла. Где-то скрутит ей голову лютая стужа. Запорошит снегом былые быстрые крылья. И станет в тайге одной холодной могилой больше. Была жизнь и нет ее…
Где-то, вспомнив о тепле, гудели, вынюхивая цветы, осы. Простреливали своими голосами набухшую запахами тайгу. Одна запуталась в бороде Макарыча. Забилась, завопила о помощи. На ее крик рой прилетел. Осы кружили, кричали, облепили голову и лицо лесника. Поналезли за пазуху. Макарыч сидел, не шевелясь. Осы успокоились. Потом он выпустил из бороды пленницу. И, усмехнувшись, проговорил:
– Такая махонькая, а шуму натворила, ровно зверь путняй. Знать, за жиз ню шку всеми лапами цепляисси. Ишь, волюшке возрадовалась! Што пла н ир в небес и метнула. Живи, живи, дуреха! Мине своя жисть опаскудела. Твоей вдобавок не надобно…
Вынюхивая тропинку, спотыкаясь о каждую кочку, промеж деревьев бежал бурундук. С горя земли не чуял. Ему теперь, видать, ничто не мило. Все потеряло свой смысл. Морда зверька покусана, исцарапана. Как душа у пропойцы. Уши и те клочьями обвисли. Хвост, извечно торчавший сучком, п овис тряпкой. Зверек часто останавливался. Зализывал побои. Рычал. Делал страшную рожу кому-то. Пугал. Но куда уже придумать страшнее? Бурундук-то этот в ручье сам себя поутру не узнал бы. Макарыч, глядя на зверька, смеялся:
– Кто хто ж тибе эдак отделал-то? По виду схоже – соперник изукрасил. Ишь, как губы порвал! А можа, и бурундучиха. За старость. С баб оно такое станитца. В зле оно и бурундучиха рыси худче.
Бурундук, не обращая внимания, сел почти напротив лесника и принялся хвост выправлять. Зализывать.
– Экая незадача. Дажа тут изувечили! — Макарыч хотел было прийти на помощь.
Зверек, встав на задние лапы, с испугу замахал передними, засвистел, скорчил свинячью рожу. Макарыч отступил:
– Дурак пужливай! С чево так-то? Поди, за трусость Бог шельму и пометил. Тьфу ты, нечистай! И надо же! Мине, ровно малому, харю скорчил!
Макарыч рассмеялся. Встреча с бурундуком развеселила. И он пошел к Кольке, торопко продираясь между стлаников.
Парень уже подживил костер. Стоял. Вслушивался. Всматривался в тайгу. Ждал Макарыча.
Лесник посмотрел на длинную нескладную фигуру парня. Жалостливый комок сжался в груди. Казалось, погоди Макарыч еще немного, и закричит Колька испуганно на всю тайгу, как ко гда-то.
«Аника-воин, мокрота с-под носу свесилась, а тож в мужики лезит. Шшенок молошнай. Хлипкий покудова. Кости в тибе да силушки малость поболе, чем у мураша. Сотреть тибе тайга. И Господь не подможит», – огорчился лесник и пошел к костру.
Завидев Макарыча, Колька успокоился. Сел ближе к огню. Снял чайник.
– Что долго?
– Тайгу слухать ходил.
– На ночь глядя?
– А што с таво? Мине ее пужатца ужо ни к чему. В ей смертушка моя по пятам ходить. Караулит пушше другое. От ей не упрятатца, не уберечься. Да и на што? Хожу, покудова ноги носют. А там – будь што будит,
– При чем же тут тайга?
– Все едино мине в ей. И жить и умирать. Она хитрющая. То расхохотит так, што колики осилют и жить любо станить. То зверем обернетца. Душа, ровно телячий хвост, дрожать зачнет. Ну, да чиво там? Тут мине хочь беда лихая, або снег в нутро – все любо.
– Я-то думал, из-за меня ты ушел.
– И ето было. Осерчал. Спорченай ты возвернулси.
– Из-за буровой?
– В нюхалки своей побуров. Мине ноне едино, чем ты тешитца удумаишь. Все одно. В душе твоей заместо Бога дырка исделалась от науки. Куды эдакому уразуметь речь людскую?
– Значит, в техникуме вместо диплома я шиш получил?
– Чево?
Колька вытащил завернутый в платок новый диплом и, показав его Макарычу сказал:
– Такое дуракам не дают.
Лесник взял в руки диплом. Поднес поближе к огню. Развернул. И повернулся к Кольке:
– Ета хреновина тибе за науку дана?
– Конечно!
– Знать, ты типерь не просто олух. На обычных-то печатку не ставят. А што ты стой штукой бахвалисси, то зря. Запамятовал я, как твой документ зоветца, ведаю, што за ево ты и осьмушки спирту не купишь. И по тяжкой не попользуисси. Потому как жестокая она, што твои мозги. Знал ба про то, в жить тя в науку не послал.
Макарыч сунул Кол ьк е диплом и отер руки о штаны.
– Ну, знаешь что! – парень запрятал диплом поглубже и, отвернувшись, закурил: «Сдержаться, только сдержаться».
А лесник тем временем сыпанул в чайник добрую пригоршню заварки. И будто забыл о недавнем разговоре.
– Што топырисси, анафема? Не косись. Иди-ко вот лучче поближе, поснедаем чем Бог послал. На мине могешь хочь век серчать. На еду – не моги. Ухи порву. Хочь ты ноне и ученай змей.
Колька нехотя подошел. Ели молча. Макарыч хрустел черемшой, прихлебывал из котелка стылую уху.
– К Акимычу сбираисси наведат ц а? — спросил он Кольку внезапно.
– Был уже у него.
– Вона как!
– Бабка Авдотья писала, что занемог он сильно.
– С чево ба?
– Говорит – с тоски.
– Ну и как ен? Поди, с тоски раздалси, ровно кабан в зиму? Блажь она ить с жиру в голову преть.
– Кто его знает.
– Нетто ен, барсук холенай, сыскал в сибе тоску? Откудова выгриб в сибе придурь эдакую? Аль опять в блажь вдарилси?
– Боится он за меня: «Как, мол, один в тайге останешься?» Объясняю, что с отрядом работать буду. А дед, знай себе, сокрушается. Отряд, говорит, твой зеленый. Тайги не знает. Смеется, что головы наши пустые, как карманы его штанов.
– То верно, – поддержал Макарыч.
– Ну и еще поклон тебе передавал. Да тетке Марье. Авдотья об этом же говорила.
– Знать, не забыл про нас, старый лешак. Ты мине проскажи, какой нынче Акимыч? Охота повидать ево. Поди, не признаю? Брюхо-то, небось, харю закрыло?
– Да нет! – рассмеялся Колька.
– А бабка там как? Все от люду на печь сигаит?
– От меня не пряталась.
– Хошь сказать, мине спужалась?
– Не знаю…
– Так слухай! Ежель я не мужик, так бабы и поновее закопались. Нешто мине страшитца можно? Ведала б она, кочерыжка облезлая, што ране я на ее ни в жисть не глянул ба. Дажа коды с каторги ослобонился.
– А чем она плохая?
– Морда в ей на бабью не схожая. Ровно коза с бурундуком сгреховодничили.
– Сам говоришь – с лица воду не пить.
– В бабе харя справная должна быть. Штоб в ночи от ей не пужатца, не отвертыватца, – не сдавался Макарыч.
– Не понимаю я тебя, то говоришь, что бабу, как ягоду, присматривать надо – незаметную. Мол, она вкусней. Та, что на виду, – всегда отрава.
Лесник подвинул ближе к костру головешку. Промолчал. Да и что скажешь? Прав малый. По глупости иль с тоски не один мужик на красивой бабе обжегся. Она и верно, что волчья ягода. Висит на кусте крупной вишней. Аж светится. Глаз оторвать нельзя. А съел и взвыл волком. И жизнь не мила. Настоем полыни нутро обожжет. И выплюнуть рад бы, да середка отравлена. Хоть вытаскивай кишку наружу прополоскать. Эх, бабы, бабы, кто из мужиков не зарекался не глядеть в их сторону!
– А что, отец, если я на будущий год за Зойкой съезжу? Она техникум как раз закончит. Попробую ее в свой отряд переманить.
– То дело твое. Токо, ежель совета испрашиваишь, знай: в тайге бабе делать нечево. В дом ее веди. Не безроднай. Зойке бродяжить век и вовсе не пристало. На што ей с мужиками равнятца? Удел ее, как у всех, детву родить да у печки править. Так и передай девке от мине, кода поехать за ей удумаишь…
Когда сонная заря, приподняв юбку, ступила умыться к реке, пробудился Макарыч. Хлопнув себя по-ямщицки по бокам – для сугрева, побежал за сушняком. А когда над костром заплакал паром чайник, лесник спокойно присел у костра. Закурил такую же старую, как и сам, трубку, сделанную под окривевшего льва. Пасть и ноздри деревянного зверя почернели. Будто он вместе со своим хозяином на каторге цингу перенес. А когда-то пухлые щеки стерлись, обвисли. Лев пускал дым в белую сырость тайги. На деревья, которые, освобождаясь от тумана, нехотя просыпались. Взбухшие от влаги листья роняли седые слезы тумана на траву.
Лев, как и лесник, был мудр. Он не любил, когда его брали чужие руки, а хвост, служивший мундштуком, зажимали другие зубы. Казалось, они вот– вот откусят шишку на хвосте. Сломают лапы и даже голову. И тогда назло чужаку трубка начинала капризничать. Сопела, не выпуская дым. Трещала зло. Обжигала пальцы. Лев знал: намучившись, его снова передадут в руки хозяина. И тот, обтерев хвост, легонько продует трубку, помнет табак, и успокоенный лев начнет послушно пускать кольца дыма из носа, из пасти. Вот и теперь трубка с хозяином вела молчаливый разговор. Макарыч подкидывал в костер сушняк, смотрел на спящего Кольку. Тот разметался на стланиковых лапах. Шевелил губами, будто ругался на наседавших комаров. Те, почуяв поживу, со сна и вовсе оборзели. Колька дрыгал ногами. Макарыч накрыл его плащом. Комары отступили, парень успокоился.
Лесник снова подвинулся к костру. Грел озябшие руки. Усмехался чему-то в бороду грустно. Впервые заметил, что руки-то дрожать стали. «С чево ба им трястись-то ныне»? А лев смеялся в тон, подпрыгивал во рту, удивляясь: деревянный он, а и то почуял старость друга.
Годы… Случалось, на каторге не раз предлагали Макарычу за трубку целую буханку хлеба. Когда тот голодал по несколько дней. Последние штаны мог променять Макарыч, рубаху теплую единственную отдал, не задумываясь. А вот трубку сберег. Под нее ни разу в очко не играл. От вороватых прятал, как крест нательный. В драке пуще глаза ее берег. И давно бы мог лесник приобрести другую трубку. Ведь попадались всякие. Их предлагали ему. Но даже в руки не брал их Макарыч. И трубка платила хозяину такою же верностью. Простынет, бывало, лесник. Голову заломит. Да так, что день ночью покажется. Искал тогда он сон-траву. Клал на теплую землю, нагретую костром. А потом растирал сухую и набивал в трубку. От той травы не только у Макарыча, у льва нутро трещало: горько, щекотно. И в сон клонило. С часок-другой после дремал Макарыч, просыпался совсем здоровым. И жить хотелось. Другие трубки сон-траву не брали. Слабые они для нее были.
Вот и теперь, как ни бодрился Макарыч, а снова лечиться надо: лихоманка затрясла. Того и гляди, скрутит совсем. Оттого лесник невесело смотрел на просыпающуюся тайгу.
На костре на прутьях уже дозрела красноперка. Бухтел чайник. Пора будить Кольку да возвращаться домой. Там Марья, небось, все глаза по– выплакала у иконы. И лесник, вспомнив о доме, заулыбался.
Колька проснулся быстро. Пока он умывался, лесник заварил чай, разлил его в берестяные кружки. Помолился. И только тогда позволил парню взяться за еду.
– Дак ты дома сколько пробудешь ноне?
– Не больше двух дней.
– Пошто мало?
– И рад бы больше. Да ты знаешь… Не до отпусков. Хорошо хотя на столько заскочить удалось.
– Ты мозги мине не погань. Проскажи-ко, с кем в тайгу сбираисси? Што за люди с тобой пой– дуть?
– О многих из них слышал. Кроме проводника. Поначалу профиль пробьем для сейсмиков. А там бурить начнем.
– Каво ты и ню пробивать навострилси?
– Дорогу в тайге прорубим. Где нефть думаем найти.
– Шустрай какой!
– И найдем!
– Ты што? Оставлял ее там, енту нефть?
– Ученые говорят.
– Ученаи твои не Господь Бог.
– По-твоему, я хуже Потапова? Тот уголь нашел, а я не найду ничего?
– Дурак! Да угля тут повсюду полно. Ковырни сапогом и бери сколь унисешь. Чево искать-то? Невелика цена такой находки! Аль людям боле и занятца нечем, как то, што под ногами валяитца, за клад выдавать? Хотя с Потапова станитца…
– А я не уголь пойду искать.
– Хрен редьки не слаще. Ежели порешил тому ослу доказать, што и ты могешь чевой-то сыскать, так то и вовсе не занятия. Выходит, Потапов-то от старости дурак, а ты смальства.
– Это надо доказать.
– Кому жа?
– Ты вот его дураком зовешь, а он ученую степень получил. За тот самый уголь.
– Ученай с ево, как с пса свистелка.
– Он собирается снова сюда на поиск приехать.
Макарыч нахмурился и, пнув ногой попавшийся под ноги сучок, буркнул зло:
– Всяку перхоть по весне к нашиму берегу прибиваить. Ровно других местов ей нету.
– Не сам приплывает. Пришлют, – уточнил Колька.
– Аль люди начисто перевелись? Своих поганцев девать некуда, – и разозлившись, гаркнул: – Ну что расселси? Пошли домой.
Они уже одолели половину пути, когда Макарыч внезапно остановился и сказал:
– Шабашить станим.
– Может, пойдем?
– Куды торописси? Погодь, насид и сси в избе. На волюшке оно и червю легше. Хочь и безглазай ен. И душа, сказывають, в одной кишке с потрохами живеть.
– Ну давай…
Макарыч стянул с ног осклизлые резиновые сапоги. От портянок потянуло едким духом. Колька отвернулся. Лесник, заметив это, крякнул. Смолчал, что все носки приказал Марье в сельсовет отдать. Фронту. Сам отвез. Те, которые припрятала баба, Кольке выслал. В науку. Потому сам портянки из мешковины носил. Марье, когда бранилась, сказывал, что его мослам носки дышать не дают.
Марья все понимала. Умалчивала, как ей тяжело видеть изболелые ноги мужа. А Макарычу только теперь стало досадно за себя. Он размотал портянки. Кинул их на куст просушить. Красные вспухшие н оги его, почуяв волю, задышали. Заломило согнутые от холода пальцы. Согреваясь на солнце, они болезненно оживали.
Колька встал будто бы покурить.
– Хрен с тобой, раз сидя разучилси! Поди ж не задницей дым глотаишь? Ну и стой! Дубина стоеросовая. В тибе ить мозга, што у улитки в заду живеть…
– О чем ты?
– Ни об чем, – затряслась, задрожала вовремя схваченная в кулак борода Макарыча. Да глазам вдруг жарко стало, ровно у большого огня. Засвербели они, зачесались. Макарыч отвернулся. Плечи его под телогрейкой дрожали ознобно. Только тайге доверил лесник сухие слезы свои… Она видела, как побледневшее лицо старика изнутри болью плакало. Посинелые губы Макарыча вытянулись в сплошную полоску. Да так, что не разжать их. Хотя воздуха-то и не хватало. А попробуй, хватани его, и хлынут из глаз предательские слезы. Их, как позора, боялся лесник. И терпел, и мучился, и давил в душе озверелый крик на себя, на судьбу, на Кольку.
Лесник забил махрой трубку. Вдохнул побольше горького дыма. На душе полегчало от крепких затяжек. В глазах посветлело. И тут он увидел, как к кудрявой, еще совсем молоденькой березке крепко прижались побеги. Буйное потомство ее. Они будто руками ухватились ветками за материнскую юбку, боясь отпустить ее.
«У их, поди-ка, поразумней, чем у людей. Детва накрепко с родителем живеть. И почитаить. Неужто мине помене березы пришлось перенесть? Аль я худче древа? Ровно под забором у судьбины народился».
Парень тем временем вдавливал окурок в подошву сапога. Исподлобья наблюдал за Макарычем.
– Ну что, пошли? – не выдержал он.
Лесник пощупал портянки.
– Ождать ба ишо надоть. Да и чево ноги шибко бить. При Марье ты равно молчать станишь. Так хочь тут наговоримси досыта.
Колька рассмеялся.
– Так она за всех нас одна наговорит. При ней скажи я, к примеру, как с геологами в то лето работал, она и станет причитать, что курица над протухшим яйцом. Самому себе противным покажешься. Так уж лучше помолчать.
– Эх, Колька, Колька, добра-то в твоей душе не боле, чем в гнилой колоди. Баба, коль человек ей дорог, вместях с причитаньями без жали остат ню жизшошку на тибе положила. А ты судишь ее, слабаю. За што? Непутнай… Откинь се кудахтанье. Так уж баба состроина, она ж с тоски скочуритца. Баба без слез, што хлеб без соли. Создал их такими Господь. А над Божьим творением и глумитца грех. Наша Марья, слава Богу, хозяйка в доме. Таких ишо сыскать! Судить жа свою бабу станишь, кады заведешь. Тут жа не моги! Хребет перешибу!
– Да ладно тебе грозиться. Не маленький я, чтоб пугаться. Ну не то сказал. Так из-за этого меня но всякому обзывать можно?
– Замолкни! С-сукин выродок, – подскочил Макарыч.
– Ах! Так! – Колька взвалил на плечи рюкзак и, шагнув от лесника, бросил через плечо: – Як своим…
Макарыча будто оглушили. Он смотрел вслед парню. Вслушивался в утихающие звуки шагов. На полуоткрытых губах его повисло недосказанное ругательство. Борода еще прыгала от гнева. Сжатые кулаки еще не успели опуститься, а в душе уже все стонало от боли и горя. Будто кто на последнем скаку срезал стрелой старого коня. И вот упал он… В глазах темно. Ни красок, ни упругого ветра. Тихо. Вот только ноги, забыв об умершем сердце, все еще вздрагивали, продолжали свой бег. Макарыч тоже ничего не почувствовал. Лишь ноги, проклятые, затряслись. И пет в них крепости. Не удержали. И заалели в глазах лесника кудрявые головы берез. И солнце кровью небо залило.
«Колюшка», – то ли сорвалось, то ли подумалось в затихающем сознании. В ответ услышал замирающий топот шагов. А может, это были вовсе не шаги, а последние отголоски старого усталого сердца? Грустные патлы берез перешептывались над человеком. То ли осуждали его, неугомонного, то ли, жалеючи, оплакивали, отпевали.
На ветку, присев тяжко, чуть не переломив ее, кряхтя, старый ворон уселся. Удивленно на лесника выпучился. Уставился: живой или нет? Клювом горбатым крутнул. Нет, не пах мертвецом. И могильщик предусмотрительно решил убраться. Чтоб лишнего шума не натворить. Только таежная сплетница сойка не утерпела. Завидев лесника недвижным, затараторила на всю округу. Созвала на зрелище всякую таежную мелочь. И та ну выдумывать своим птичьим бабьим умишком! Что не с хорошего мужик в тайге свалился. Не от ума. В болтовне, забыв о приличии, к Макарычу птахи вплотную подступили: трещали, кричали, спорили. От этого Макарыч очнулся. Непонимающе огляделся. Хотел встать, но боль подломила. Он вспомнил все… Прошептал сквозь стиснутые зубы – лишь ветер подслушал:
– Господи, дай силушки до избы добраться.
В глубокую ночь он приплелся к порогу зимовья. Долго сидел на пороге, подставив седую голову белому туману. Слушал сонное бормотание тайги. Скрип березы над обрывом. Жалобное поскуливание состарившейся избы.
«Скоро всем нам крест, помрем тут. И я, и Марья. Хто-то другой зачнеть тут хозяевать. Уж не как я. По-своему. По-чужому. Ведь сам проканителил зря. Хозяина углу своему не оставил. Взрастил Бог весть каво. Все потому, как кровь в ем не моя. Помереть ежели доведетца, глаза никто не закроет. Жил холодно, помру таво худче…»
И вдруг припомнились игрушки, припрятанные в завалинке. Лесник грустно усмехнулся. Мастерил он их, нехитрых, веря накрепко, что вот– вот в избе его внучата объявятся. Ждал их появления, тихо радуясь заранее, что и его кто-то, веря в это слово, дедом назовет. Своим, кровным признает. А теперь… И закувыркались мысли по-нехорошему. Заскакали вперемешку с горькими предчувствиями. Их и при желании не угомонить.
Лесник поежился. И, стряхнув мрачное, ступил к двери. Та, облегченно охнув, впустила в избу хозяина, оттеснив собою все темное, что было у него позади.
Заслышав шаги, вскинулась с лавки Марья. Зажгла свечку. Всполошенно заголосила, уткнувшись мокрым носом в исхудалые щеки мужа.
– Будя тибе, мать. Не изводись. Ить живой я. На што ревешь, ровно по упокойнику? – обнял лесник жену.
Марья, вспомнив что-то, испуганно икнула. И, не решаясь спросить, удивленно смотрела на Макарыча, и в глазах ее плескались тоска и беспокойство.
– Чево ты?
– А Коля? Неужто разминулись?
– Ты вон об чем, – недовольно насупился лесник.
– Отец, миленький! Иде Коля? Что с ним?
– В отряди ен! Ушел. Сказал – пора.
– Господь с тобой! На что скрытничаешь? Мне про другое говорено. Время у него было. Может, что стряслось?
– Угомонись, квохтушка! Аль те мине мало? - пытался уйти от разговора Макарыч.
– Не мучь, отец! – кинулась к нему в ноги Марья. – Аль грех какой?
– Отыдь! Нетто я убивец! Ушел ен. Навовси ушел. Мине кинул, ровно объедок. Хто ево, кобеля, взрастил? А ен, паскуда, мине што харкнул в рожу. К своим, сказываит, пойду. В отряд! Вишь? Там у ево родныи заимелись. А я-то, чуть не сдох там, коды ен смоталси. Нужны мы были, покудова в человеки не возвели. Ноне гребуить! От портянок нюхалку отворотил, ровно от дерьма. Нехай хочь сгинит, отрекусь от супостата!
– Отец! Не гневи Бога. Зачем так? Господь ево послал нам! Не бранись, – умоляла Марья. Макарыч, побычившись, вытащил трубку.
– Погоди! Поешь вначале, Бога поблагодарствуй. А уж п отом и за кадилку берись.
Лесник отмахнулся от жены. Закурил. Та послушно присела у стола. Подперла кулаком щеку, смотрела на Макарыча. Думала о чем-то. То ли со сна, то ли с перепугу от услышанного зябко ежилась. Внешне баба вроде и успокоилась. Но вот глаза… Они не могли обмануть Макарыча. Он видел – неспокойна Марья. Знать, станет всю ночь вздыхать. Подушку слезами вымоет. А вот чего – попробуй пойми. Сама не скажет. Выспросить надо. И лесник, выждав немного, подошел к жене:
– Ну, што тя гложит?
– Да нет, отец. Нынч е -то ладно.
– А намедни?
– Чего с тобой в тайге случилось? Отчего чуть не помер?
Макарыч затопал неуклюже. Матюгнулся. Марья подскочила с испугу, а лесник, обозвав себя так, что самому скверно сделалось, попросил жену: