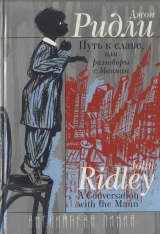
Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"
Автор книги: Джон Ридли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Крупье запустил рулетку.
Кто-то побарабанил по моему плечу. Я обернулся. Джек Энтрэттер.
– Джеки! – Он приобнял меня за плечо, будто старого друга после долгой разлуки. – Как дела, малыш?
– Хорошо. Очень хо…
Шар остановился.
Крупье выкликнул:
– Семнадцать, черные.
Фишки сгребли. Кое-кто получил выигрыш по ставкам.
Лилия положила на стол еще пару сотен.
Джек, глядя на меня, едва заметно наклонил голову в ее сторону.
– Лилия, познакомься, пожалуйста, с Джеком Энтрэттером. Он управляет этим заведением.
Лилия улыбнулась, кивнула:
– Добрый вечер. – И ее внимание вновь переключилось на ставку.
– Черные внутри!
– Ладно, Джеки, если тебе что-нибудь понадобится, все равно что, ты только дай мне знать, – сказал Джек, обращаясь ко мне, но стараясь, чтобы услышала Лилия. – Я лично обо всем позабочусь.
Если Лилия его и слышала, то никак не показала этого.
– Ну, гм, ну, желаю хорошо провести время. – Уязвленный в лучших чувствах, Джек скользнул обратно в толпу людей, которые шныряли по залу, сжимая в руках деньги и высматривая, где бы получше их просадить.
Я снова взглянул на стол как раз в тот момент, когда шар остановился.
– Двойное зеро, зеленое.
Фишки сгребли. Кое-кто получил выигрыш по ставкам.
– В европейских казино на рулетке зеро в единственном варианте, – вздохнула Лилия. – Что правильно. Зеро – это нуль, это число. Все начинается с нуля, да? У него нет ни плюса, ни минуса, это не добро и не зло. Просто он существует… В Лас-Вегасе все по-другому, Жаке. В Лас-Вегасе – двойное зеро. Почему так? Двойное зеро – это уже не число. Что такое дважды нуль? Снова нуль. Нуля не может быть больше или меньше. Быть зеро, быть нулем – дальше некуда.
Лилия была в редкостной форме – неизменно непостижимая, как обычно.
Поспешив выручить Даму Лас-Вегаса, я ответил первое, что мне успело прийти в голову:
– Двойное зеро – это просто… это просто изюминка такая. Ну, понимаешь, в любом заведении должна быть своя изюминка. Такая, чтобы они лишний раз могли выиграть, а ты – проиграть.
Лилия обвела взглядом казино, всех этих людей, снующих от стола к столу, все те крупные суммы, что ложились на стол и потом сгребались, а изредка кому-то выплачивались, с тем лишь чтобы их снова выложили на стол и сгребли в кучу.
Она сказала:
– Зеро – дыра, на которой выстроен этот город.
– Похоже на то, – кивнул я.
– И населен он племенем двойных нулей. А какой еще человек захочет поселиться в этом аду, кроме дважды дураков, если простых дураков везде хватает?
Она поднесла ко рту новую сигарету.
Я щелкнул зажигалкой.
И вот что я вам скажу: когда женщина говорила так, как сейчас говорила Лилия, глубоко и мудро, независимо от того, был ли смысл в ее словах или нет, имелось в ее речи нечто такое, что хотелось немедленно затащить ее в постель.
Откуда-то из глубины казино выкликнули:
– Деньги играют!
* * *
Я был у себя в комнате, у телефона. На другом конце провода – и страны – была Тамми.
– Эти ребята совсем с ума сошли, – рассказывал я. – Стоят себе на сцене, бухают, травят друг другу анекдоты. Ничего вообще не делают – а у шоу колоссальный успех. Ты бы видела!
– Хотелось бы.
– Ну… это же спектакль, понимаешь. Не думаю, что тебе слишком бы понравилось.
– Я не из-за шоу хотела бы приехать.
– Понимаю. Понимаю, но, знаешь, сейчас не очень-то подходящее время. Фрэнк – он такой… Он любит мальчишеские выходки. Ему уже сорок с лишним, а он все еще как ребенок. И он… когда он что-то велит делать, нужно быть на месте.
– Так когда же я тебя увижу?
Телефон начал плавиться у меня в руке.
– Я еще неделю побуду здесь, в Лас-Вегасе, а потом… я думаю ненадолго вернуться в Лос-Анджелес.
– Тебе начинает нравиться Лос-Анджелес.
– …Я там кое-какие связи налаживаю. Но ты не думай, если что, я могу что-нибудь и отменить, – предложил я с легкой неохотой в голосе.
– Не надо. Тебе нужно быть там. Я могу с тобой потом в Нью-Йорке увидеться.
– Договорились, детка!
Тамми вздохнула:
– Я скучаю по тебе, Джеки. Я скучаю по тебе и люблю тебя.
– Я тебя еще больше люблю.
Мы оба повесили трубки.
– Ты очень хорошо сделал, – сказала Лилия.
Я повернулся к ней – она, нагая, лежала под простыней.
– Что я хорошо сделал? Что солгал своей девушке…
– Ты сделал это ради нее. Ты сделал все, чтобы ей не было больно, сказал, что скучаешь, что любишь ее.
– Это правда.
– Тогда ты не лгал. Это еще лучше.
– Еще лучше было бы, если б я ее не обманывал.
– Да, конечно, но это же невозможно.
Лилия вытянула руки, обнажив темнеющие ареолы и соски величиной с большие пальцы. Нет, отказаться от этого было немыслимо.
– Поэтому, – подытожила она, – лучшее, что можно придумать, – это ложь. И это правильно. Ты ведь любишь ее. Не меня.
– Это не значит, что я…
– Очень мило, конечно, что ты заботишься о моих чувствах, но ты сам сказал, что ее любишь.
– …Да. И собираюсь на ней жениться. У меня даже кольцо есть.
– Почему же ты ей его не подарил?
– Потому что это было бы несправедливо. Ты бы слышала, как она поет. У нее такой голос… Я бы на это не пошел, если честно. Не хочу лишать ее публики…
– Это неправильно.
– Что?.. Лгать ей – это хорошо, а позволять ей петь – плохо? – выпалил я.
Широко зевнув, Лилия ясно дала понять, как ей скучна моя ярость.
– Ты не женишься на своей девушке совсем не ради нее. Ты не делаешь этого ради себя самого, ради собственной свободы. Ты просто хочешь делать то, что тебе нравится, жить так, как тебе нравится…
– Ты неправа.
– Я всегда права.
– Это эгоизм в тебе говорит.
– Нет, не эгоизм. Я все знаю о мужчинах, о том, что ими движет. У женщины, если она красивая, есть выбор: или быть глупой, или все понимать. Глупая женщина счастлива, если верит, что мужчина любит ее не только за торчащие соски и что с ней хорошо обходятся не только в надежде на секс. И такая женщина очень, очень довольна тем, во что верит… Но я не из таких женщин. Я все понимаю. Я знаю, что от одиночества меня отделяет только то время, в течение которого состарится моя кожа. – Лилия провела пальцем по щеке. – Один чудовищный шрам – и я останусь одинокой. Я это знаю. Я все это знаю, и иногда из-за того, что я знаю, мне… мне делается…
– Ты ко мне пришла, – напомнил я. – В «Сайрос», в мою гримерку. Не я же приударял за тобой. Мне никогда в жизни, живи я хоть миллион лет, не пришло бы такое в голову. Ты сама ко мне пришла.
– Да. Это я к тебе пришла. И у тебя есть любимая женщина. Ну так скажи, ты бы вообще был со мной, если бы не это? – Ее руки скользнули к грудям. – Или это? – Ее руки сползли еще ниже.
– Это еще не…
– Я тебе вообще интересна как человек, Жаке, или я для тебя – просто… предмет секса?
Была ли она мне интересна как человек? Кроме беглых реплик, которыми мы обменивались до и после минут близости, – что я знал о Лилии? Откуда она, кто были ее родители, о чем она мечтала в детстве или чем бы она занималась в жизни, если бы не занималась тем, чем занималась?
Полное незнание.
Лишь тогда я вдруг понял, что в той невозмутимости, в том хладнокровии, которые я давно подметил в Лилии, можно было прочесть не только отстраненность богини. В них читалась и печаль человека, ясно осознающего собственную участь.
Лилия действительно все понимала.
Она все понимала, и это причиняло ей боль. И в тот момент мне захотелось обхватить ее, обнимать и целовать ее – и впервые при этом мною двигало не просто вожделение. Поняв это, я сам себя устыдился.
Лилия выбралась из кровати, накинула одежду на свое нагое тело. Я попросил ее не уходить.
– Не беспокойся, – ответила она. Голос у нее был ровным и умиротворяющим. – Я еще вернусь. У нас с тобой еще не все кончилось.
Она нежно поцеловала меня и ушла.
Я немного посидел.
А потом, не зная, чем еще заняться, отправился в казино и позволил Лас-Вегасу оторвать от меня еще кусочек.
* * *
– Мы выбили тебе телевидение! – выпалил Сид одним духом.
– У Салливана?
С таким же успехом можно было пнуть Сида в живот: он сразу будто задохнулся.
– …
– В шоу Фрэн.
Услышав это, я испытал смешанные чувства. Часть меня ликовала: давно пора. Я не винил Фрэн, ведь понятно было, что Си-би-эс отнюдь не жаждала приглашать сравнительно безвестного черного комика в свою свежезапущенную программу. Другим чувством было огромное разочарование. Я-то мечтал о Салливане. Я-то рассчитывал, что после «Копы», после «Сэндз», после «Сайрос» я заслужил-таки Салливана! Да, выступить в шоу Фрэн было бы хорошей рекламой, но, в конце-то концов, значение для меня имело только шоу Салливана.
– Это прекрасная возможность, Джеки.
– Понимаю.
– Шоу Фрэн пользуется успехом, да и телепередача – любая телепередача – означает прорыв.
– Понимаю, Сид.
– Да, но я-то знаю, что ты разочарован…
– С какой стати разочаровываться оттого, что буду выступать в шоу своего лучшего друга? – солгал я. И чудо, если Сид проглотил наживку. Уж он-то знал меня как облупленного. Даже по телефону он по голосу угадывал мои истинные чувства.
– Запланировано, что ты выступишь через три недели, – сухо сообщил он. – Я устрою тебе кое-какие встречи в городе, чтобы ты из привычного графика не выбивался. Тебе надо выступить на твердую пятерку.
– Конечно. Здорово. – Я употребил все свои силы на то, чтобы мой голос прозвучал искренне. – И оставь вечер свободным для ужина.
– По крайней мере, один.
Сид повесил трубку.
Я повесил трубку.
* * *
– Организация. Вот что главное. Индивидуальная активность – это по-своему правильно. Она демонстрирует белым, что то, что происходит в черной общине, – гражданское неспокойствие, – не ограничивается каким-то одним районом, одной областью. Но ограниченная индивидуальная активность приносит лишь ограниченные результаты. Главное – это организация.
Говорил Андре. Андре был весь черный – не только цветом кожи. На нем был черный кожаный пиджак, черные штаны, темные очки, хотя мы сидели в помещении. Мрачной была и его речь, интонации. Я никогда не встречал этого человека раньше. Его привел в мою нью-йоркскую квартиру Моррис, бывший Малыш Мо, который сидел теперь как-то боком чуть поодаль и чудаковато меня разглядывал, как будто это он, а не Андре, не был со мной знаком раньше. Моррис изменился. Он не просто стал отстраненным и суровым, он изменился физически. И не только годы были в этом виноваты. Его лицо покрывали шрамы, а самым заметным дефектом была вмятина на виске возле левого глаза, по-видимому оставленная на память полицейской дубинкой.
Андре продолжал:
– Сидячие демонстрации, которые мы в этом году провели по всей Америке, оказались успешными. Магазинам «Вулвортс» пришлось открыть для нас свои прилавки. Теперь черные американцы везде могут сесть и поесть, как и белые люди. Вот в чем сила организации. Ты не взываешь к их сердцам – ты нападаешь на их кошелек. Они начинают терять деньги – и тогда, можно не сомневаться, они откроют свои двери. А в мае начнутся Маршруты Свободы…
– Что? – переспросил я.
– Десегрегированные поездки в автобусах, – подал голос из своего угла Моррис. Он произнес это очень тихо, как бы не желая отрываться от вдумчивого разглядывания меня.
– Черные будут ездить вместе с белыми, – пояснил Андре. – Мы начнем в столице и проедем до Бирмингема. Будем сидеть, где пожелаем, со всеми удобствами, с какими пожелаем: ведь закон же говорит, что все это мы имеем право делать. Но все это требует организации, Джеки. Вот о чем я твержу: организация.
– А что же… Я хочу сказать, почему вы ко мне пришли с этим?
– Мы пришли к вам за поддержкой. Мы пришли к вам за тем, чтобы вы одолжили нам свое имя. Понимаете, мы устраиваем протест или марш, а про нас пишут: «Черные агитаторы чинят беспорядки». А если мы привлечем в свои ряды кого-то вроде вас, тогда все будет истолковано иначе: «Джеки Манн возглавляет демонстрацию, чтобы положить конец сегрегации».
– Вы так говорите, будто я – звезда.
– А разве нет? Куда бы я ни повернулся – везде натыкаюсь на ваше имя.
– Ну не настолько же я… Меня недостаточно знают. – Говоря это, я испытывал неловкость.
Андре поглядел на Морриса, как бы ища подтверждения тому, что мои увертки, которым он был свидетель, ему не померещились.
Моррис поджал губы.
Андре продолжал:
– Вас знают гораздо больше, чем кого-нибудь из нас.
– Но это же не… Я же не Гарри Белафонте. Я просто комик.
– Как и Грегори Дик! – набросился на меня Моррис.
– Но это же его конек. Понимаешь? Он же скорее… Ну да, конечно, он комик, но скорее он активист.
– А ты тогда кто? Анти-активист? – Язвительная реплика Морриса будто кнутом щелкнула меня.
Андре попытался выступить посредником:
– Мы же не просим вас маршировать в первых рядах. Мы просто ищем помощи, хоть какой-нибудь поддержки. Вы показываетесь, а толпа делает свое дело. – Пауза. – Ну, так вы согласны или нет?
Согласиться на это? Связаться с политической группировкой, с чьей политикой я только что познакомился? Согласиться-то можно. Если не считать того, что я очень долго не мог попасть в шоу Фрэн, своего друга, лишь потому, что я чернокожий. Сколько же времени должно пройти, чтобы попасть в шоу Салливана, если агитируешь за расовое равноправие?
Я помедлил с ответом на вопрос Андре. Всего какую-то секунду. Но эта секунда оказалась чересчур долгой для Морриса.
– Черт с тобой! – Он вскочил со стула, брезгливым жестом отмахнулся от меня и сказал Андре: – Я же говорил, к нему бесполезно было приходить.
– Что значит беспо…
Подступив ко мне вплотную:
– Да все, о чем он заботится, – это легкая жизнь. Он не захочет расстраивать своего хозяина.
– Ты появляешься откуда-то раз в два года, обвиняешь меня в том, что я бросил свой народ, а потом хочешь, чтобы по одному твоему слову я растоптал свою карьеру, да?
– Карьеру ручного ниггера?
– Да, пусть я ручной ниггер. А знаешь, почему я – ручной ниггер? Потому что я как следует поломал спину, чтобы обзавестись таким домом, где можно быть ручным ниггером. Да, я ручной ниггер, у которого есть большой «кадиллак», я ниггер, который щеголяет в дорогих часах и отличной одежде. И единственное, что хуже всего этого, – быть ниггером, у которого ни хрена нет и который заявляется ко мне за милостями.
Я говорил смешные вещи, но надеялся, что их больно будет слышать. Судя по взгляду Морриса, брошенному на меня («Плеваться от тебя хочется»), я понял, что мой расчет оправдался.
Тут он сказал:
– Если я и ниггер, у которого ни хрена нет, так это благодаря таким братьям, как ты. Вместо того, чтобы включиться в наше движение, ты слишком занят продвижением по своей карьерной лестнице. Тебе некогда: ты все время живешь в своих отелях для белых, обедаешь в своих белых ресторанах – и даже не знаешь, какое время на дворе.
– Но ведь это и зовется интеграцией. Я же делаю как раз то, за что вы боретесь: живу, где хочу, обедаю, где мне нравится.
Моррис спросил:
– А много ли ты видишь в этих своих отелях и ресторанах других чернокожих – кроме тех, кто убирает со столов? Когда туда пускают тебя одного, это не интеграция: это – предательство. Если бы ты хоть раз узнал, каково это – быть чернокожим, – тут он потер вмятину на виске, – тогда бы понял, в чем разница. – Он сказал Андре: – Мы тут только время зря теряем, – и ушел.
Андре помялся, тоже приготовившись уходить, но, не желая вылетать пулей, а, быть может, надеясь, что за то время, пока он дойдет до двери, я еще передумаю.
Я лишь предложил сделать пожертвование, выписать чек. Выписал. Андре взял его и ушел.
Черт с ним! С ним и с Моррисом! Особенно с Моррисом, с его упертой башкой – приходит тут, ведет себя так, как будто я только и знаю, что в роскоши купаюсь. Как будто мне самому не известно, что это такое – быть чернокожим.
И тут я вспылил. Меня охватил такой гнев, какого я уже давно не испытывал. Мне вспомнилось, как я одиноко шагал по темному шоссе во Флориде. Вспомнилось, как я глядел в глаза смерти. Когда ты один, ночью, в южном штате, и напротив тебя стоят трое расистов, дыша на тебя утроенной ненавистью… вот тогда ты постигаешь, что значит быть чернокожим. Но все мое негодование растрачивалось впустую. Я находился в квартире один и, как всегда, выбрал неподходящее время для того, чтобы пылать праведным гневом.
Ну и что? У меня другие заботы. Я не позволю Моррису утянуть меня вниз, когда столь многое тащит меня вверх.
* * *
Я опаздывал. Такси, ехавшее по Бродвею, нисколько не приближало меня к цели: мы застряли в пробке. Я сказал водителю, чтобы он притормозил, бросил ему деньги и, не дожидаясь сдачи, отправился дальше пешком. Я наполовину шел, наполовину бежал, отчаянно стремясь добраться туда, куда спешил, и при этом не вспотеть. Мне нельзя было потеть. Я опаздывал на свидание со своей девушкой. Тамми была в городе.
Угол Бродвея и Пятидесятой улицы. Вот и «Линдиз». Я быстро прошел внутрь, пошарил глазами по сторонам. Высмотрел Тамми, пронесся мимо метрдотеля. Я ринулся к ней, растянув рот до ушей. Подошел ее поцеловать – она вывернула голову, так что я лишь слегка коснулся ее щеки. Она глядела куда-то вниз. Я проследил за направлением ее взгляда. На столе лежали «Амстердамские новости», негритянская газета. Она была раскрыта на статье с заголовком: «СЛИШКОМ ЗНАМЕНИТЫ, ЧТОБ БЫТЬ НЕГРАМИ?» Там было написано следующее:
Для немногочисленных счастливчиков, которые смогли достать билеты на недавний концерт знаменитостей в Лас-Вегасе, одной из изюминок шоу стала возможность увидеть сразу и Сэмми Дэвиса-младшего, и комика Джеки Манна. Их выступление вместе с такими светилами, как Фрэнк Синатра и Дин Мартин, перед зрителями, в числе которых находился человек, претендующий, по мнению большинства, на то, чтобы стать следующим президентом, – безусловно, предмет гордости нашей общины. На сцене. Однако вне сцены их шалости оставляют желать лучшего. Пока мы радуемся за успех и Дэвиса, и Манна, достигается таковой, по всей видимости, за счет того, что они отворачиваются от своей расы. Вместо того чтобы проводить время в негритянской общине, оба прочно обосновались в роскошных «белых» казино Стрипа, где негров пониже статусом даже не пустят на порог. И если слухи об участии Дэвиса и Манна в ночных белых оргиях – всего лишь слухи, то можно не сомневаться, что роман Дэвиса со шведской актрисой Май Бритт повлиял на более молодого Манна и толкнул его на тот же путь. Мы с сожалением вынуждены напоминать Дэвису и Манну об их обязанностях перед негритянской общиной, но еще большее сожаление вызывает сама необходимость это делать.
Заметка не была сплошной ложью, скорее это была полуправда. Да, я не ошивался в Вест-Сайде, но и другие чернокожие не ошивались бы там (никто бы не ошивался в Вест-Сайде), если бы их к тому не принуждали. А что до нескольких разнузданных вечеринок… ну да, даже не нескольких, – так газету, похоже, нимало не смущало то, что в них участвовали белые артисты, никто не писал, будто они позорят белую расу.
Но было в этом рассказе и нечто, более близкое к правде, чем к лжи. Там говорилось, что я пошел по стопам Сэмми, волочащегося за белыми девицами. В статье только вскользь упоминалось об этом, но, чтобы не показаться голословными, газетчики поместили рядом два снимка. На одном был Сэмми со своей новой подружкой Май Бритт. На другом – я с Лилией. Наверное, какой-нибудь охочий до скандалов фотограф щелкнул нас, когда мы обедали.
Я быстренько заглянул в конец. Автором публикации была женщина. Все ясно. Нет на свете ведьмы страшнее, чем негритянка, застукавшая чернокожего мужчину с блондинкой.
Значит, вот эта фотография, где я с другой девушкой – не важно, с белой или нет, просто с другой девушкой, – отвернула от меня голову Тамми, когда я приблизился к ней. Мне предстояло серьезное объяснение по поводу этого снимка.
Настала пора расплачиваться за ложь.
Я начал с ходу:
– Ну, детка, неужели ты веришь всему этому? – Я сел, расстелил у себя на коленях салфетку и уставился в меню, как будто эта статья не стоила того, чтобы тратить на нее время. – Нельзя же верить всему, что читаешь.
– Да я же не просто читаю. Я смотрю. Я смотрю на фотографию, Джеки. Ты и эта… эта… – Голос Тамми менялся при каждом слове. Он был то обвиняющим, то оскорбленным. Она отчаянно пыталась нащупать истину в том, что я ей говорил.
– Да, фотография, где я и та актриса… – Не Лилия. Та актриса. Отнимая у нее имя, я надеялся превратить ее из женщины-угрозы в вещь. – И еще человек пять. – По счастью, на снимке, опубликованном газетчиками, были видны и другие люди, окружавшие нас с Лилией. Если посмотреть на фотографию без предубеждения, можно было бы почти поверить, что мы с ней всего лишь часть более многолюдной компании. – Ты же сама видишь, тут даже имен никаких нет. Никто даже не утверждает, что у меня роман с этой женщиной. – С этой женщиной.
– Но тогда…
– А не делают этого потому, что между мной и нею ничего нет. Ничего!
– Тогда зачем напечатали эту фотографию рядом с этой статьей?
– Ну, просто… Во-первых, это вообще не статья. Вот в чем дело. Это не статья, это мнени…
– Зачем напечатали фотографию?
Да. Зачем?
– Ну надо же им что-то печатать.
– У них была фотография Сэмми и его подружки. Зачем им понадобилась еще и твоя?
Сколько лет я провел на сцене, сколько лет оттачивал свое комическое мастерство, – и вот мне понадобились адские усилия, чтобы быстро придумать правдоподобное объяснение. К тому же всю силу воли мне пришлось употребить на то, чтобы не покрыться испариной лжеца, – а это усложняло мою задачу.
– Ну, понимаешь, ведь не так-то легко напасть на такого типа, как Сэмми Дэвис. Им не нравится, что он встречается – что он женится, да, я слышал, они собираются пожениться, – газетчикам не нравится, что он встречается с этой женщиной. Но он же звезда такой величины – под него так просто не подкопаешься. И вот они пишут о том о сем, разбрасывают вскользь свои намеки, и создается такое впечатление, будто они готовы напасть на любого чернокожего, который приблизится к белой женщине ближе чем на десять шагов. И что мне теперь делать?
– Держаться от белых женщин на расстоянии десяти шагов.
Тамми немного смягчилась.
Я возразил:
– А ты у себя в Детройте можешь держаться на расстоянии десяти шагов от всех, кто набивается к тебе в ухажеры?
Пауза.
– Да, пожалуй, во мне говорила ревность. – Она сказала это ровным, легким тоном; похоже, смертельная тяжесть, давившая на нее целый день или даже дольше, упала у нее с плеч.
Значит, с помощью убаюкивающих речей я выбрался из угла, куда загнала меня моя похоть.
Тамми:
– Но ведь ты сам говорил, что только те люди, кто не знает страсти, зовут это ревностью.
– Наверно, говорил, и, наверно, я тебя прощу. На этот раз. – Я сказал это таким тоном, чтобы стало понятно: это шутка, но тем не менее мне пришлось прибегнуть ко всему своему мастерству, чтобы сказать ей такое. – Ну теперь-то ты меня поцелуешь как следует, или мне уйти и взаправду подыскать себе европейскую старлетку?
И Тамми поцеловала меня – настоящим, долгим, «соскучившимся» поцелуем, которого она лишила меня вначале, когда я подошел к ее столику.
Потом, у меня дома, мы похоронили всю мою ложь, предавшись сексу. Мы похоронили все дни нашей разлуки и всю нашу непохожесть, потратив долгие часы на то, чтобы заново изучить друг друга. И вот что мы обнаружили: время и расстояние не смогли погасить нашу любовь.
Позже, лежа в постели в темноте, крепко сжимая в объятиях Тамми, пока самого меня сжимало чувство вины, я нашел опору в словах Лилии: в том, что я не женюсь на Тамми, нет ничего неправильного. Но та ложь, которой я жил, была очень хороша.
* * *
Все было почти как прежде, четырьмя годами раньше. Я снова оказался на клубной сцене в Виллидже, только на этот раз я выступал с номерами, подготовленными для появления в шоу Фрэн. Спертый воздух, прокуренный тесный зал, плотная и потная людская толпа. Публика – на расстоянии вытянутой руки от меня. До моих ушей долетает смех Тамми: он слышнее всех. Мои номера: компактные и смешные. Отличная программа – и не я один такого мнения.
– Отличная программа, Джеки. – Ко мне приближался какой-то мужчина с широкой улыбкой и вытянутой рукой. – Чет Розен, – напомнил он мне свое имя. – «Уильям Моррис». Я слышал, вы тут выступаете, вот и решил зайти.
Я поздоровался с ним, сказал, что приятно снова увидеться, и представил его Тамми.
– Тамми Террелл. Конечно. Вы из «Мотауна». Хорошее местечко! Этот Берри Горди – шустрый малый. Он далеко пойдет.
Он знал Тамми. Я был поражен.
Мне:
– Слышал, вы выступаете в «Шоу Фрэн Кларк».
– На следующей неделе.
– Она ваш старый друг, да?
– Ну да. Да.
– У вас с ней один и тот же агент? Сид…
– Киндлер.
Чет изобразил недоумение:
– Не понимаю, почему понадобилось столько времени? – Он как бы не обращался ко мне лично, а просто говорил вслух. – У вас один и тот же агент, тогда я не понимаю, почему столько времени понадобилось, чтобы пробить вам это шоу? По-моему, тут кто-то зазевался за рулем…
Прежде чем я успел придумать, что на это ответить, Чет уже несся дальше:
– Да, я слышал, вы сногсшибательно выступали в Лас-Вегасе.
– Сногсшибательно? Большинство зрителей даже внимания на меня не обратили, а многие вообще не знали, кто я такой. Я все равно что вице-президентом побывал.
– Вам выказали больше уважения, чем обычно выказывают большинству комиков. То же и здесь. – Он указал большим пальцем на сцену за нами. – Перед вами открываются хорошие возможности, Джеки. Надеюсь, вы воспользуетесь ими к своей выгоде. А что вам раздобыл Сид?
– …Я выступлю в шоу Фрэн.
– А еще?
Еще…
Певица на сцене пела что-то из Коула Портера[47]47
Портер Коул Альберт (1893–1964) – композитор и автор текстов мюзиклов, ставших классикой бродвейского театра, а также сотен популярных песенок.
[Закрыть], а я так и молчал, не зная, что сказать.
– Ну хорошо, Джеки, желаю вам удачно выступить в шоу. Уверен, все пройдет на ура. Мисс Террелл.
Уже собравшись уходить, Чет вдруг остановился:
– Надеюсь, вы не обидитесь на меня, если я скажу, что вы вдвоем прекрасно смотритесь. – И он ушел.
– Вот человек, – заметила Тамми, – который умеет находить правильные слова.
Это было правдой. К тому же он умел произносить слова так, что они прочно заседали в памяти.
* * *
– В шоу Фрэн хорошо то, что там все время руководство вертится. Ребята с Си-би-эс. Выступишь классно – об этом заговорят. Потом тебе это обязательно зачтется.
Сид врал мне. Я зашел к нему для ободряющей беседы перед шоу Фрэн; и вот я сидел и слушал его вранье. Нет, Сид врал мне не словами. Да, конечно, на передаче будет присутствовать руководство Си-би-эс, и, конечно, если я успешно выступлю перед ними, это только поможет мне приблизиться к Салливану. Все это было правдой. Сид обманывал меня в другом: у него изо рта пахло мятными пастилками, которые должны были замаскировать запах от принятого спиртного, а за нарочитой точностью и аккуратностью движений скрывалась лишь неуверенность и неуклюжесть. Он тщательно рассчитывал каждое свое действие, а потом медленно выполнял его: например, с очень сосредоточенным видом поднимал ручку со стола, так, чтобы не сшибить при этом лампу. Словом, он изо всех сил старался выглядеть трезвым: в этом-то и состояло его вранье. Кого он надеялся одурачить: это меня-то, столько лет из первых рядов наблюдавшего пьяные представления папаши, хоть тот никогда и не щадил моих чувств и не пытался скрыть, что нализался.
– Я не вешаю тебе лапшу на уши, нет, я просто хочу, чтобы ты знал… это не Салливан, но мы к нему подбираемся.
Сид говорил, упершись взглядом в стол. Не глядя на меня, он не мог прочесть в моих глазах отражение своего обмана. Иначе нам пришлось бы вдвоем исполнять этот жалкий трюк: он притворялся бы трезвым, а я притворялся бы, будто не вижу, что он набрался.
Господи, как я ненавидел пьяных.
Нет.
Сида я не ненавидел. Я ненавидел бессилие пьяниц, я ненавидел то, что они вынуждают тебя становиться сообщником их греха: «Я понимаю, что ты понимаешь, что я делаю, но, пожалуйста, не запрещай мне пить или купи мне спиртного, если я сам не могу его купить, не обращай внимания на мои буйные выходки, когда я пьян, и на мои затуманенные глаза, когда я наклюкался с утра пораньше. Пожалуйста, посочувствуй моей боли или беде, а если не хочешь, то не надо. Просто ничего не говори; продолжай вести себя как ни в чем не бывало, даже если я слишком громко смеюсь над чем-нибудь совершенно не смешным, вырубаюсь на полу-фразе или спотыкаюсь и падаю на ровном месте. А когда дела совсем плохи, просто намекни туманно на чье-нибудь „положеньице“, чтобы я вместе с тобой поцокал, но мы оба втайне будем понимать, о ком ты на самом деле толкуешь. Тогда я возьму и завяжу. Просохну. Немножко. Пару неделек. Может, месяц. Или остаток дня. А потом снова будем притворяться».
Сид… Как же он мог так поступить со мной? Он же знал, как я к этому отношусь, через что я прошел, так как же он… Да еще накануне моего эфира!
В том-то и дело: меня не заботило, почему и что вдруг заставило Сида сорваться с тормозов. Меня заботило только одно: почему со мной. Мне это было не нужно, особенно после того, как Чет пытался очернить передо мной Сида.
– Ты отлично выступишь, вот что я хочу сказать. Это… это будет здорово. – Сид очень медленно поднес руку ко лбу, смахнул капельки пота.
– Да. Отлично, – поддакнул я и многозначительным тоном добавил: – Жаль, отец не дожил, чтоб на это посмотреть.
* * *
Это было нереально. Причем сразу в двух смыслах слова. Нереально – сверхъестественно – было это ощущение: неужели все – взаправду? Неужели в самом деле, наконец… И в то же время это было нереально – ирреально: я смотрел на сценическую площадку не сквозь «молоко» на экране «Зенита», а вблизи, и она казалась тем, чем и была: раскрашенной фанерой и расписным муслином. Во все концы зигзагами тянулись осветительные кабели – неподвижно свернувшимися гигантскими черными змеями. Повсюду были ребята из профсоюза, поражавшие объемом как своих телес, так и источаемых ими пота и смрада, – притом что большинство из них, видимо, получали зарплату только за то, что стояли и следили, чтобы все остальные что-нибудь делали. Но даже их будничное, прозаичное присутствие не в состоянии было лишить этот миг торжественного блеска. Для меня он все равно оставался чуть-чуть волшебным. Этот миг по-прежнему казался нереальным. Сверхъестественным. Это была страна Оз. Или Шангри-Ла[48]48
Шангри-Ла – царство вечной молодости в романе Дж. Хилтона «Потерянный горизонт».
[Закрыть]. Это была телестудия, где снималось шоу Фрэн, и сейчас это было именно то место, где мне больше всего на свете хотелось находиться.
Свет, камеры – большие четырехглазые чудища «Американской радиокорпорации», – суматоха, орущие друг на друга люди: то сделать, это поменять, или вдруг что-то в самый последний момент выясняется, черт побери, и все они носятся туда-сюда, как муравьи в горящем муравейнике. Неразбериха порождает еще больший кавардак. И все это – еще за сутки до передачи. Подобное безумие оказалось заразным. Мое сердце превратилось в метроном, отстукивавший в такт организованному хаосу, царившему вокруг меня.








