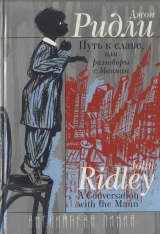
Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"
Автор книги: Джон Ридли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Я без труда проглотил свинину.
В комнате появился Сид. Он вошел так тихо, что я даже не слышал его шагов. Я поднял глаза и увидел его. Я сообщил ему то, что считал неоспоримым фактом:
– Сегодня будет хороший вечер, Сид.
Он медлил с ответом. Когда ему наконец удалось разжать губы, он тут же сжал их, так и не проронив ни слова.
– Что такое?
Сид глядел в сторону.
– Что такое? Ты дуешься на меня из-за Фрэн? Ну, я же сказал тебе, что позвоню ей.
– …Нет.
– Хорошо, давай я прямо сейчас позвоню ей, произнесу все, что нужно. Ты этого хочешь?
– Нет, Джеки. Не в этом… Тебе надо… – И он буквально спиной повернулся ко мне. – Удачного тебе выступления. – Сид явно что-то от меня утаивал. Вернее, пытался что-то утаить, но крайне неумело.
– Что происходит?
– Ничего. Ничего не происходит.
– Где ты учился врать – в монастыре? – Тут вырвалось мое самое страшное опасение: – Меня что, отменили?
– Нет.
Второе по важности опасение:
– Ты заболел? С тобой всё…
– Не волнуйся. Просто выступай хорошо. Шоу – вот что сейчас главное. Вот что важнее всего. А все остальное… остальное подождет.
Сид продолжал бекать и мекать, но так и не ответил на мой вопрос о том, не болен ли он. Я подошел к нему, взял его за плечи и развернул лицом к себе: мое сочувствие и озабоченность обернулись грубостью.
– Рассказывай! Что бы там ни было, рассказывай, черт возьми!
Секунда или две – молчание. Сид пытался заговорить. Он совершал над собой такие усилия, будто глыбы ворочал. Наконец пожелавшие выходить наружу слова слетели с его уст.
Он проговорил:
– Тебя не застали «У миссис Шо», поэтому передали мне. Я хотел подождать, пока не… Я понимаю, как важно для тебя это представление, но… Позвонили из Нью-Йорка. Твой отец… – Тут Сид осекся. Вот оно что. Больше он ничего не смог из себя выдавить. И, по правде говоря, больше мне ничего и не нужно было слышать.
Умер.
В течение минуты-другой никто из нас не проронил ни слова, не зная, что сказать.
Мой отец умер.
Сид первым нарушил тишину:
– Если хочешь, я поговорю с Джеком…
– Не надо.
– Он все поймет. Ведь речь о твоем отце.
– Сид, я выступаю сегодня. Я выхожу на сцену. Шоу должно продолжаться, и все такое. Мой отец умер, ну и что?
У Сида был такой ошарашенный вид, будто его ударили камнем по голове.
– Ну так что теперь? Ты его когда-нибудь со мной видел? Ты когда-нибудь видел, чтоб он пришел в зал поддержать меня? Ты вообще хоть раз его видел, Сид? Он умер, это грустно, но точно так же бывает грустно, когда умирает любой другой человек, которого сбила на перекрестке машина и которого я никогда не знал. Не могу же я отменять представление всякий раз, когда умирает бог знает кто.
Сказав это, я сам себя убедил: мой отец – бог знает кто. Мне наплевать.
Сид ничего на это не сказал. Сид просто глядел на меня… глядел на меня…
Сид ушел.
Наконец клуб наполнился народом, пора было начинать представление, и я вышел на сцену – снова вступил в эту пустоту, поджидавшую меня.
Я хорошо выступал.
Я хорошо выступал первые три минуты из моих шести с половиной. А потом я дошел до номеров, где речь шла о моем отце-пьянице. И тут не выдержал. Я не сломился и не расплакался, я не распустил нюни – ничего такого. Я просто объявил со сцены, что мой отец умер, – и моментально все смешки стихли. Обычно всегда так бывает, если начинаешь говорить в комедийном представлении о реальных людях, которые умерли. Правда, раздалось жидкое хихиканье: видно, кто-то решил, что я заготовил чертовски смешную шутку.
Ничего подобного. Меня внезапно охватил острый приступ вины, который никак не проходил. Я заговорил о том, что мой отец никогда мне не помогал, что он избивал меня, что, по моему убеждению, он свел в могилу мою мать. Я вовсе не собирался в свой первый вечер в Лас-Вегасе трепаться обо всем этом, но мое горе словно затянуло меня в канаву, из которой я никак не мог выкарабкаться. Я уже, как камикадзе, летел носом в землю. Вся эта безобразная сцена продолжалась от силы минуту. Или меньше. Но даже без малого минуты такого безумного трепа оказалось достаточно, чтобы любая толпа успела растерять улыбки. В течение следующих ста двадцати секунд я трудился как мог, старался снова отвоевать зрителей, чтобы Эдди ожидала публика, настроенная не на поминки, а на радость. Мне это удалось. Кое-как. Со сцены я уходил под смущенные и нестройные хлопки.
Джек был в ярости – я не просто запорол свой первый вечер, но еще и превратил его клуб в морг, – но Сид отвел его в сторону, объяснил ему, что байки про моего отца не были байками. Он действительно умер. Джека это не охладило, но что ему оставалось делать? Он понимал: если Фрэнку станет известно, что он устроил мне взбучку из-за того, что у меня скончался отец, тот семь шкур с него сдерет.
Пока Сид с Джеком мирились, я просто сидел молча: мне было тошно и с каждой секундой делалось все тошнее. Чувства, от которых я пытался отмахнуться, повергали меня. Чувства, с которыми я ничего общего не желал иметь. Угрызения совести, раскаяние, печаль…
Чего мне в этот момент хотелось, в чем я испытывал потребность – так это или выпить, или сесть за рулетку, или затеряться в Лас-Вегасе, погрязнуть в болоте всех тех грехов, какие тут предлагались. Но тогдашние правила предписывали мне сидеть за сценой, в гримерке, подальше от лилейно-белых расистов. Сидеть там – или отправляться к себе в Вест-Сайд.
Я подумал, не позвонить ли Томми.
Она закрутилась. Я закрутился. Прошло уже много времени с тех пор, как мы в последний раз разговаривали с ней. Я знал: стоит мне услышать ее голос – и мне сразу станет если не хорошо, то намного лучше.
Мне захотелось позвонить Томми.
Но Томми работала сейчас над записью своей пластинки. А я находился в таком настроении, что и сам опасался, как бы не вылить на нее по телефону неудержимый поток своих безумных эмоций. Через неделю, две недели – да нет, мы уже дольше не разговаривали с ней, – я вдруг вывалю ей новость об отце, наброшусь на нее, как только что на публику, со своей слабостью, слезами… Каково ей будет? Каково ей будет это вынести, как раз когда она готовится совершить решительный рывок в своей карьере? После того как я сделал все возможное, чтобы она отправилась в Детройт, – с какой стати я должен обременять ее своим безумием?
– С той стати, что она – твоя девушка, – возразил мне Сид. – А когда люди любят друг друга, они всем делятся друг с другом – и болью, и силой.
Сид делался красноречивым: к истине, которую он проповедовал, он пришел ценой личной потери.
Я слышал сквозь стену, как там, на сцене, Эдди допевает «Синди, ах Синди». Слышал, как ему хлопают, восторженно свистят. Он отвоевал публику. Каким-то одним ему известным волшебством он влюбил в себя целый зал незнакомцев.
Тихо, будто сам себе, я сказал:
– Я столько раз желал ему смерти. Правда. Я не просто желал ему зла. Я хотел, чтобы мой отец умер. А теперь…
– Я понимаю, Джеки, тебе сейчас чертовски тяжело, но это пройдет. Ты должен понять, ты должен поверить: где бы ни был сейчас твой отец, он знает, что ты его любишь. Он это знает и прощает тебя.
Я поднял голову. Поглядел на Сида, издал гулкий смешок: опять он неправильно меня понял.
– Ты не так понял мои слова. Я столько раз хотел его смерти, а он решил дождаться моего первого вечера в Лас-Вегасе, чтобы наконец помереть. Сукин сын! Даже мертвый – продолжает мне пакостить.
* * *
Ирония. Шаблонность мышления. Не знаю уж что. Ирония, шаблонность мышления заставили меня думать, будто отец нарочно дождался моей премьеры в Лас-Вегасе, чтобы умереть. Я оказывал ему слишком большую честь. Он не сумел бы так ловко подгадать, даже если бы сценарий написали в Голливуде. А было так: многолетнее злоупотребление наркотиками ослабило его организм. Его хватил… удар, вроде паралича, и он разом онемел и обезножел. Шли дни, и отец – молча, неподвижно лежа на полу квартиры, – медленно и мучительно умирал от истощения. Протекло еще сколько-то дней, прежде чем его обнаружили. Смрад от разлагавшегося тела стал единственным вестником его смерти. Всего с того дня, когда отец перебрал и с ним случился удар, до того дня, когда нашли труп, минуло больше недели. Больше недели. Так что он умер не в день моей премьеры в Лас-Вегасе: в тот день до меня лишь дошла весть о его смерти.
Сид и Джек договорились между собой насчет того, кто заменит меня в оставшиеся дни, указанные в договоре. Найти исполнителя, который хотел бы поработать две недели в «Сэндз», было проще простого.
Я превратился в клубок перепутавшихся эмоций, и Сид отвез меня обратно в Нью-Йорк. Как это было много лет назад с моей матерью, бабушка Мей взяла на себя бо́льшую часть похоронных хлопот, в том числе – чего не случилось, когда хоронили маму, – нашла достаточное количество плакальщиков, чтобы создавалось впечатление, будто мой отец при жизни что-то для кого-то значил. Мей распустила слух, что приготовит угощение для поминальной трапезы. На эту приманку кое-кто и пришел в церковь.
Гроб оставался закрытым. Я не хотел видеть отца. Не думаю, что и кто-то еще пожелал бы его видеть. Я знал – никто не захочет увидеть его руки, его пальцы, стертые до мяса, до кости, пока он тщетно и бессильно цеплялся за половицы и постепенно, день за днем, умирал.
Сид привел в церковь Фрэнсис. По его словам, она сама настояла на том, чтобы приехать. Выразила мне соболезнования. Похоже, Фрэнсис была искренне опечалена, хотя и знала, что за человек был мой отец.
Взяла меня за руку, стиснула:
– Все в порядке, Джеки.
Я понимал, что она не об отце моем говорит. Я понимал: она говорит о том, что я не пришел тогда на ее выступление у Салливана. И несколькими этими словами – «Все в порядке, Джеки» – она дала мне понять: как бы я ни вел себя, как бы я ни поступил с ней, ничего для нас не поменялось. Как и прежде, в точности как всегда, она оставалась моим другом.
Оба Фрэнка – Синатра и Костелло – услышали о кончине моего отца. После моего выступления в «Сэндз» они не могли об этом не прознать. Оба прислали венки на похороны, кое-какие денежные суммы – на покрытие моих расходов.
Фрэнк – Синатра – позвонил мне, чтобы высказать сочувствие и поддержку. Мы с ним немного поговорили, хотя мне не верилось, что он станет попусту тратить на меня время. Но он, похоже, не спешил отделываться от меня: мол, как дела, малыш, отлично, ну, мне пора. Покончив с соболезнованиями, он перешел на другие темы, поинтересовался, что я поделываю. Я сказал, что Сид устроил мне выступление в «Слапси-Максиз» недели через две – это будет мое первое шоу на побережье, в городке западнее Лас-Вегаса, где живут все идиоты.
Фрэнк посмеялся над этим. Поздравил, сказал, что «Максиз» – модное место, что иногда среди публики там попадаются и перчинки в виде пролетариата. Если я там хорошо выступлю, мне светит большой успех в дальнейшем. И добавил, что, раз уж я буду в Голливуде, то мне нужно непременно забежать в «Сайрос» и посмотреть на Смоки[37]37
Смоки (букв. «Закопченный») – шутливое прозвище Сэмми Дэвиса-младшего.
[Закрыть].
– Смоки?
– Сэмми. Он возглавляет трио. У парня потрясающее шоу.
Я ответил Фрэнку, что это было бы здорово, но, говорят, когда выступает Сэмми, то на его шоу остаются только стоячие места. Пробиться туда практически невозможно.
– Об этом не беспокойся, дружище. Твое дело – добраться до «Сайрос».
Фрэнк закончил разговор.
* * *
В отличие от большинства людей, которые только что схоронили родню, я сразу же после погребения превратился в настоящего тусовщика. Я шлялся по всем клубам и ночным заведениям, побывал в каждой дыре, где предлагалась музыка со спиртным или любыми другими законными развлечениями. Я занимал всякую свободную минуту дня танцами и выпивкой, потому что, если хоть одна минута оставалась свободной, то в эту минуту мне в голову лезли мысли об отце, и мысли эти были паршивыми.
Какая несправедливость!
Он делал мне гадости. Он издевался надо мной. Мне было безразлично, что он умер. У меня не было оснований огорчаться из-за его смерти… а мне было не по себе. Чувство вины – так это принято называть. Оно проникало, просачивалось в меня, и никакое бухло, никакой джаз не в силах были его вытравить.
Бежать отсюда!
Мне нужно бежать отсюда. Прочь из этой старой квартиры, где я так надолго застрял, прочь из Гарлема. Прочь от прежней жизни. Я быстро приискал себе новое жилье, в Мидтауне, и стал паковать вещи. Взять с собой самое необходимое – ничего лишнего. Никаких памятных мелочей. Никаких реликвий. Ничего из вещей отца. Все отцовское я сплавил мусорщику. Никакой багаж больше не обременял меня. Отца я схоронил, а теперь мне хотелось схоронить в соседней яме мое прошлое.
Наступил канун моего отъезда. Я уже был почти собран. И вдруг пришел Малыш Мо. На похороны он не приходил, так что мы не виделись уже много лет – с того самого дня, как я ушел из грузчиков, а он так со мной обошелся, как будто я пытался соблазнить его сестру.
Я открыл дверь – он стоял на пороге. Он изменился. Не просто повзрослел. Он стал серьезным. Очень серьезным – но не так, как обычно бывает, когда человек думает о чем-то. Скорее, у него был такой вид, будто свою серьезность он всегда носил теперь с собой, как носят часы или бумажник.
Я улыбнулся, когда увидел его, и он тоже изобразил что-то вроде улыбки. Мы неуклюже обнялись и обменялись замечаниями насчет того, как каждый из нас хорошо выглядит.
Я пригласил Малыша Мо войти.
Он не был против.
Потом мы постояли секунду-другую на месте. Похоже, нам и сказать-то друг другу больше нечего.
Как странно. Между нами было метра полтора, не больше, но с таким же успехом нас могла бы разделять целая миля. Мы с ним двигались по жизни в противоположные стороны, набирая скорость, и никакое радушие в мире не могло бы покрыть этого расстояния за то короткое время, в течение которого мы должны будем превратиться просто в двух парней, когда-то знавших друг друга. В чужаков со знакомыми лицами.
Я поблагодарил Малыша Мо за соболезнования, которые он мне послал.
– Мне было жаль, когда я узнал, – сказал он. – Твой старик был…
– Ублюдком?
Он улыбнулся – на сей раз искренне.
– Все равно, терять близких – всегда горе.
Я пожал плечами, не желая вдаваться в подробности сложных, двойственных чувств, связанных у меня с отцом.
Вместо этого я спросил:
– Ну а ты-то как?
– Работаю сейчас в «Таймс».
– В «Таймс»? Молодец. – Я изобразил энтузиазм. – Здорово, просто отлично. Ты всегда был толковым, с головой на плечах. Ну, значит, тебе удача привалила…
– Загружаю газеты в грузовики, – оборвал меня Малыш Мо. Он произнес это таким тоном, как будто в этой работе не было ничего плохого. Но стало понятно, что и ничего хорошего в ней тоже нет.
Я даже не знал, как на это реагировать: умерить ли свои похвалы или пожелать ему при первом же случае бежать от такой работы, как от чумы.
– Но ты-то хорошо устроился, Джеки.
Притворно-скромно:
– Пожалуй, неплохо.
– Не пожалуй, а точно. Все время твое имя в газетах вижу. Вижу, ты то в одном клубе, то в другом работаешь.
– Ты бы как-нибудь зашел, – предложил я. – Поглядел бы представление.
– Ага. Ну да, я бы не прочь. Только, я думаю, меня не пустят на шоу в «Копакабану». Наверно, в «Аполло» я бы еще мог тебя увидеть. Наверно, да. Только вот ты никогда не выступаешь в «Аполло». – Он таким тоном обронил это замечание, будто ножом в бок меня пырнул.
Я решил переменить тему разговора, начав было:
– Ну, знаешь, Малыш Мо, что я тебе скажу…
– Моррис. Я больше не Малыш Мо. Все, вырос.
К той пропасти, что уже разделяла нас, вмиг прибавилось расстояние еще в полмили.
Моррис оглядел мои упакованные пожитки. И не столько спросил, сколько сказал:
– Значит, меняешь жилье?
– Ну, просто перебираюсь поближе к центру.
– Нам тут не хватать тебя будет.
– Но ведь Мидтаун – не Китай. Ты сам знаешь, что можешь…
– Я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что нам нельзя терять своих собратьев. Это неправильно.
– Неправильно – что? То, что негры добиваются успеха, что переезжают в кварталы получше?
– Переезжать – это значит уезжать, оставляя здесь свой народ. Выходит, ты делаешься успешным чернокожим, только когда не обязан уже жить вместе с другими чернокожими.
Ну так вот, когда ты – когда собратья вроде тебя уезжают отсюда, неправильно получается.
– И что же, мне тут оставаться только для того, чтобы это выглядело прилично в глазах других негров…
– Надо говорить – «чернокожие».
– А тебе не кажется, что в глазах других негров, – я нарочно сделал упор на этом слове, – прилично выглядит то, что я упорно работал и заслужил право жить в хорошем районе…
– Гарлем для тебя плох?
– Я не сказал… – Только тут я осознал, как тяжело дышу. Этот разговор отнимал у меня столько сил, будто я бежал в гору с карманами, набитыми свинцом. – Здесь у меня больше ничего нет.
– А как тут может что-то быть для кого-нибудь, если все чернокожие вырываются отсюда, стоит им чего-нибудь добиться?
– Хватит об этом. Мне-то что до того, как поступают другие. Я о себе говорю. Какая разница – уеду я или останусь? Один человек ничего не решает.
Моррис кивнул, как будто понял меня. Кивнул, но тут же сказал:
– Не просто один человек. Еще один человек.
На этом мы и закончили разговор. Закончили настоящий разговор друг с другом. Еще немного поболтали о спорте, о музыке. О предметах, о которых можно было поговорить, не поскользнувшись. Но нам обоим было ясно, что мы болтаем только для того, чтобы у нас не возникло чувства, словно мы ничего не сделали для сохранения нашей былой дружбы, от которой осталась одна видимость.
Сказав:
– Ну, мне, наверное, уже пора. – Моррис дал мне понять, что игра окончена.
– Приятно было с тобой повидаться, Ма… Моррис.
Мы снова неуклюже обнялись, и Моррис ушел.
Я закрыл за ним дверь.
* * *
– Что-нибудь случилось, Джеки?
Звонила Томми.
– Нет, – солгал я. – Всё… Всё в по…
– У тебя такой невозмутимый голос.
– Я просто… знаешь, просто…
– Если ты хочешь мне что-то рассказать…
– Я просто немного устал.
Я и сам точно не знал, зачем вру. Нельзя сказать, что смерть моего отца была каким-то особенно травмирующим событием, от которого Томми следовало оберегать, – тем более что рано или поздно она все равно узнает, что он умер. Но у меня имелись свои причины, множество причин, поступать так. Я не хотел обременять Томми своим горем – ведь она сейчас записывала пластинку. Я не хотел, чтобы она тревожилась из-за меня, – ей и так хватало тревог из-за собственной карьеры. Запись идет медленно, но успешно, сообщила она. Песня звучит хорошо, сказала она. Еще она сказала, что подумывает о сценическом имени для себя. Сказала, что «Тамми» кажется ей задорнее, благозвучнее, чем «Томми». Так пускай лучше думает о себе, обо всем этом, а про отца моего нечего думать.
А еще правда состояла в том, что в эту минуту мне не нужна была ничья забота. Мне не нужно было больше ничьего сочувствия, не хотелось очередных расспросов о том, как я держусь. Не хотелось пускаться ни в какие объяснения по поводу моих запутанных чувств, вызванных смертью отца. А главное – я не хотел, чтобы мне напоминали об этих чувствах, чтобы мне снова пришлось справляться с ними. Так что лучшим выходом было все отрицать. Прежде всего ради самой Томми. Вот что я говорил тогда себе: говорил, что то, что я делаю – лгу, – я делаю ради нее.
Томми ничего этого не поняла.
Все, что Томми поняла по моему спокойному голосу, по моему сдержанному, уклончивому тону, – это что ее пытаются оттолкнуть, тогда как на самом деле мне больше всего на свете хотелось прижать ее к себе.
Она сказала, что примерно через неделю будет выступать в «Рив» в Атлантик-Сити. Сказала, что очень хочет, чтобы я туда приехал. Даже если она не разглядит меня со сцены, ей просто хотелось знать, что я где-то среди публики. Сказала, что больше всего на свете хочет быть рядом со мной.
Я ответил, что на той неделе, когда она будет в Атлантик-Сити, я буду работать в «Слапси-Максиз» в Лос-Анджелесе.
В день ее премьеры я послал Томми цветы и открытку с пожеланием «ни пуха ни пера».
Часть V
Голливуд трясло. Голливуд колотило. Удары сыпались со стороны маленького деревянного ящика с катодной трубкой. Телевидение, в ту пору все еще нью-йоркская штучка, перехватывало у Голливуда работу и переманивало зрителей. Голливуд ненавидел телевидение. Голливуд ничего не мог поделать с телевидением.
Студиям тяжко пришлось в те годы метаний между их «золотым веком» и тем временем, когда они наконец подняли руки вверх и принялись поставлять ящику свои программы. Поскольку ничего другого не оставалось, Голливуд продолжал делать то, что у него так хорошо спорилось: воздвигал фальшивые декорации роскоши и многозначительности. Он по-прежнему потягивал коктейли на палубе корабля, медленно идущего ко дну.
Голливуд – больше идея, чем реальное средоточие, – по-прежнему представляв собой одну бесконечную пышную римскую оргию – со спиртным, наркотиками и страстями. Входной билет: звездный статус. Это по-прежнему было место, где студийные жирные коты масштаба Луиса Майера[38]38
Луис Майер (полн. имя – Луис Берт Майер; 1885–1997) – кинопродюсер, выходец из России; гражданин США с 1912 г. Основал компанию «Метро-пикчерс», которая затем влилась в «Метро-Голдвин-Майер» («МГМ»).
[Закрыть]могли спасти от тюрьмы и от скандалов в желтой прессе кого-нибудь из своих звезд-пьяниц, сбивших на дороге незадачливого пешехода и смывшихся с места преступления. Это было место, где каждый день в четыре часа все дела в студии «XX век-Фокс» замирали на то время, пока потребности Даррила Занука[39]39
Даррил Занук (Зэнэк; 1902–1979) – кинопродюсер и сценарист. В 1931–1933 гг. возглавлял студию «Уорнер бразерс». Затем, совместно с Дж. Шэнком, создал студию «XX век», позднее (после слияния в 1935 г. с компанией У. Фокса «Фокс-филмз») ставшую компанией «XX век-Фокс».
[Закрыть] удовлетворяла претендентка в старлетки под номером 32. Это было место, где Гарри Кон мог взять девицу вроде Маргариты Кансино, выщипать ей брови, изменить ей электролизом линию волос, перекрасить, диетой превратить ее в секс-бомбу, предать забвению ее латиноамериканское происхождение, и – вот вам – Рита Хейуорт[40]40
Рита Хейуорт (1918–1987) – звезда Голливуда 40-х гг.
[Закрыть].
Голливуд постоянно занимался такого рода трансформированием – производством звезд. Констанс Оклман преобразилась в Веронику Лейк. Иссур Демски – в Кирка Дугласа. Бетти Джоан Перск стала Лорен Бэколл. Бернард Шварц? Ну, как же – Тони Кертис. Иногда – потому что Голливуд оставался Голливудом и делал что хотел, – такие маленькие чудеса творились шиворот-навыворот. Ава Гарднер так и родилась Авой Гарднер, но студийная артиллерия из рекламной службы трубила по всему миру, что ее настоящее имя – Люси Энн Джонсон, чтобы честь изобретения такой девушки приписывалась все тому же Тинселтауну[41]41
Тинселтаун – ироничное прозвище Голливуда, которому по-русски соответствует «Мишуринск».
[Закрыть].
А в свободное от ковки собственных талантов время фабрика грез рыскала по заморским странам в поисках местных звезд и тащила их с собой в Штаты: Брижит Бардо, Джина Лоллобриджида, Лилия Дэви, Софи Лорен.
Голливуд, США. Если у них чего-то нет, они создают это. Если не могут создать – крадут. Если не могут украсть – велят ребятам из прессы убедить вас, что вам это совершенно не нужно. Их единственная настоящая забота – производить славу, деньги и власть любыми и всеми возможными средствами.
Существовало ли в целом мире место более идеальное?








