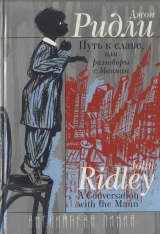
Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"
Автор книги: Джон Ридли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Ухмылка.
– Довольно колкостей. – Ламонт жестом подозвал официантку, чтобы та принесла ему кофе. Она ушла, просияв от его чаевых – целого доллара. – Я догадываюсь, о чем вы думаете. Но что бы вы там ни думали, я не собираюсь отбивать у вас Томми.
Ладно, поверю. Но меня все равно раздражал его костюм, сшитый на заказ, и блеск, только что наведенный на его дорогие заграничные туфли. Меня не приводило в восхищение то, как он скрывал грубость своих рук под мягким шиком изящных золотых украшений. Его самоуверенность, его развязность… Мне не нравилось в нем то, что он обладал всем, к чему стремился я сам. И я не собирался прибавлять Томми к этому списку.
Ламонт приложил максимум усилий, чтобы избавить меня от этих опасений.
– Вы двое – такая красивая пара. В самом деле. Вы собираетесь на ней жениться?
– …Откуда вы…
– На вашем месте я бы на ней женился. На вашем месте я бы давно уже был на ней женат. Вы – счастливчик, Джеки. – Он отхлебнул кофе. – Только, мне кажется, я бы не смог оставаться где-то вдалеке от такой женщины, как Томми.
– А я и не собираюсь оставаться где-то вдалеке.
– Вы больше не будете ездить на гастроли?
– Конечно буду.
– Конечно будете. Нужно ведь держать связь с клубами, нужно работать над программой.
– Вы собираетесь и моими делами теперь управлять?
Ламонт снова улыбнулся. Этого франта ничем было не прошибить. Я заметил, у него была привычка водить туда-сюда большим пальцем по кончикам остальных. Туда-сюда. Он шевелил им так быстро, будто ему деньги за это платили.
– Я просто хотел сказать: вы будете выступать по клубам – значит, будете разлучаться с Томми.
– Она может ездить со мной.
– Может. Может. – Еще глоток кофе. – Но это будет нехорошо.
– Нехорошо, если мы будем в разлуке, нехорошо, если будем вместе…
– Нехорошо потому, что это будет конец ее карьеры как певицы.
– Почему же конец? Я не прошу ее бросить петь.
– Но вы говорите, она будет ездить вместе с вами. А если она будет разъезжать с вами – как же ей петь?
– Но это же не… Я же не говорил…
Совсем как наемный адвокат, Ламонт испытывал меня, повторяя мои же слова. Если Господь недодал ему роста и наружности, то умом наделил его с избытком.
– Послушайте, Джеки. Конечно, Томми может продолжать петь. То там, то здесь. По крайней мере, пока у вас не родится ребенок. Даже тогда она, может быть, изредка сможет петь. Если повезет. Но вот что я хочу сказать. У нас имеется не так уж много возможностей. – Он произнес «нас» так, как обычно чернокожие говорят «мы», подразумевая нас, чернокожих. – Не так уж много возможностей пробиться, и пробиться по-настоящему. Собственно, эта идея и стоит за звукозаписывающей компанией Берри.
– Берри?
– Берри Горди. Он основал «Мотаун». Основал, исходя из идеи, что нужно создать оформление, звук и стиль настолько неповторимый, что игнорировать его будет невозможно, даже если они и хотели бы. – Он произнес «они» так, как обычно чернокожие говорят «они», имея в виду их, белых. – Если это удастся, если ты добьешься успеха, тогда тебе не придется зависеть от какого-то белого, который даст тебе то, чего ты заслуживаешь. Просекаете, о чем я?
Я просекал. Ламонт читал проповедь обращенному.
Он продолжал:
– А Томми многого заслуживает. Ей цены нет. И голос, и внешность при ней. У нее талант! Но если вы сейчас отнимете у нее возможность петь, то она не пробьется никогда.
Вот что я вам скажу: мне хотелось ударить его. Скажу это просто и прямо: я мог бы перегнуться через столик и ударить Ламонта Перла. Если я отниму у нее возможность петь. Я, я. Выходит, виноват я: жениться на Томми было все равно что нанести ей смертельную рану.
Мне хотелось ударить Ламонта, но его слова отдавались во мне эхом, отдавались до тех пор, пока я не усвоил истину: да, на меня действительно ляжет вина. Я буду тем человеком, который отнимет у Томми возможность петь. Я первым брошу лопату земли на могилу ее карьеры. Еще днем раньше я был настолько уверен в себе, что мое будущее и будущее Томми представлялось мне исключительно нашим совместным будущим. Но, поговорив с Ламонтом, выслушав его приглаженные слова, я перестал понимать, как быть.
Я так и сказал:
– Я не знаю, что делать.
– Когда не знаешь, что делать, то иногда лучшее, что можно сделать, – это не делать ничего. По крайней мере, тотчас же. У вас обоих будет время подумать, когда Томми добьется успеха. Когда вы добьетесь успеха.
Я пытался побороть логику чувством:
– Я люблю ее.
– Ну-ну, ладно. – Ламонт вскинул руки, будто сдаваясь. – Я же вам ничего не навязываю. Только вот что это за любовь? Отнять у нее все, чем она могла бы стать. Положим, вы тоже хотите, чтобы она добилась успеха, но вы же знаете эту женщину: знаете, как она преданна. Если вы на ней женитесь, она вас никогда не покинет. Никаких больше клубов, никакого пения. Все, всему конец.
– Вам это известно? Вы были рядом с Томми, наверное, всего минуту и уже знаете…
– Ну тогда скажите мне, что я неправ. – Его большой палец вновь заскользил по кончикам остальных пальцев. Он отпил еще кофе.
Непрошибаем.
Ламонт уже не говорил ни на одном из известных языков – он просто производил резкий шум, из которого я мог разобрать только: Карьера. Успех. Провал. Брак. Не. Понимаете.
Понимаете?
– Вы понимаете, Джеки, или нет? Не понимаете?
Потом Ламонт, кажется, произнес какие-то любезности и попрощался со мной – вероятно, попрощался, – а потом отправился на Гранд-Сентрал, чтобы сесть на свой поезд.
Ничего этого я не помню.
Помню только, что я еще долго, долго сидел в «Хорне и Хардарте».
* * *
В этот час в «Виллидж-Авангарде» было пусто. Обеденное время, темнота средь бела дня, заведение было закрыто для посетителей. По ночам, когда шли представления, «Авангард» был битком набит, как и любое другое кабаре в любой другой части города.
Сейчас там было пусто.
Пусто – если не считать Томми и аккомпанировавшего ей пианиста. Она пела «Говоря о счастье» перед стульями, поставленными вверх ногами на столики, и перед уборщиком, который подметал пол, но куда больше внимания обращал на Томми, чем на свою метлу.
Я прошмыгнул в угол зала.
Я стал слушать. Я слышал, как Томми поет, раз уже, наверное, сто двадцать. Но на этот раз я слушая.
Есть люди, которые поют. Не только под душем – есть люди, которые выходят на сцену перед публикой, поют и получают деньги за свое пение. Иногда у них приличный голос. Иногда у них есть какая-то особая манера. Как бы то ни было – они считаются певцами и певицами.
Есть люди, которые интерпретируют. Точно так же, как если бы они заменяли французские слова на английские, они рассказывают тебе, о чем эта песня, переводят лирику и мелодию на известный слушателю язык. Любовь. Радость. Печаль.
Одиночество.
А есть люди настолько одаренные, что они способны заставить вас прочувствовать эти слова, так что текст вонзается в тебя, будто новенький скальпель хирурга. Такие певцы не просто поют тебе песенку за твои деньги. Они сами вливаются в песню, обнажают свои чувства, отрезают для тебя кусочек от своей души. Они дарят тебе часть самих себя. А ты – желаешь того сам или нет – начинаешь улыбаться, щелкать пальцами, плакать… Ты делаешь то, что велит тебе их голос. Одаренные певцы обладают такой властью. Такой особенностью.
Вот о чем думал я, стоя в углу «Авангарда» и слушая Томми. Мне казалось, что, как только ее голос смолкнет, пустые стулья, водруженные на столы, должны будут вскочить с мест и бешено зааплодировать.
Но случилось нечто иное: прослушав ее в тысячный раз и услышав впервые, я без единого слова выскользнул из зала – так же незаметно, как проскользнул внутрь.
* * *
Мы с Томми сидели друг напротив друга за столом, за кофе, на кухне у нее дома. Разговор начался издалека, за полмили от главной темы. Как у меня дела? Как у нее? Погода. Необычная. Да, совсем не по сезону. Слышала, что Советский Союз вытворяет? Эти красные совсем с ума сошли.
Потом перешли к делу.
Томми спросила:
– Ты говорил с Ламонтом?
Я кивнул:
– Да, перед его отъездом.
– Ну и как?
Отредактировав самого себя, я произнес:
– Мне показалось, он умен.
– Это правда. У него куча отличных идей. – Последовала значительная пауза, потом Томми сказала: – Он хочет, чтобы я отправилась в Детройт, поработала там над кое-какой музыкой.
Я ничего на это не ответил.
– Не знаю, сколько мне придется там пробыть. Несколько месяцев. А может, и дольше. А потом – ну, если у меня выйдет пластинка, – мне придется еще поездить с выступлениями. Ну, чтобы она лучше продавалась. – Последнюю фразу Томми скомкала.
Под столом, незаметно для нее, я сжимал в пальцах маленькую коробочку с очень большим кольцом внутри.
– А ты будешь далеко, где-нибудь на гастролях, так что непонятно, когда мы увидимся… – Томми будто на гору взбиралась. Ей пришлось остановиться, перевести дух, прежде чем продолжить путь. Как будто она знала, что там, куда она поднимается, воздух разреженный, поэтому голова обязательно закружится. – Ты всегда говорил, как важно делать карьеру. Но только если… если тебе кажется, что, может быть… Если тебе кажется, что мне не стоит ехать…
Я сидел. Я сидел на стуле, сидел секунду, другую – и мог бы просидеть еще хоть год. Так всегда бывает, когда оказываешься на перепутье: карта вдруг оказывается бесполезной, а стрелка компаса просто вертится и вертится, и не важно, что кто-то подсказывает, в какую сторону нужно идти.
Я сунул руку в карман. Положил в карман коробочку с кольцом.
– Конечно поезжай. Я же сказал – Ламонт шустрый малый. Он тебе поможет, он тебе здорово поможет. Ну, а из-за того, что ты уедешь, а я… Да ничего для нас с тобой не изменится. Как там говорят? Разлука и прочая ерунда. Небольшая разлука – и мы с тобой с ума будем сходить друг по другу… – Вот и все, что я сумел наговорить, прежде чем меня начало тошнить от звука собственного голоса.
Я поднял глаза. Пока я молол языком эту чушь, мне не хватало смелости взглянуть на Томми. Но теперь я это сделал.
Глаза у Томми были на мокром месте.
– С тобой все в порядке, детка?
– Не знаю… – Томми приложила руку к голове и с трудом встала со стула. – Наверное, тебе лучше уйти.
– Хочешь, чтобы я что-нибудь тебе принес?
– Я не… – Теперь она схватилась за голову: ее пальцы словно пытались проникнуть внутрь черепа. – Пожалуйста, уходи.
Томми скрылась в спальне и закрыла дверь – но не настолько плотно, чтобы оттуда до меня не доносились ее всхлипыванья. Я дал Томми то, что ей было нужно: свободу сделаться звездой, которой она заслуживала быть.
Но чего хотела Томми…
То, чего хотела Томми, было спрятано в кармане моего пиджака.
* * *
Дня два спустя. Или три. Томми улетала в Детройт. Мы сказали друг другу «до скорого», избегая излишне трогательных прощальных сцен. Из этих же соображений я посадил Томми в такси, но не стал провожать ее в аэропорт. Ей предстояла всего лишь небольшая поездка. Подумаешь! Не стоит из этого делать неизвестно что.
Самолет Томми вылетал в два тридцать.
Она отправилась в аэропорт Ла Гуардия в час. Там ее должен был встретить Ламонт, откуда-то вернувшийся, чтобы доставить Томми в Детройт. Самолично.
Когда такси отъехало, я немного погулял по городу, поглазел на витрины. Мне понравились часы. Симпатичные. Я таких никогда не имел. Денег на них не было. Почти не было. Но посмотреть приятно. Прошел мимо ателье, поглядел на костюмы. Костюмы, которые были мне не по карману, которые подходили к часам, которых у меня не было. Остановился возле ресторана, чтобы набить желудок. В общем, я потихоньку возвращался к своей привычной жизни.
Я узнал, который час.
Час восемнадцать.
Бесполезно. Бесполезно притворяться, что для меня существовала какая-то нормальная жизнь без Томми – по крайней мере, без возможности проводить Томми по-человечески.
Я поймал такси. Пришлось заранее помахать двадцаткой перед носом у водителя, чтобы он в рекордно короткое время довез меня в Куинс. Мои ноги, тоже на время став рекордсменами, доставили меня к выходу Томми как раз тогда, когда объявили посадку на ее рейс.
Я увидел ее – она разговаривала с Ламонтом. Подойдя ближе, я уловил обрывки их разговора: «Продемонстрировать… Образ… Подача…»
Ламонт оглянулся, заметил меня. До меня донеслось: «Черт!»
Томми просияла, как солнышко, и бросилась мне на шею.
– Я знала, что ты придешь!
Мы сразу стали обниматься и целоваться. Нам стало хорошо. Все стало как нужно. Во всяком случае, было море эмоций. Эмоции Томми, вытекая из ее глаз, просочились сквозь мою рубашку и залили мне грудь. Слезы были такие теплые, что я даже спиной как будто чувствовал их.
– Я не хочу улетать.
– О чем ты говоришь?
– Не хочу оставлять тебя.
– Но ты же не… Это же ненадолго. – Я вновь принялся за свою ободрительную чушь. – Зачем ты устраиваешь сцены? Ты летишь в Детройт, вот и все. Отсюда туда на воздушном шаре можно добраться. Ты должна туда лететь.
– Зачем? Чтобы стать настоящей звездой? Чтобы заработать кучу денег? – Она плевалась в меня моими же словами. Они жгли меня как кислота.
Я попытался прибегнуть к разуму, чтобы осадить Томми:
– У тебя появился шанс, хороший шанс пробиться. Ты ведь уже потратила уйму времени на то, чтобы твою музыку услышали. Наконец-то ты получаешь первое достойное предложение – и тут же хочешь все это послать к черту?
Еще раз объявили посадку.
– Чего я хочу – так это чего-то настоящего, чего-то важного.
– Я всегда буду здесь, я буду тебя ждать. Что может быть важнее? У нас еще есть время.
– А ты уверен, Джеки?
Я не был уверен. Я не был уверен ни в чем, я сам не понимал, что я такое говорю, что делаю. Я знал только, что люблю Томми и что не позволю ей загубить свою карьеру ради… ради меня.
– Чего ты хочешь от меня? – спросил я ее.
– Попроси меня остаться.
Я заколебался. И сказал:
– Я люблю тебя.
Она повторила умоляющим голосом:
– Попроси меня остаться.
Попросить ее остаться? У меня рот отказывался раскрываться, а когда раскрылся, то я только и сумел, что повторить:
– У нас еще будет время.
Через миг Томми отлепилась от меня. Она подошла к Ламонту, что-то сказала ему. Обернулась, быстро махнула рукой – словно боялась, что задержись она чуть дольше, то сникнет еще больше, – и сломя голову устремилась к дверям, помчалась по гудронированному покрытию, по какой-то лестнице навстречу своему лайнеру.
Ламонт подошел ко мне:
– Я понимаю, это трудно…
– Садитесь в свой самолет.
– Но так будет лучше.
– Да садитесь вы в свой самолет!
Ламонт так и сделал. Он сел в самолет, и почти сразу трап убрали, а двери заперли.
Супермашина, дав задний ход, сдвинулась с места стоянки, вырулила к взлетно-посадочной полосе, помедлила там, будто ожидая, не решусь ли я на что-нибудь.
Я ни на что не решился.
Самолет развил скорость и улетел в Детройт.
Я отправился домой.
Часть IV
Джеки Мейсон посмеялся над Эдом Салливаном. В его присутствии прямо на сцене, во время шоу Эда – шоу, которому он в 1955 году присвоил свое имя, чтобы ни у кого не было сомнений – кто тут главный, – Джеки Мейсон посмеялся над Эдом Салливаном.
На самом деле было не совсем так.
Но Эд Салливан решил, что Джеки над ним смеется. Номер Джеки затягивался. Эд из-за кулис начал показывать жестами, чтобы Джеки закруглялся, уходил со сцены. Джеки занервничал и стал отвечать Эду – тоже жестами.
Джеки решил, что это забавно.
Эд решил, что Джеки над ним смеется.
Эд выгнал Джеки из своего шоу.
После этого Джеки с позором был выставлен с телевидения.
Это погубило карьеру Джеки.
В конце 1950-х телевидение, все еще пребывая в младенчестве, уже обладало таким могуществом. Появившись у Салливана, Паара или Годфри [31]31
Паара Джек – руководитель шоу на телеканале Эн-би-си. Годфри Артур (1903–1983) – ведущий развлекательных программ на радио и ТВ.
[Закрыть] , какой-нибудь артист, раньше выступавший по клубам, мог в одночасье прославиться. А не появившись там, артисты могли до конца жизни оставаться теми же, кем и были, – никому не известными исполнителями, которые шутят или напевают в прокуренном помещении в ночные часы.
Но телевидение не просто в корне меняло жизнь людей, оказывавшихся внутри него. Оно меняло жизнь всех людей. Как только ТВ начало вещание от океана до океана, вся страна зажила по одним часам. Нам показывали развлечения в прямом эфире. Нам показывали спорт в прямом эфире. Нам показывали новости в прямом эфире.
Нам показывали мир не в записи.
Как брандспойтами и бойцовыми собаками разгоняют борцов за гражданские права – вживе.
Как главари мафии ссылаются на Пятую поправку – вживе.
Запуск спутника и как у Айка сдали нервы – вживе.
И как-то вдруг обнаружилось, что весь мир уже не находится где-то там, вдалеке. И как-то вдруг катодно-лучевое изображение любого крупного события – славного, жуткого или дивного – сделалось такой же деталью интерьера вашей гостиной, как торшер, кофейный столик в форме листика клевера и диван. И как-то вдруг вы уже больше не могли оправдываться незнанием того, что происходит где-то там, на Юге, или на Севере, или далеко на Западе. Как бы вы к этому ни относились, блаженное неведение кануло в прошлое точно так же, как кринолины или фалды фрака. Действительность вторгалась в жизнь каждого.
Есть и такие болтуны, которые готовы тявкать о том, что Америка потеряла невинность, когда перед нами засветились голубые экраны телевизоров. Но, во-первых, страна, которая была украдена у туземцев и построена на горбах рабов и кули, никогда не знала невинности. Все, что мы отмели, – это невежество. Таково было могущество телевидения. Такова была сила убеждения телевидения. Однако, чтобы полностью наслаждаться этим преимуществом, нужно было принадлежать к миру телевидения.
Вы не могли принадлежать к этому миру, если Эд Салливан думал, что вы над ним смеетесь.
Март 1958 – май 1959
Фрэнсис Клигман перестала быть Фрэнсис Клигман. Фрэнсис Клигман стала Фрэнсис Кларк.
Ребята из Си-би-эс, которым она так полюбилась на представлении в Виллидже, полюбили ее еще больше после того, как силком заставили девушку деэтнизировать свою фамилию.
Я спросил у Сида, что он об этом думает.
Он передернул плечами.
– Люди не против того, чтобы смотреть по телевизору евреев, – просто они не хотят, чтобы им напоминали о том, что они смотрят по телевизору евреев.
Сид сказал, что Фрэнсис заартачилась, когда ее попросили переименоваться в Кларк, заявила, что ей плевать на то, кто еще менял свои фамилии, и плевать, какой славы они достигли, нося свои новые фамилии. Она – Фрэнсис Клигман, и точка.
Понадобился пятидесятитрехминутный телефонный разговор с Дайной Шор[32]32
Дайна Шор (наст. имя – Фрэнсис Роуз Шор; р. 1917) – популярная певица 40–50-х гг. на радио, ТВ, в кино.
[Закрыть], чтобы убедить ее в том, что изменить имя – не означает продать душу.
Если не считать этого небольшого облачка, всё для Фрэн оборачивалось как нельзя лучше. Скоро у нее должна была выйти новая пластинка. На этот раз – в Ар-си-эй. Можно было ожидать большого успеха.
В Си-би-эс не хотели полагаться на случай. У них уже имелись виды на свою новую звездочку. Телевизионщики попросили Фрэн повременить примерно месяц с выпуском альбома. Им хотелось, чтобы ее песни прозвучали там, где их обязательно заметят. Им хотелось, чтобы они прозвучали на первом в новом сезоне шоу Салливана.
Фрэн узнала об этом, когда была в Лос-Анджелесе, и пришла в неописуемый восторг. Еще бы! Новая пластинка на первом шоу нового сезона с Салливаном. Помимо того, что Фрэн и впрямь была очень талантлива, такая реклама гарантировала ей ошеломительный успех. Уже в понедельник после воскресного шоу, в котором появится Фрэнсис Кларк, ее имя будет у всех на устах.
После того, как ей сообщили новость, Фрэн первым делом позвонила с океана мне, настаивая, чтобы я пришел на передачу, был рядом с ней. Как раньше. Как в пору Театра на Четырнадцатой улице.
Я ответил, что ни за что не пропущу такого случая. Раз двадцать повторил, как я рад за нее.
Мы оба повесили трубки.
Из другой комнаты отец хрипло прокричал мне, что ему нужна доза.
* * *
У Артура Миллера была Мэрилин Монро. У армии был Элвис. У меня – отец.
Я ненавидел отца. Никакое другое, менее жесткое, слово тут не подошло бы. Я ненавидел его, но по-прежнему жил с ним. Это был какой-то безумный синдром дурного обращения. Когда-то меня удерживали его побои, страх перед побоями. Теперь, когда он стал безвредным и жалким, это было чувство вины. Невысказанная клятва, адресованная матери, не давала мне бросить его на произвол судьбы: иначе я чувствовал бы себя виноватым. Мне суждено было заботиться о нем, пока он жив. И пока он жив, мне не суждено было стать свободным.
Сколько способов умереть существует для алкоголика? Сколько способов закончить жизнь – для наркомана? Столько же, сколько ночей я убаюкивал себя перед сном, перебирая в уме все эти способы. Обыденный: пьяница падает. Пьяница разбивает себе голову. Пьяница слишком пьян, чтобы как-то помочь себе, он просто лежит и истекает кровью. Сенсационный: наркомана изрешетили пулями во время налета агентов ФБР из отдела по борьбе с наркотиками. Просто иронический: пьянь, рвань и дрянь – у него отказывает сердце, когда он поднимается по лестнице, и он испускает дух на тех же ступенях, где много лет назад испустила дух моя мать.
Но ничего этого не происходило.
Как бы разрушительно ни действовали на моего отца спиртное и наркотики, они не могли его уничтожить. У него выработалась сопротивляемость. Курево, колеса – ему все трын-трава. Спиртное для него – все равно что стакан прохладной воды. Мне ничего больше не оставалось, как сидеть и дожидаться, дожидаться, дожидаться, когда же его не станет.
Сколько способов умереть существует для алкоголика? Сколько способов закончить жизнь – для наркомана?
Для моего папаши – по-видимому, ни одного.
Прервав поток ругани, я извинился перед Сидом за то, что заставил его все это выслушивать. Я зашел к нему на работу поплакаться в жилетку – и теперь нападал на своего отца – этого зловонного алкаша. Этого паршивого, проспиртованного ублюд…
Снова – Сиду:
– Извини.
Сид пару секунд сидел молча. Он немного поерзал за своим письменным столом.
– Я хочу тебе кое-что рассказать, Джеки. Мне надо было сразу рассказать тебе это… – Он умолк, обвел взглядом комнату, посмотрел в окно. На меня он не глядел. – В моей жизни… э… было время, когда я слишком много пил. Слишком много, слишком часто.
У меня вырвалось:
– О-о! – От удивления, от любопытства. Но больше всего – от сожаления, что я толковал перед Сидом о том, как должны умирать пьяницы.
– Да что там говорить! Я был алкоголиком. До сих пор им остаюсь. То-то и оно: привыкнешь к бутылке – она больше никуда от тебя не уйдет.
Сид ждал, что я скажу что-нибудь в ответ.
Я не проронил ни слова.
Сид продолжал:
– Когда Эми… когда ее не стало, я на некоторое время будто в яму провалился. Ты представить себе не можешь, как мне было больно, когда она… И вот, живешь с этим пару недель, несколько месяцев и наконец ты уже не хочешь так жить, не хочешь ничего чувствовать. Тут-то на помощь и приходит спиртное. – Сид рассеянно водил пальцами по столу. – И вот я, когда слушаю, как ты говоришь про своего отца…
– Но ты – совсем другой человек! – согласился-возразил я. – А мой отец, этот… Как он со мной обращался…
– А ты думаешь, я никого не заставлял страдать?
Ну, тут уж я не знал, что и подумать.
– Я никого не бил. Никогда не впадал в буйство.
– Ну, тогда ты и не…
– Страдать можно по-разному. Мой брат, его жена – ты бы у них спросил, каково им было рядом со мной, когда я надирался. Или у моих клиентов, чьими делами я должен был заниматься, а на самом деле в разгар дня сидел за стаканом. – Он уронил голову. – Не случайно мне некем похвастаться из знаменитостей, а те клиенты, что у меня есть…
– Что – они? Не забывай, мы с Фрэн тоже к ним относимся.
Тут он слегка улыбнулся.
Я осторожно добавил:
– Но ты-то уже завязал. Я хочу сказать, это-то и важно. А мой папаша не собирается от бутылки отрываться. Ты ведь завязал… да?
Сид кивнул.
– Однажды только не удержался. А так я приверженец здорового образа жизни. Я просто рассказываю тебе все это, Джеки, потому что ты должен об этом знать. Ты должен знать, что люди не безупречны. Что я не… Я тебе это рассказываю потому, что, зная, как ты относишься к пьяницам… – Впервые с той минуты, как началась эта исповедь, Сид поглядел мне в глаза. – Если ты захочешь от меня…
Сколько еще людей за всю мою жизнь так порядочно со мной обходились? Включая Сида, я все равно загнул бы не все пальцы даже на одной руке.
Я повернул запястье, сверился с часами.
– Мне нужно домой, переодеться. Нам, – я сделал особый упор на это слово, – надо быть в «Копе» в полседьмого.
* * *
«Копакабана». «Копа». Предмет моей преданности. Символ эпохи: высший класс. Запах больших денег. Про нее читаешь, про нее слышишь, но большинство американских тружеников спустило бы весь свой месячный заработок только на входной билет, еду и выпивку. Но даже если б им удалось наскрести столько зелени, они бы выяснили, что могут лишь подойти к «Копе», а вот войти внутрь не могут. И дело не в том, что в этом клубе не любили чернокожих. То же самое относилось к «Аисту», к «21» и особенно к «Эль-Марокко». В «Копе» не любили всех, у кого не было денег, или влияния, или приемлемой комбинации того и другого. В этом смысле «Копакабана» отличалась прогрессивными взглядами: ее дискриминация уравнивала всех.
Мы с Сидом вылезли из такси на пересечении Шестой и Мэдисон, подошли к дверям «Копы». У меня был переброшен через плечо пластиковый пакет с костюмом, только что из чистки. Внутри нас окликнул – «Эй, как дела?» – Жюль Поделл, владелец клуба, который тут же наскоро представил нас всем вокруг. Официантам, барменам. Я поздоровался с каждым.
В ответ я чаще всего получал прохладные взгляды.
Нас проводили в мою гримерку – номер в «Гостинице 14», расположенной над клубом. Ко мне зашел Тони Беннетт, опередив меня и лишив меня возможности первым его поприветствовать. Он сказал, что слышал хорошие отзывы обо мне, о моих выступлениях. Сказал, что надеется на успешное совместное представление, а если что, то он мне поможет, стоит только дать ему знать.
Он спрашивал: может ли чем-нибудь помочь мне?
Тони оказался приличным человеком. Рядом с ним я не чувствовал себя мальчишкой на переменке: напротив, создавалось ощущение, что я с ним на равных, что сам я – вроде как звезда.
Он снова пожелал мне удачного представления и отправился к себе в гримерку – готовиться.
Сид сначала поторчал рядом, а потом объявил, что ему нужно пойти поглядеть на публику. По правде говоря, я решил, что он просто не хочет заражать меня собственной нервозностью. Он ушел, на ходу роняя пожелания удачи.
Я просто задрал ноги кверху и расслабился. У меня было еще добрых четверть часа до начала шоу, и я решил насладиться затишьем. Я вспомнил, как когда-то заявился сюда и постучал в дверь «Копы», но не сумел проскочить мимо того верзилы со скверной прической, – а вот сейчас, спустя считанные минуты, я поднимусь на сцену, принимая смешки, хлопки и улыбки из зрительного зала, забитого людьми, которые изрядно раскошелились, чтобы меня увидеть.
Ну ладно, раскошелились они, конечно, на Тони Беннетта, но как довесок шел я, так что они тем самым платили и за то, чтобы посмотреть на меня тоже. Как бы то ни было, утешал я себя, пройдет какое-то время, и жирным шрифтом на афише будет набрано уже мое имя, и тогда не останется никаких сомнений в том, кто и за что платит.
Я подумал о Томми.
Снял телефонную трубку, и оператор междугородной связи соединил меня с ее гостиницей в Детройте. Томми на месте не оказалось.
Я взмахнул рукой, посмотрел на часы. До начала шоу оставалось всего несколько минут. Я потянулся за стаканом воды. Она пролилась мне на руку. Вернее, моя рука так дрожала от волнения, что вода из стакана выплеснулась. Я встал, чтобы схватить полотенце, но колени едва держали меня. Вдобавок способность ровно, спокойно дышать вдруг превратилась в цирковой трюк.
Нервы.
Нервы, которые я весь день как-то держал под контролем, обернулись волками, готовыми вцепиться мне в горло. Месяцы гастролей, работа во множестве клубов – все теперь было не в счет. Ведь это – «Копакабана». Я мог разыгрывать равнодушие, для всех окружающих я мог изображать, что сегодня – просто очередное представление, но, разумеется, я только притворялся. А правда состояла вот в чем: мысль, что я буду выступать на разогреве у самого Тони Беннетта, вселяла в меня жуткий страх. Мысль, что я буду выступать в «Копе», наводила на меня ужас. Наверно, Сид правильно мне тогда советовал. Наверно, надо было убедиться, что я абсолютно готов ко всему, что мне предстоит делать – на каждой ступеньке моего пути. А я внезапно ощутил себя не опытным исполнителем, а перепуганным мальчишкой, который почему-то вообразил, что умеет развлекать народ. Я снова почувствовал то, что так часто ощущал в глубине души: никакой я не особенный – просто не такой, как все.
Я спустился из гримерки вниз, в помещение за сценой, примыкавшее к кухне. Жюль Поделл, зажав в пухлой руке бокал виски с содовой, наблюдал за залом из-за кулис. Он поглядел на меня, заметил мою бледность-сквозь-черноту и поинтересовался:
– В чем дело, малыш?
Я был застигнут врасплох:
– Да так, дрожь напала. Наверно, я немного нервничаю. Сказать начистоту? Боюсь, меня сейчас стошнит. – Тут я посмеялся. Над самим собой.
Жюль улыбнулся мне – улыбнулся так, как будто сейчас приободрит меня по-отцовски мудрыми словами давнего владельца клуба.
Он сказал:
– Что ты там мелешь, хрен собачий? Нервничает он – ниггер паршивый, вонючка чернокожая!
Тут до меня дошло. Он не улыбался – он глумился.
– Я тебя пускаю в свой клуб, кормлю тебя, угощаю выпивкой, плачу тебе хрен знает сколько денег, а ты, ниггер чернозадый, скулишь тут, как собака? «У-у, боюсь», – передразнил он меня.
Почему он просто не ударил меня? К побоям-то мне не привыкать.
– А теперь послушай, черное дерьмо. Чтоб я больше не слышал твоего хренового хныканья. Давай, проваливай на сцену и рассказывай свои паршивые прибаутки. И чтоб смешно было, мать твою!
Покончив с ободряющей беседой, Жюль сделал глоток из бокала, почти не видного в его мясистой руке, и ушел, будто его затошнило от моего присутствия.
Официанты и наемная обслуга на кухне продолжали хлопотать, записывать заказы, подцеплять шарики фруктового мороженого. И так далее. Они не стали смеяться надо мной, хуже того – они даже не удостоили меня внимания.
Я стоял на месте, все еще чувствуя боль от словесных пощечин Жюля, и теперь к прежней нервозности добавился новый страх. У меня не было никакого желания видеть, насколько неприятным способен сделаться этот человек, случись мне оказаться на грани истерики.
Появился конферансье. Я услышал свое имя. Вышел на сцену. Аплодисменты, которыми меня приветствовали, были неплохими. Неплохими – до тех пор, пока толпа облаченных в костюмы и вечерние платья, усыпанных драгоценностями и увенчанных начесами зрителей не разглядела моей черноты. Тогда их хлопки сначала сделались вежливо-жидкими, а затем вовсе стихли.








