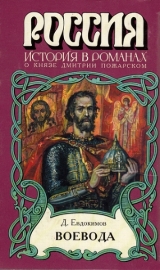
Текст книги "Воевода"
Автор книги: Дмитрий Евдокимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
Гроб внесли в Архангельский собор, где после молебна его поместили в склеп рядом с могилой Ивана Грозного. Толпа не расходилась, ожидая чуда. Двое монахов, выйдя из храма, цепко оглядели собравшихся на паперти калек и слепых, взяли одного под руки и ввели в храм. Через несколько секунд слепой выскочил оттуда, размахивая руками и вопя:
– Вижу, воистину всё-всё вижу. Прозрел, слава тебе, Господи. Слава святому царевичу Димитрию.
В толпе истово закрестились, ударил большой колокол Кремля. И тут же по всей Москве весело затрезвонили тысячи колоколов. А монахи уже бережно вносили не могущего ходить человека. И чудо повторилось вновь. Маржере и Конрад Буссов, который непременно хотел о чём-то срочно переговорить с полковником, стояли чуть поодаль и считали вместе с толпой:
– Седьмой... девятый... двенадцатый.
На тринадцатом, вот и не верь приметам, произошла досадная заминка. Проходила минута, вторая. Наконец монахи вытащили калеку, но не исцелившегося, а умершего. В народе началось шевеление, поползли голоса:
– Люди добрые, обманывают нас, никакой Димитрий не святой.
– Да и не Димитрий это вовсе! Говорят, Филарет купил за большие деньги у одного стрельца сына. Вот его и зарезали, а потом показали, якобы нетленного.
– А звали мальчика Романом, – сказал кто-то авторитетно.
– Поглядите, монахи ведь не всякого берут, а только тех, с кем сговорились.
Движимые любопытством, Маржере и Буссов подошли вплотную к паперти, где сидело несколько десятков калек.
– А вы почто в храм не идёте, не исцеляетесь?
– Боимся, – ответил один бойкий калека.
– Чего же? Святого?
– Нет, своего маловерия. Бог может наказать.
Посмеиваясь, иностранцы пошли прочь.
– Так что ты мне хотел сказать, Конрад?
Буссов остановился, с таинственным видом оглянулся и прошептал на ухо Маржере, жарко дохнув перепревшим чесноком и водкой:
– Он в Путивле. С войском.
– Ну и дела! – присвистнул Маржере. – Я же своими глазами видел труп.
– А кого это интересует! Шуйскому не усидеть, это ясно. А тот, кто будет ближе к трону, тот больше и получит... Ну, как, махнём?
– Меня не пустят. Да и тебя, пожалуй, тоже. Шуйский строго присматривает за иностранцами...
– Меня-то выпустят. Ты забыл? Моё поместье – возле Калуги. Требуется хозяйский глаз... Ну, что ж, лёгкого пути!
«В году 7114-м (1606) после царствования расстриги сел на престол Московского государства царь Василий Иванович, именуемый Шуйским, происходивший из рода князей суздальских. Суздальскими же именуются по такой причине. Было два сына у великого князя Ярослава Всеволодовича, внука Юрия Долгорукого, правнука Владимира Мономаха, праправнука Всеволода Ярославича; а был старший сын у великого князя Ярослава Всеволодовича – великий князь Александр, именуемый Невский, княживший во Владимире, здесь же и положен был в монастыре Богородицы, честного её Рождества. У него родился сын – князь Даниил Московский, и другие были от этого рода, поколение за поколением. А другой был сын – князь Андрей Ярославич, младший брат Александра Ярославича Невского. И тот был великим князем суздальским, а после него княжил сын его князь Василий Андреевич, а у князя Василия был сын – князь Константин, а у князя Константина – князь Димитрий. Тот был великим князем новгородским. А у князя Димитрия – князь Василий Кирдяла, а у князя Василия Кирдялы – князь Юрий, а у князя Юрия – князь Фёдор, а у князя Фёдора Юрьевича, у Кирдялина внука, – князь Василий Шуйский, а у князя Василия Шуйского – князь Иван, а у князя Ивана дети – князь Андрей и князь Пётр. И из рода их царь и великий князь всея Руси Василий Иванович».
Из хронографа 1617 г.
«А царь Василий ростом невысок, лицом некрасив, глаза имел подслеповатые. В книжном учении достаточно искусен и умён был. Очень скуп и упрям. В тех только заинтересован был, которые в уши ему ложь нашёптывали, он же с радостью её принимал и с удовольствием слушал, к тем стремился, которые к восхвалению склонность имели».
Шаховской С.И.
Летописная книга.
Загудела как улей вся Европа. До папского нунция в Кракове, наставника Димитрия на духовном пути, графа Александра Рангони дошли слухи, что русский царь жив и скрывается в Самборе, в монастыре бернардинцев. Далее следовали подробности таинственной истории: шли по дороге трое неизвестных. К одному из них путники относились с чрезвычайным почтением. Вдруг подъезжает экипаж. Таинственный незнакомец сел в него и уже не выходил. Затем этот экипаж видели в Самборе. Его сопровождали двое всадников. После этого путешественники как в воду канули. Но в замке всё преобразилось. До того времени воевода был погружен в печаль. Теперь он не плачет больше, и на лице его играет улыбка. Одна из служанок замка разболтала тайну на базаре: оказалось, что причиной радости воеводы является возвращение Димитрия в Самбор.
Нунций, осведомлённый, что Юрий Мнишек с дочерью находится в Москве под стражей, не придал значения этим нелепым слухам. Но вот исповедник короля Сигизмунда отец Барч сообщил Рангони о своём допросе бывшего офицера армии Димитрия Валевского и его слуги Сигизмунда Криноского. Оба утверждали, что Димитрий имел двух двойников. Одного звали Борковский, другой был племянником Масальского. За исключением знаменитой бородавки возле носа, они были точной копией царя. В ночь мятежа роль царя играл Борковский, и он пал под выстрелами заговорщиков. Сам же Димитрий умчался из Москвы на лихом скакуне.
Получив сообщение отца Барча, нунций начал колебаться, уж очень ему хотелось, чтобы царь остался жив и интрига, начатая Рангони по распространению католицизма в России, получила своё продолжение. Ещё больше сбило его с толку письмо бывшего духовника царя, отца Андрея. Тот сообщал, что, глубоко удручённый катастрофой, отправился в Самбор, рассчитывая проверить слухи о чудесном спасении Димитрия. Однако здесь его ожидало горькое разочарование, сменившееся внезапно бурной радостью, – во Львове один офицер показал ему письмо от супруги сендомирского воеводы. Мачеха Марины категорически заверяла, что Димитрий жив.
Нунций аккуратно сообщал о всех доходивших до него известиях о русском царе папе Павлу V, порождая в папском дворце то надежду, то сомнение.
Лишь в ноябре 1606 года Павел V окончательно уверился в гибели Димитрия и вынужден был признать, что блистательный план присоединения России к Католической церкви рухнул. «Злополучная судьба Димитрия, – произнёс он в своей поминальной речи, – является новым доказательством непрочности всех человеческих дел. Да примет Всевышний душу его в царство небесное, а с ним вместе да помилует и нас».
В отличие от папского двора в Кремле точно знали, кто поселился в Самборе. Маржере, охранявший тронный зал, слышал, как в присутствии думы зачитывалось письмо из Кракова посла Григория Волконского. Через тайных осведомителей-поляков тот получил точный словесный портрет нового самозванца:
«Димитрий возрастом не мал, рожеем смугол, нос немного покляп, брови черны, не малы, нависли, глаза невелики, волосы на голове курчевавы, ото лба вверх возглаживает, ус чёрен, а бороду стрижёт, на щеке бородавка с волосы, по-польски и по-латыни говорить умеет».
Подьячего Посольского приказа громогласно прервал Татищев:
– Тут и гадать нечего – Мишка Молчанов. Он, вор, точно он! Верный слуга самозванца!
– Кто-то ему помогал непременно, – заметил Василий Голицын. – Иначе как он из царской конюшни трёх коней увёл?
– Знамо дело, вор!
Маржере, стоя как изваяние у створчатых дверей, тем временем размышлял:
«Если это действительно лишь слуга Димитрия, не могла жена Мнишека спутать его с женихом своей дочери. Ведь она наверняка запомнила будущего зятя».
Он хорошо помнил лукавую рожу приближённого Димитрия. Тот благороден, статен, а этот – суетлив, глаза бегают, всегда от него дурно пахло чесноком.
«Нет, пани Мнишек никак не могла бы поверить чужому человеку. Значит, он приехал с чьей-то рекомендацией. Постой-ка, не потому ли воевода и его дочка были в хорошем настроении, когда мы с Татищевым пришли требовать подарки Димитрия? Не сам ли воевода дал рекомендательное письмо Молчанову? Ведь тот вполне мог соврать, что уберёг царя и хочет тайно переправить его в Польшу?»
Кажется, мысли Шуйского шли по тому же пути. Он неожиданно крикнул:
– Мнишека с Маринкой и весь их двор немедля отослать подальше от Москвы. В Ярославль. И охраны не жалеть. Сколько у них челяди?
– Почитай, больше трёхсот, – ответил подьячий.
– Значит, послать триста стрельцов, а к ним приставов понадёжнее. И остальных полячишек разослать по городам с охраной.
– И послов?
– Послы пусть сидят здесь, в своём подворье, пока Волконский ответ короля о перемирии не привезёт.
– Тут Волконский ещё пишет... – робко заметил подьячий.
– Чего?
– На Украйне, у казаков, появились письма царя Димитрия Ивановича, сообщает, что жив и зовёт на Москву!
– Царь-то не настоящий.
– Царь не настоящий, но печать, как сказали послу, подлинная, красная.
Татищев заскрипел зубами и что было силы ударил посохом об пол:
– Это всё его проделки, Мишкины! То-то мы печать никак не дождёмся, думали, в приказе Дворцовом пропала, а она вона где! То-то я ещё удивился: челядь вся давно разбежалась, а он всё по покоям шнырял. Значит, он печать и спёр.
– Что же, его и не обыскивали? – спросил государь.
– Обыскивали. Да такой ловкач, наверняка успел куда-нибудь запрятать, а потом, как бежал, её и прихватил.
– И где самозванец сбор назначил? – обратился Василий Иванович к подьячему.
– В Путивле.
– Понятно дело. Ведь расстрига в благодарность за помощь всех путивльских на десять лет освободил от всех налогов и податей.
– И воевода там больно ненадёжный! – подал голос Воротынский. – Гришка Шаховской. Его отец – Петька один из первых князей к самозванцу перебег, за что и сидел в его ближней думе в Путивле. Сын, видать, недалеко от батюшки ушёл! А ты, милостивый государь наш, его в опалу туда сослал!
– Бросили щуку в реку! – тоненько захихикал Мстиславский.
– Что же делать? – растерянно спросил Шуйский. – Патриарх, скажи своё слово.
На патриаршем троне сидел митрополит Казанский Гермоген, только что единодушно избранный первым лицом Православной Церкви Священным собором. Был Гермоген ровесником Ивана Грозного: в год его избрания ему исполнилось семьдесят пять. Будучи, как говорили знавшие его священники, «словечен и хитроречив, но не сладкогласен, а нравом груб и прекрут в словесах и воззрениях», Гермоген прославился не только ожесточённой борьбой за души язычников, но и тем, что его прямоты побаивались русские цари. Во всяком случае, Борис Годунов, созывая Земский собор для избрания его царём, Гермогена пригласить «забыл». Гермоген был единственным из митрополитов, кто открыто осудил брак Димитрия с католичкой.
Сейчас, пронзительно глядя на бояр так, что те начали смущённо отводить глаза и даже креститься, Гермоген резким пронзительным голосом произнёс:
– Раньше надо было думать, что делать. Коли послушались бы меня и, объединившись, не допустили католичку к престолу, не было бы сейчас этой смуты.
Он презрительно глянул на Шуйского, которого явно недолюбливал за его двоедушие и корысть, однако поддерживал, как законного правителя.
Прямо отвечая на заданный Шуйским вопрос, Гермоген сказал:
– Уже писаны мною и разосланы грамоты по всем церквам, чтоб знакомили верующих, что на престоле был истинно расстрига и злодей, продавший душу дьяволу. Говорится также о погребении в Архангельском соборе великомученика царевича Димитрия Ивановича. Но словесы живые лучше писаных. Потому считаю, что настала пора Нагим публично искупить свой грех, что приняли на себя, признав самозванца истинным царевичем. Пусть один из братьев, а лучше если с инокиней Марфой, отправится туда, на юг, и расскажет людям о своём великом прегрешении. И пора снова открыть всем страждущим доступ к погребальнице царевича: пусть слава о чудесах исцеления, им творимых, разойдётся по всея Руси.
Он помолчал и, видимо вспомнив боевой опыт своей юности, вновь обратился к Шуйскому:
– А тебе, государь, мой совет – не распускай войско, что собрал самозванец для войны с турками. Оно тебе ещё понадобится.
«И немного спустя почал и мятеж быта в северских градех и у в украинских, и стали говорити, что жив царь Дмитрей, утёк, что был Рострига, не убили его. И с тех мест стали многие называтца воры царевичем Дмитреем за грехи наши всех православных християн. И назывался некоторый детина именем Ильюшка, послужилец Елагиных детей боярских, нижгородец, а назвался Пётр-царевич, сын царя Фёдора Ивановича, а жил в Путивле и многие крови пролил бояр, и дворян, и детей боярских лутчих, и всяких людей побил без числа».
Пискарёвский летописец.
Уже в июле 1606 года Москва превратилась в военный лагерь. После очередного волнения на посадах, кончившегося взрывом главного порохового погреба, Шуйский приказал поднять все мосты, ведущие в Кремль, и выкатить на крепостные стены пушки.
Государь становился всё более подозрительным. Разослав по городам всех вельмож, которые, по его мнению, мутили москвичей, Шуйский вспомнил о злополучном Симеоне Бекбулатовиче. При самозванце Симеон был пострижен в монахи и жил в Кирилло-Белозерском монастыре под именем Стефана. Теперь по приказу Шуйского слепого, дряхлого старца Стефана отправили ещё дальше – на Соловки.
Недоверие государя почувствовал и Маржере. Он и его гвардейцы больше не допускались в царские покои, им поручалось лишь сопровождать царя во время торжественных выездов. Что ж, причина для охлаждения к иноземным воинам у Шуйского была основательная. Когда царское посольство отправлялось в Польшу, он разрешил отпустить на родину мелкопоместных шляхтичей. Мало что зная, они не могли своей болтовнёй принести ущерб царскому двору в глазах короля. Разрешено было покинуть Москву и прочим иноземцам – купцам, ремесленникам. Причём купцы, приехавшие на свадьбу Димитрия с Мариной, чтобы поживиться, уезжали и без денег, и без товара. Тут уж постарались приставы Шуйского. Часть гвардейцев во главе с капитаном Кнаустоном заявила о своём желании покинуть двор, так и не дождавшись обещанного вознаграждения от государя. Василий Иванович вынужден был их отпустить, а затем поползли слухи, будто кое-кого из ландскнехтов видели в Путивле в войске повстанцев.
Донесения воевод с юга России становились всё более тревожными: один город за другим объявляли о непризнании царём Шуйского: Моравск, Новгород-Северский, Стародуб, Дивны, Кромы, Белгород, Оскол, Елец.
Провалилась затея Гермогена с поездкой Нагих в Елец, бывший центром мятежа при первом самозванце. Поехал один Григорий Нагой с грамотой сестры, инокини Марфы. Однако покаяние его было принято ельчанами с насмешкой – они не верили ни рассказу Нагого о том, что они были обмануты кознями дьявола, не верили и в святые мощи убиенного Димитрия Ивановича, якобы творящие чудеса. Нагой был с позором изгнан из города.
Рать восставших всё росла, Шуйскому стали известны имена предводителей. Это были боярский сын Истома Пашков, служивший прежде стрелецким сотником в Белёве, неподалёку от Тулы, и бывший боевой холоп князя Андрея Телятевского Иван Болотников[75]75
Болотников Иван Исаевич (?—1608) – предводитель восстания 1606—1607 гг., беглый холоп, был в турецком плену. Организатор и руководитель повстанческой армии в южных районах России, под Москвой, Калугой, Тулой. В октябре 1607 г. сослан в Каргополь, ослеплён и утоплен.
[Закрыть].
Шуйский лихорадочно собирал войско. Каждый день из уездов прибывали новые отряды ополченцев, которые направлялись в стан главного воеводы Ивана Воротынского. Государь и в час опасности остался верен себе – вновь прибывающим воинам сообщалось, что им придётся вступить в сражение с татарскими войсками, идущими из Крыма. Только при подходе к Ельцу они узнали правду, что драться придётся с такими же православными, как и они сами.
Рать самозванца вновь неотвратимо двигалась к Москве, с той лишь существенной разницей, что самозванца на этот раз в ней не было. Снова по городам летели грамоты государя и патриарха с увещеванием, но оказывали они, скорее, обратное действие.
Стрельцы то и дело хватали пришлых людей, возвещавших на папертях и площадях о скором приходе в Москву доброго царя Димитрия Ивановича. Их нещадно били кнутом и топили в Москве-реке. Одного даже всенародно посадили на кол. Но истязуемые упрямо кричали, что царь жив, и пророчили палачам скорую смерть.
Неистощимый на выдумки Шуйский сделал для москвичей новое представление. На Лобном месте люди увидели старую измождённую женщину и молодого человека, одетого в дворянское платье будто с чужого плеча. Пока они испуганно таращились на гомонящую толпу, дьяк возвестил, что это из Галича привезены по указу царя мать и младший брат Гришки Отрепьева.
Мать и брат наперебой стали говорить, что они очень давно не видели своего злополучного родственника, но сызмальства Гришка отличался буйным нравом и злыми выходками, пока окончательно не убег из дома.
– А как царём стал, его вы видели?
– Нет, не видели. Не приглашал он нас, – поджала обидчиво губы мать.
– Так как вы можете говорить, будто царь это и есть ваш сын?
– Так нам сказывали! – ответила мать, вопросительно обернувшись к дьяку.
Под хохот толпы родственников Отрепьева увели с площади.
Неожиданно Маржере, который бесцельно слонялся по Москве, был позван к государю. У дворца он встретил Дмитрия Пожарского, который что-то досадливо объяснял юнцам в неуклюжих ферязях.
– Новобранцы? – насмешливо спросил Маржере, учтиво раскланявшись с князем.
– Новая затея государя, – не меняя досадливого тона, ответил тот. – Всегда при дворе было тридцать стольников, не более. А он решил набрать двести.
– Несмотря на свою скаредность? – удивился Жак.
Дмитрий глянул на него:
– Видать, не от хорошей жизни. Стольник не только за столом прислуживает, это – телохранитель государев. Видать, твои гвардейцы в опалу попали.
– Платил бы больше, не попали бы! А то уж разбегаться начали. Я бы и сам... – Жак поперхнулся, не договаривая о потаённом.
– Уехал бы? – понял Дмитрий.
– Увы, не отпустит меня государь подобру...
– Что так? Уж очень люб ты ему сделался? – усмехнулся князь.
Маржере картинно поднёс указательный палец в перчатке к губам:
– Тс-с-с! Слишком много видели мои глаза и слышали мои уши. А голова-то у меня одна. Так что о том, чтобы уехать, не то что говорить, думать боюсь.
На самом деле Маржере постоянно думал, как бы унести ноги из Москвы целым и невредимым. Его шпага становилась ненужной Шуйскому, а знал он действительно слишком много. Значит, жди ссылки куда-нибудь подальше, где никакой европеец не выдерживает лютых морозов. А то и просто как-нибудь ночью пустят под воду. Кто будет интересоваться безвестным французом? Существовала и другая опасность, от которой Жак постоянно просыпался в холодном поту: вдруг узнают, что он – шпион! Вряд ли его «друзья» оставят Маржере в покое. Английский посланник Джон Мерик сразу же после мятежа в Москве был благосклонно принят Шуйским и отправился в Англию за поддержкой нового правительства королём Яковом. Но тут же как ни в чём не бывало вернулся из Англии Давид Гилберт. Правда, никаких конкретных поручений он не давал, однако, отправляясь с Конрадом Буссовым на юг, к новому самозванцу, посоветовал Жаку «быть начеку и подробно записывать все дворцовые новости». И наконец, старый воин почувствовал, что стосковался по родной речи гасконцев, по милым француженкам, по своему обожаемому королю. Не такой человек Жак де Маржере, чтобы что-нибудь не придумать!
И вот нежданная удача! Маржере, почтительно нагнув голову, внимательно слушал Шуйского, который пригласил его к себе в опочивальню, как только Жак появился во дворце, слушал и ушам своим не верил.
– Есть у меня, полковник, для тебя секретное поручение. Поедешь с моим приставом в Ярославль. Чтобы не было лишних разговоров, наденешь платье стрелецкого сотника. Пристав даст тебе возможность переговорить с Юрием Мнишеком с глазу на глаз. Нам стало доподлинно известно, что неведомым путём он переписывается с женой. Про то мой посол проведал, а потом и сам Мнишек приставу проговорился. Стал спрашивать у него, всё ли спокойно в России, тот и сказал, что Воротынский разбил мятежников под Ельцом, тут воевода не выдержал и стал кричать, что нехорошо обманывать, что ему доподлинно известно, что Воротынский бежал от Болотникова. А когда пристав спросил, откуда, мол, такое известие, Мнишек смешался и начал говорить, деи, слышал это от стрельцов. А стрельцы-то ничего слыхом не слыхивали про войну с мятежниками. Когда они из Москвы съезжали, то все говорили, будто войско собирается на войну с татарами!
– Так мне следует разузнать, как он передаёт письма? – живо поинтересовался француз.
– Нас это не интересует. Наоборот, пусть почаще пишет! – хитро заморгал подслеповатыми глазками государь. – Главное, чтобы он написал то, что нам надобно. Уяснил? Когда будешь с ним разговаривать, скажи, что хочешь поведать великую тайну, деи, в его замке в Самборе появился человек, который его жене сообщил, будто Димитрий жив. Скажи, что стало точно известно, что этот человек – слуга Димитрия, Мишка Молчанов. Чтобы проверить, пани достаточно хорошенько натопить баньку и послать с этим человеком своего верного слугу, чтобы спинку ему потёр.
Шуйский хихикнул от удовольствия.
– На спине слуга без труда сосчитает двадцать полос от кнута. Ровно столько было дадено Мишке Молчанову в царской пыточной. И скажи, что байку про Димитрия сам Молчанов вместе с Гришкой Шаховским придумал, чтоб смуту затеять. Потом вздохнёшь и скажешь, что, мол, хорошо бы, чтоб об этом узнал король. Тогда Сигизмунд замолвит, деи, словечко Шуйскому насчёт воеводы, а тот немедля отпустит его с дочерью домой. Тебе Мнишек должен поверить. Русским не поверит, а тебе – должен!
Маржере хотел что-то сказать, но Шуйский остановил его жестом:
– И ещё одно есть поручение, ещё более тайное. Ты вчера на площади мать расстриги видел?
Маржере утвердительно кивнул.
– Надо в Ярославле поискать следы того человека, который выдавал себя здесь в Москве за Гришку Отрепьева. Местный воевода сообщил, что он исчез, а когда и куда – то ему не ведомо. Если ты этого человека найдёшь, за его голову получишь тысячу рублёв. Только голову, остальное можешь оставить в Ярославле.
Шуйский снова гнусно хихикнул:
– Но не ровен час, если ты его не отыщешь, а потом вдруг он объявится где-нибудь... Народ потребует, чтобы его с матерью свели. И если она в нём своего сына вдруг признает... Большая беда будет! Для всех нас.
Нажимая на слово «нас», Шуйский выразительно глянул на Маржере. Тот поклонился, чтобы дать понять, что понял, думая про себя: «Бежать, непременно бежать! Другого выхода теперь нет».
Шуйский проницательно взглянул на полковника, словно догадался о его тайных мыслях, и неожиданно сказал:
– Коль выполнишь, проси чего хочешь!
Маржере схитрил:
– Царского жалованья я давно не видал...
Шуйский нетерпеливо мотнул головой:
– Я же сказал, получишь от воеводы тысячу рублёв. Мало?
– Премного благодарен...
– А ещё чего?
Маржере вдруг решился:
– Соскучился я по Франции. Отца и мать десять лет не видал. Не знаю, живы ли...
Глаза Шуйского удовлетворённо блеснули – видать, он ждал этой просьбы, и, как понял полковник, его отъезд именно во Францию, а не в Польшу вполне устраивает государя, потому что он сказал как о уже решённом:
– Пристав, что с тобою будет, в Ярославле вручит тебе охранную грамоту до Архангельска, а оттуда на каком-нибудь чужеземном корабле достигнешь своей любимой Франции...
В дорогу предусмотрительный Жак захватил бочонок с мальвазией, чем с первого же привала крепко расположил к себе пристава. Ехали они без охраны – для тайного поручения лишние свидетели были не нужны. На каждой заставе пристав предъявлял охранную царскую грамоту – и им давали самых лучших, свежих лошадей.
Свидание Маржере с Мнишеком прошло очень убедительно. Мнишек поверил всему, что ему говорил полковник, и вскоре король и нунций, а затем и папа узнали, кто скрывается под личиной самозванца.
Повезло Маржере и со вторым поручением Шуйского. В доме, где жил Отрепьев, действительно не могли сказать ничего вразумительного: исчез ночью, ни с кем не попрощался, оставил весь свой немудрёный скарб.
Маржере вышел из деревянного домика, внимательно огляделся. Интересно, почему Гришка выбрал это место, случайно? Так и есть – на противоположной стороне он увидел вывеску кабака. Жак решительно направился туда. Сев на лавку напротив хозяина, потребовал:
– Давай штоф.
Тот послушно достал штоф и поставил оловянную кружку.
– Давай и себе. Здорово живёшь!
Насупленный хозяин, глотнув «полным горлом» изрядную дозу живой воды, обмяк.
– Из немцев, что ли? Одёжа вроде наша, а говоришь как-то не так.
– У царя в стрельцах служу!
– Ну и какой он, новый царь? Лучше старого, поди?
– Скуп больно.
– Это плохо, – посочувствовал целовальник и ещё хлебнул «полным горлом».
Маржере понял, что пора переходить к делу, и как можно простодушнее спросил:
– Этот-то часто к тебе заглядывал?
– Кто?
– Ну, этот, Гришка Отрепьев.
– А теперь говорят, что вроде это вовсе и не Гришка Отрепьев, а другой. А Гришка царевичем угличским сказывался. Ты-то при царе что слышал?
– Тёмное дело! – вздохнул Маржере. – Я когда в Москве с ним познакомился, тоже считал, что это Гришка Отрепьев. Сколько с ним выпили!
– Значит, дружки!
– Вроде того, – осторожно ответил Жак.
– Так, почитай, он от меня и не уходил! Знатный питух. Штоф за раз опорожнит и давай псалмы распевать. Красиво так! А умный! Всё знает. Я ему, бывалочи, говорю: «Гриня, тебе с таким умом надо в Москве жить, а не в Ярославле пропадать». А он в ответ: «Я здесь по царскому поручению!» Я, честно говоря, не верил, врёт, думал. Ему – что соврать, что... И вдруг приходит он как-то под вечер, а с ним мужик такой важный, весь в бархате, всё золотом отделано! «Вот, – говорит, – привёл я к тебе царского гостя. Угости нас как следует». «В долг?» – спрашиваю. «Зачем в долг! Царь мне денег прислал, как я и просил». А сам мешком трясёт с серебряными рублями. До этого он с месяц в долг у меня пил, деньги кончились. Здесь же он царю и письмо написал: «Милостивый государь-батюшка! Очень по вас скучает слуга ваш верный Гришка Отрепьев. Только одно может нашу разлуку скрасить – побольше серебра». Я прямо живот надорвал, а тут, надо же, и впрямь царь гонца с деньгами прислал. Выпили, и стал гонец прощаться. Гриня ему говорит: «Куда же ты, Мишка, пьянющий такой поедешь?» А тот: «Ничего, в дороге протрезвею. Спешить надо – срочные царские дела!» А Гриня ржёт как жеребец: «Знаю я ваши дела: баб из монастыря царю в баньку таскать». Тот как зыркнет глазами: «Ну, полно болтать. Проводи меня лучше до заставы».
– Ну, а что Гриня?
– А ничего. Исчез. Как в воду канул...
Слова, сказанные им про воду, вдруг породили в целовальнике какие-то смутные воспоминания:
– Постой-ка. Потом, эдак через неделю, тут у меня один мужик гулял. Рыбу полякам продавать приезжал. Выпил изрядно и язык-то и развязал. «Вчера, – говорит, – тащу сеть из Волги, чую – тяжёлое, не иначе осётр. Вытащил, глянул – мужик голый. Я скорее его в воду, чтобы никто не видал». Может, это Гриня был, а? Полез спьяну купаться и захлебнулся?
– А ты мужика-то не расспрашивал, каков, мол, с виду мертвец?
– Спрашивал. Он говорит: »Что я, смотрел, что ли? Голый и голый! Я его скорее в воду!» Так что, может, и не Гриня!
– Дай-то Бог! – согласился Жак, бросая на стол гривенник, и, уже поднимаясь, как бы невзначай спросил:
– А каков он из себя, царёв слуга?
– A-а. Чернявый такой. Брови насуплены, а глаза зырк-зырк по сторонам.
– На щеке бородавка?
– Так ты и его знаешь?
– Знаю, – вздохнул Маржере, – очень даже хорошо знаю.
Наутро они отправились в обратный путь. У развилки сделали привал, и пристав вручил Жаку объёмный кошель с серебром и охранную грамоту. Тот быстро развернул её и, прочтя, вздохнул с облегчением – Шуйский не обманул. Втайне Маржере до конца ждал подвоха от лукавого государя.
Попрощавшись и подарив приставу бочонок с остатком мальвазии, он поскакал прочь.
Жак гнал лошадей, меняя их, без остановки весь день и всю ночь. Заставы попадались редко, и, увидев охранную грамоту, стрельцы пропускали всадника беспрепятственно, давая ему свежую лошадь. Поздно вечером он въехал в Архангельск и направился к порту. В трактире гуляли английские моряки с корабля, на котором вернулся в Россию английский посланник Джон Мерик. Он привёз поздравление своего короля Шуйскому по поводу воцарения. Узнав, что корабль возвращается в Англию на следующий день, Маржере купил у одного из матросов кафтан и шляпу и превратился в бывалого моряка. В таком виде он отправился на английское подворье разыскивать Джона Мерика. После короткого разговора с посланником он беспрепятственно попал на корабль, где ему была предложена каюта помощника капитана.
Ранним утром ветер наполнил паруса корабля, и Маржере устремил свой взор вперёд, где за горизонтом его ждала прекрасная Франция.
«Его величеству Генриху IV [76]76
Генрих IV — См. примеч. 10.
[Закрыть] ,
королю французскому.
Государь!
..Я могу уверить, что Россия, описанная мною, по приказанию вашего величества, в этом сочинении, служит христианству твёрдым оплотом, что она гораздо обширнее, сильнее, многолюднее, изобильнее, имеет более средств для отражения скифов и других народов магометанских, чем многие воображают. Властвуя неограниченно, царь заставляет подданных повиноваться своей воле беспрекословно; порядком же и устройством внутренним ограждает свои земли от беспрерывного нападения варваров.
Государь! Когда победами и счастием вы даровали Франции то спокойствие, которым она теперь наслаждается, я увидел, что моя ревность к службе не принесёт пользы ни вашему величеству, ни моему отечеству, ревность, доказанная мною во время междоусобий под знамёнами Г. де Вогревана при С. Жан де Лоне и в других местах герцогства Бургундского, посему я удалился из отечества и служил сперва князю трансильванскому, потом государю венгерскому, после того королю польскому в звании капитана пехотной роты; наконец, приведённый судьбою к русскому царю Борису, я был удостоен от него чести начальствовать кавалерийским отрядом; по смерти же его Димитрий, вступив на царский трон, поручил мне первую роту своих телохранителей. В течение этого времени я имел средство научиться русскому языку и собрал очень много сведений о законах, нравах и религии русских: всё это описываю в представленном небольшом сочинении с такою простотою и откровенностью, что не только вы, государь, при удивительно здравом и проницательном уме, но и всяк увидит в нём одну истину, которая, по словам древних, есть душа и жизнь истории.








