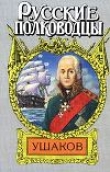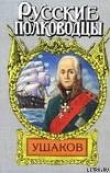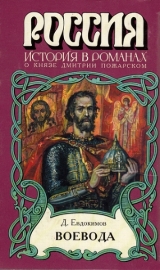
Текст книги "Воевода"
Автор книги: Дмитрий Евдокимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 40 страниц)
– Так у многих не то что пятьдесят, копейки не найдётся! – заметил Семён Годунов.
– Открыть казну, установить раздачу денег страждущим!
Заметив неодобрение главы Дворцового приказа, непреклонно заметил:
– О деньгах ли думать, когда народ надо спасать! Послать казну, сколько потребуется, во все города!
На четырёх самых больших площадях приказные стали раздавать беднякам в будний день по полушке, в воскресенье вдвое больше – по деньге. Каждый день казна расходовала на нищих до четырёхсот рублей.
На какое-то время обстановка в столице стала более спокойной. Но не только горести посещали государя. С нетерпеливой радостью ждал он приезда принца датского Иоганна, брата короля Христиана, который согласился стать зятем царским и удельным князем. Встречали его корабль в устье реки Нарвы Афанасий Власьев и Михайла Салтыков, приехавшие сюда из Литвы, где после долгомесячных переговоров добились от Сигизмунда крестного целования грамоты о перемирии между Польшей и Россией на двадцать лет.
От литовской границы пышный кортеж сопровождал князь Дмитрий Пожарский. Прошедшие два года он провёл на охране северной границы. Довелось участвовать князю и в больших стычках со шведскими отрядами, нет-нет да пытавшимися заглянуть на Русскую землю в поисках добычи. В этих сшибках молодой князь оттачивал своё умение фехтовать и стрелять прицельно из пищали на полном скаку.
Бывал он наездами и в Москве, где поручалось ему сопровождать кого-то из иноземных важных чинов. Так, зимой пришлось провожать ему старого знакомца – рыжего немца Конрада Буссова, который по царскому наущению попытался поднять восстание в Нарве.
Дмитрий держался с иноземцем, пытавшимся навязать фамильярную дружбу князю, вежливо, но холодно, вся его натура воина восставала против измены пусть даже и враждебному государю. Но Конрад не обращал внимания на холодность князя. Царь Борис щедро наградил его за прошлые заслуги и, хотя не дал никакой службы, выделил обширные поместья с крестьянами в Московском уезде. Болтаясь без дела то в Немецкой слободе, то во дворце, предприимчивый немец успешно обделывал все свои дела: свою дочь выдал замуж за опешившего от наглого натиска Конрада пастора Мартина Бера, сына, тоже Конрада, пристроил в кавалерийский отряд капитана Маржере, сумев быстро стать с последним на короткой ноге...
...Сопровождая сейчас пышный поезд царского жениха, с которым прибыли и датские послы, и двести дворян, составлявших двор принца, Пожарский размышлял о том, что надо бы попросить в Дворцовом приказе об отпуске. Жена, Прасковья Варфоломеевна, прислала тревожное письмо о том, что родовое поместье князя – Мугреево из-за неурожая приходит в разорение.
От невесёлых мыслей князя отвлекла неистовая пальба – это принц Иоганн, гарцуя на лошади, стрелял уток, поднявшихся с реки. Пожарскому принц глянулся: всегда весел, общителен, вежлив даже со слугами. Подумалось, что наконец у красавицы Ксенин будет достойный её муж. Принц радовался путешествию, интересовался новыми обычаями, по вечерам, когда путешественники усаживались за пиршественные столы, просил, чтоб пригласили музыкантов и танцоров.
Царь Борис принял Иоганна как родного сына. В Грановитой палате, где проходила первая встреча, принцу поставили кресло на почётном месте, рядом с креслом, которое занимал наследник. Принц любезно беседовал с царём, горячо благодарил за те многочисленные подарки, которые получал ещё в пути. Ему было и невдомёк, что сверху, через решетчатое окошечко под потолком, жадно рассматривают его любопытные женские глаза. Царевне Ксении принц очень понравился – высок, строен, голубоглаз. Приветливая улыбка не сходит с лица. Правда, нос велик, но он не портит величавости красивого лица.
Потом был дан торжественный обед, причём, против обычая, царь усадил гостя за свой стол, где не имел права пиршествовать никто, кроме сыновей. После обеда с богатыми подарками принца отправили в его резиденцию – на Щелкаловский посольский двор, обставленный по этому случаю с небывалой роскошью. Дважды Борис с сыном Фёдором посещал принца в его апартаментах. Всё шло к свадьбе.
Царь отправился в Троице-Сергиеву лавру, чтобы возблагодарить Господа за обретённое дочерью счастье. Но на обратном пути у его кареты остановился гонец на взмыленной лошади и протянул записку. Боярин Салтыков сообщал о внезапной горячке, случившейся с принцем. Напрасно, вернувшись во дворец, Борис снова и снова слал к принцу своих заморских лекарей, тот уже не приходил в сознание, и вскоре его не стало.
Неутешно, в голос рыдала Ксения:
– Иванушка-царевич! Почто ты меня, родимый, покинул?
Ошеломлён был и сам Борис, увидев в этом предостережение Господне.
– За что я прогневал тебя так, о Боже? – вопрошал он, распростёршись ниц перед иконостасом Благовещенского собора.
Принца отпевал по немецкому обычаю пастор Мартин Бер. Потом густо просмолённый гроб с телом принца отправили в обратный путь, чтобы похоронить его на родине.
«Платьице на нём было атлас ал, делано с канителью по-немецки; шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью, чулочки шёлк ал; башмаки сафьян синь».
Из ежедневных донесений царю М.Г.Салтыкова, сопровождавшего принца Иоанна.
Злые языки на площадях и папертях вновь всуе начали трепать имя царя: извёл Бориска прекрасного королевича, столь полюбившегося всем, потому что испугался, будто отнимет он трон у его сынка Федьки.
Мать Дмитрия Пожарского, Мария Фёдоровна, приехала к сыну на подворье для серьёзного разговора:
– Защиты прошу, сынок, от наветов боярыни царицыной, княгини Лыковой. Совсем залютовала старуха, как жених наш помер. На каждом углу меня проклинает: деи, и глаз у меня дурной, сглазила царевну, потому-то второго жениха лишилась. Видать, хочет меня со двора царевны прогнать, а кого-нибудь из своих дочерей поставить. Известное дело: и сынка её, Бориса, дела плохи – то в думе заседал, а сейчас в пограничный город Белгород царь воеводой послал, ведь жёнка его – родная сестра Фёдора Романова. Вот боярыня и хочет неправдами поближе к трону стать, чтоб сынка своего положение поправить!
Дмитрий порывисто обнял мать:
– Не горюй, матушка, ведь правда на нашей стороне. Я знаю, что ты любишь Ксению и желаешь ей счастья...
Глаза Марии Фёдоровны, наполненные слезами, сверкнули злобно:
– Лыкова – двоедушная тварь! Меня проклинает, а тайно со своими подругами над Ксенией смеётся. «Бог, – говорит, – её наказывает за грехи отца». Если узнает наушник царя Семён Годунов, ох, ей не поздоровится!
Пожарский нахмурился:
– Не наше княжеское дело, матушка, доносами заниматься! Это подлых людишек дела. Я буду действовать, как предки наши: подам прошение государю рассудить нас с князем Лыковым.
...Иск «в материно место» стольника Пожарского по повелению государя рассматривала боярская дума. Многие удивлялись дерзости молодого князя – местничать с Лыковым, чьи предки издавна находились в числе московской знати, было опасно. Дмитрия могли выдать Борису Лыкову «головой» или, во всяком случае, наложить большой денежный штраф.
Но молодой Пожарский не дрогнул под тяжёлыми насмешливыми взглядами бояр. Хорошо образованный, он отлично знал свою родословную:
– Мы, Пожарские, прямые потомки Рюриковичей. Предок наш Иван Всеволодович, положивший начало роду Стародубских-Пожарских, был младшим сыном великого князя Всеволода Большое Гнездо, правнуком Владимира Мономаха. Великому князю Дмитрию Донскому служил мой предок князь Андрей Фёдорович Стародубский. Он отличился храбростью на поле Куликовом. Мой дед Фёдор Иванович Немой происходил из младшей ветви удельного рода. Он верой и правдой служил царю Ивану Четвёртому, числился в тысяче «лучших слуг», участвовал в покорении Казанского царства. Потом попал в государеву опалу, как и сотни других ярославских, ростовских князей. Опала эта распространялась и на отца моего Михаила Фёдоровича Глухого, который хоть и участвовал в Ливонской войне, но до больших чинов не дослужился, рано умер.
– Вот видишь! – воскликнул боярин Татищев. – Пока твой дед в опале находился, дед Лыкова при Иване Грозном вот здесь, в боярской думе, сидел, государевы заботы решал.
– Перед царской милостью мы все равны, – не уступал Дмитрий. – Не пристало нам родительскими заслугами бахвалиться. Я – стольник, и Борис Лыков стольник тоже! А род Пожарских выше рода князей Лыковых.
В спор вмешался Семён Никитич Годунов:
– А скажи нам, князь, не ведомо ли тебе, не грешен ли Лыков в умышлениях против царя, нет ли у тебя каких сведений о разговорах его с опальными князьями Голицыным да Татеевым?
– Про то не ведаю. Ты знаешь, что я в Москве только наездом бываю, – угрюмо ответил Дмитрий.
– Так, может, матушка об этом сказывала? – вкрадчиво продолжал Годунов. – Она ведь всё время во дворце живёт, многое видит и слышит?
Бояре напряглись, с интересом глядя на князя. Велик соблазн сказать «да». Тогда уж Лыкову несдобровать. Наверняка у Семёна Годунова есть уже доносы на Лыкова, но, видать, малозначительных людишек, а если подтвердит князь Пожарский, известный своей честностью, то государь обрадуется случаю убрать ещё одного недруга.
Но такой уж гордый нрав Дмитрия: никогда он не кривил душой, никогда не был доносчиком. Ответил, мрачно насупившись:
– Я с матушкой о таких делах изменнических не ведаюсь. И шептунов всяких не слушаю. Мой удел – ратный!
Разочарованно переглянувшись, бояре после недолгого обсуждения решили дело оставить «невершённым», не отдав предпочтения ни Пожарскому, ни Лыкову. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы боярыня Лыкова унялась, оставив мамку царевны в покое.
Через несколько дней Дмитрий получил отпуск и ускакал со своими боевыми холопами в родовую вотчину Мугреево, где положение становилось всё более бедственным.
Прасковья Варфоломеевна встретила его в слезах:
– Зерна осталось мало, да и то только в нашем амбаре. Приходится пуще глаза его охранять: мужики, как не в себе, каждую ночь туда лезут. Да и как не лезть – весь свой хлеб ещё летом подъели, живность свою, даже лошадей, свели. Пахать по весне не на чем будет, да и семян не осталось!
– Пухнут люди с голоду, – добавил дядька Надея, успевший обойти крестьянские избы. – И вот какая напасть – от страху, что ли, люди есть стали больше, чем в урожайное время, едят, а насытиться никак не могут. И кошек, и вороньё, что падалью питается, жрут. Не ровен час, как, я слышал, уже бывает в иных деревнях, детей начнут есть.
По повелению князя собрали сельский сход. Дмитрий, стоя на крыльце, вглядывался в знакомые лица окруживших его людей, но узнавал с трудом. А ведь всех их он знал с детства. Лица опухшие, глаза равнодушные, но с каким-то странным, голодным блеском. Тела исхудавшие, одежда висит, как на пугалах.
Поборов волнение, Пожарский хрипло сказал:
– Царь Борис, видя неустройство в народе, приказал снова разрешить выход в Юрьев день. Каждый волен уйти от прежнего владельца в новое место, где живётся лучше...
С крестьянских лиц равнодушие смыло будто холодной водой.
– Куда же, Господи, мы пойдём? Да ещё в зиму? Не бросай нас, владетель наш, на погибель.
Князь стоял опустив голову, в глубоком размышлении. Люди надеются на него, ждут помощи. А чем он может помочь? Если раздать оставшееся зерно, то всем и на месяц не хватит. А что будет потом? Если весной не посадить хлеб, то и ждать будет уже нечего и... некому.
«Зачем мне вся эта обуза? – подумал он. – Сейчас бы на коня – ив войско. Там и с едой проще: засыпал толокно в котёл, бросил несколько кусков копчёной баранины – и хлебай на здоровье!»
Тут князя осенила мысль: «А если кормить их, как воинов он своих кормит?»
Дмитрий, ободрившись, снова поглядел на голодных людей и сказал властно:
– Ну, вот что! Раз не хотите от меня уходить, – значит, зимовать будем вместе. Зерна я вам не дам. – И, услышав надорванные вздохи, повысил голос: – Не дам, и не просите. Буду кормить вас здесь, на своём подворье.
Прасковья Варфоломеевна глянула на мужа с изумлением:
– Чем же кормить? Аль, как Сын Божий, собираешься накормить пять тысяч людей пятью хлебами?
Дмитрий улыбнулся ей:
– Не кручинься, княгинюшка. Говоришь, овса ещё осталось порядком для лошадей. Так собирай своих девок, будете из овса толокно делать, всех лишних лошадей порезать, мясо засолить. Доставай наши боевые котлы, будешь похлёбку варить! – И обратился к крестьянам: – Каждый день к обеду приходите сюда со своими мисками, сам буду следить за раздачей похлёбки, чтобы всем досталось – и старым и малым. Воины от такой еды только крепче становятся, и вы не погибнете.
– И вот что главное надо сделать, – повернулся он к княгине и дядьке Надее. – Немедля надобно составить обоз, подобрать мужиков покрепче, взять часть и моих воинов, надо купить, сколько сможем, зерна в Нижнем Новгороде. Туда хлеб с Нижней Волги подешевле идёт. У них неурожай не такой сильный, как у нас.
– А где деньги возьмём? Нет же у нас! – всплеснула руками княгиня.
– Собрать всю серебряную и золотую посуду, все драгоценности, меха, какие есть. Не жалей, княгиня, будем живы, наживём ещё. А я отдаю свой панцирь и шишак серебряные. Только саблю дедовскую себе оставляю.
Потом, глянув на престарелого Надею, задумался и, решившись, сказал:
– Знаешь что, дядька? Ты останешься здесь с княгиней народ кормить. А в Нижний отправлюсь я сам. Благо воевода там мне знаком, поможет с барышниками справиться, коли втридорога за хлеб запросят.
...Беда приходит не одна. После похорон датского принца через две недели тихо скончалась в своей келье в Новодевичьем монастыре сестра Бориса, бывшая царица Ирина Фёдоровна, в иночестве принявшая имя Александры. Для Бориса это был самый близкий человек. Она помогала ему стать рядом с престолом, быть правителем государства, охраняя брата от злых недругов, пытавшихся увести от него милость Фёдора. Все шесть лет, пока она пребывала в иноческом сане, Борис постоянно ездил к ней, советовался, просил укрепить его державный дух.
Подошедшая осень окончательно разорила крестьян, многие пашни не были засеяны под урожай следующего года. Узнав о царской милости, в Москву в округе ста пятидесяти вёрст хлынули все голодные. Улицы были битком забиты пришлыми. Каждому выдавалось не по полушке, а по копейке, но хлеб вздорожал к осени до четырёх рублей за четверть. Царские амбары были опустошены.
Собрав боярскую думу и высшее духовенство, царь Борис обратился к ним:
– Поделитесь своими запасами. Ведь гибнут людишки тысячами!
Опустив глаза долу, бояре и митрополиты молчали.
– Патриарх Иов! Не тебе ли, Божьему наместнику на Руси, проявить благодеяние!
– Самим обителям мало, – ответил нехотя тот. – Если свой последний хлеб отдадим мужикам, кто будет славить имя Господне!
– А если мы свой хлеб отдадим холопам, – поддержал Мстиславский, – кто Россию защищать будет?
Напрасно несколько часов убеждал их царь, грозил Божьей и своей карой, всё напрасно, тупо отвечали бояре да духовные пастыри:
– Не можем, государь! У самих мало!
...С лютой зимой в Москву пришёл страшный мор.
Многие тысячи исхудавших людей, с измученными лицами как тени брели по улицам, от одного богатого дома к другому, от одной церкви к другой. Прося милостыню Христа ради, из последних сил скреблись в ворота, из иссохших ртов раздавались трудно различимые звуки:
– Х-х-ле-ба-а!
Но беда, коль милосердный горожанин пытался было дать хотя бы истлевший сухарь одному из несчастных: на него налетали сотни голодных, померкнувших разумом людей, разрывавшие благодетеля в клочья в жажде получить хотя бы крошку.
Перепуганный тем, что в Москву стекаются страждущие со всей России, царь приказал прекратить подавать милостыню. Лишившись последней надежды, крестьяне пытались покинуть этот огромный жестокий и холодный город, но, обессилев, падали прямо на улицах. Их подбирали, бросали в сани всех подряд: и тех, чьи тела уже окоченели, и тех, кто только впал в беспамятство, везли за город, где были вырыты на этот случай глубокие рвы. Когда канава заполнялась трупами, её засыпали и делали новую. Волки и лисицы, бродившие вокруг, отрывали ещё свежую землю, чтобы добраться до добычи. У проезжих путешественников волосы становились дыбом при виде сидящих покойников с выеденными лицами. По свидетельству летописцев, всего было похоронено в этих ямах сто двадцать тысяч человек...
«Милости, которые не ценит Господь, не приносят никакой пользы.
Царь Борис от доброго усердия повелевал раздавать милостыню во многих местах города Москвы, но это не помогало, а стало ещё хуже, чем до того, когда ничего не раздавали: ибо для того, чтобы получить малую толику денег, все крестьяне и поселяне вместе с жёнами и детьми устремились в Москву из мест на сто пятьдесят миль вокруг, усугубляя нужду в городе и погибая, как погибают мухи в холодные дни; сверх того, оставляя свою землю невозделанною, они не помышляли о том, что она не может принести никакого плода; сверх того, приказные, назначенные для раздачи милостыни, были юры, каковыми все они по большей части бывают в этой стране; и сверх того, они посылали своих племянников, племянниц и других родственников в те дома, ще раздавали милостыню, в разодранных платьях, словно они были нищи и наги, и раздавали им деньги, а также своим потаскушкам, плутам и лизоблюдам, которые также приходили как нищие, ничего не имеющие, а всех истинно бедствующих, страждущих и нищих давили в толпе или прогоняли дубинками и палками от дверей; и все эти бедные, калеки, слепые не могли ни ходить, ни слышать, ни видеть, умирали, как скот, на улицах; если же кому-нибудь удавалось получить милостыню, то её крали негодяи стражники, которые были приставлены смотреть за этим. И я сам видел богатых дьяков, приходивших за милостынею в нищенской одежде.
Всякий может себе представить, как шли дела».
И. Масса. Краткое известие о Московии.
Доведённые до отчаяния мужики взялись за топоры. На дорогах, ведущих к Москве, появились разбойники, грабившие обозы с хлебом. Одного за другим посылал царь воевод для охраны купеческих караванов: для поимки разбойников на Владимирскую дорогу выехал с вооружённым отрядом видный воевода Головин, на Волоколамскую – Шеин и Салтыков, на Смоленскую – Туренин и Татев.
Но, как оказалось, шайки разбойников в основном состояли из бывалых воинов, бывших боевых холопов поместных дворян, которых хозяева отказались кормить во время голода. Воспользовавшись царским указом о восстановлении Юрьева дня, помещики приказали убираться своим воинам на все четыре стороны. Кто-то из боевых холопов ушёл на юг, в казаки, а кое-кто остался в лесах, мстя боярам и дворянам за скотское к ним отношение. И не только топорами да вилами располагали разбойники, но и огнестрельным оружием. Избегая столкновений с крупными отрядами, они нападали из засады на немногочисленных путников.
Горячего молодого воеводу Ивана Басманова, охранявшего Тверскую заставу, разбойники хитростью завлекли в засаду. Увидев, что на горизонте маячит едва ли десяток разбойников, лихой воевода кинулся за ними в погоню с сотней конных стрельцов. Однако когда отряд оказался в лесу, со всех сторон на стрельцов бросились разбойники во главе с атаманом Иваном Хлопко, пришлось воеводе скрестить саблю с самим атаманом, опытным воином. Рука Хлопко оказалась сильнее, и вот уже воевода в разрубленном шлеме сполз с коня наземь.
Царь послал для поимки разбойников многотысячный отряд. Бой с пятьюстами разбойниками длился несколько часов. Хлопко схватили. Борис, в течение пяти лет выполнявший обет не проливать кровь, нарушил его, приказал повесить Хлопко и его боевых товарищей на Красной площади.
Сыскной приказ работал и днём и ночью. Сотни доносов выслушивал Семён Годунов, незаметно ставший вторым лицом в государстве. Алчность, пробуждённая у людей голодом и несчастьем, умело разжигалась клевретами Годунова с помощью щедрой оплаты: сын доносил на отца, брат на брата. Не затухал огонь под дыбой, поджаривая подозреваемых, Семён Никитич внимательно вслушивался в крики истязаемых: не зреет ли новый боярский заговор против царя.
Всё чаще с уст подвешенных на дыбу или крючком за ребро срывалось страшное для Бориса имя Димитрия. Стало известно, что какой-то оборванный монах ходил по монастырям, искал инокиню Марфу. Народная молва считала, что это был спасшийся чудом царевич.
По царскому указу по монастырям были посланы вооружённые отряды с приказом найти и изловить самозванца. Особое задание получил капитан Маржере: навестить бывшего царя Симеона Бекбулатовича в его дачной волости, в селе Кушалино, куда был он сослан, лишённый Тверского удельного княжества, ещё при Фёдоре Иоанновиче.
– Постарайся выведать, капитан, – напутствовал его Семён Никитич, – не был ли кто у него в образе монаха, не смущал ли его прельстительными речами – деи, он воскресший царевич Угличский.
...Высокий сухопарый старик с белой клиновидной бородой, в тюбетейке на плешивой голове сидел в переднем углу под образами.
– Кто там? – спросил дребезжащим, но властным голосом он. – Говори, а то я ничего не вижу.
– Капитан Жак Маржере.
– Иноземец. Подойди ближе.
Цепкой рукой старик ощупал кольчугу капитана, пальцы скользнули по лицу, усам, бородке, коснулись рубца на щеке.
– Воин, и, видать, бывалый, – с удовлетворением отметил старик. – Садись, гостем будешь.
Крикнув слугам, чтоб несли угощение, вдруг закурлыкал какую-то восточную мелодию. Внезапно прервав её, сказал:
– Не удивляйся, воин. Я ведь тоже воином был, да ещё каким! На скачках в степи не было равных Едигею, наследнику Казанского царства. Меня взяли в полон русские воины на стенах Казанской крепости, заставили принять православие, нарекли Симеоном. Долгие годы Иван держал меня при себе как заложника, чтобы не восстали мои бывшие подданные. Порой он оказывал мне высокую честь принимать вместе с ним иноземных послов, а затем вдруг прогонял с глаз долой чуть ли не на конюшню. А к концу своего царствования затеял со мной дьявольскую игру, которая мне едва не стоила головы: он провозгласил меня царём всея Руси, а сам стал правителем при моей особе, создавая самые жестокие указы о казни бояр от моего имени...
– Зачем это было ему нужно? – изумлённо воскликнул Маржере.
– Не знаю... Иван был человек очень умный и хитрый, но иногда был как одержимый. Он усаживал меня на свой трон, а сам простирался ниц, но глаза его неотрывно с подозрением смотрели то на меня – не возмечтаю ли я действительно о царской власти, то на придворных – не смеётся ли кто надо мной, а значит – и над ним. Горе тому, кто позволял себе хотя бы самую безобидную шутку. На моих глазах Фёдор Басманов по повелению Ивана зарезал собственного отца и ближайшего друга царя в течение многих лет – Алексея Басманова только за то, что тот во время пирушки обозвал меня царьком. Потом царю надоело возиться со мной, он снова сел на трон, а мне дал в удел Тверское княжество. После смерти Ивана правителем при его сыне Фёдоре стал Борис Годунов. О, эта бестия хитрее самого Грозного! Сначала меня выгнали из Москвы, боясь, что я буду бороться за трон, потом лишили Тверского княжества, отправив вот сюда, в мою Кушалинскую вотчину. Казалось, можно было бы меня оставить в покое. Но нет, Борис всё равно боялся даже тени Симеона. Как только он воцарился, то прислал сюда пристава, который потребовал, чтобы я присягнул Годунову. Я безропотно покорился. Обрадовавшись моей покорности, пристав сказал, что привёз мне в дар от царя кувшин с дорогим вином. Он не успокоился, пока я в его присутствии не осушил полный кубок этого злополучного вина во здравицу нового царя. Когда же я допил до последней капли, кубок выпал из моих рук и я пал в беспамятстве. Когда слуги привели меня в чувство, оказалось, что мои глаза навеки покрыла тёмная пелена...
Старик молча плакал, крупные слёзы текли из незрячих глаз. Маржере тоже молчал, потрясённый рассказом.
– Вот что, воин, осталось от царевича Едигея! – сказал слабым голосом старик, ударяя себя по впалой груди. – Но Борис не успокоился даже на этом чудовищном злодеянии. Это моё последнее пристанище было взято в царскую казну, лишь выделяются деньги на кормление меня и моей дворни.
Симеон повернулся к Маржере, взял его за руку, его голос неожиданно отвердел:
– А теперь скажи, зачем ты послан сюда, воин? Неужели Борису мало и он хочет моей смерти? Ведь это он тебя прислал?
– Да, я здесь по царскому указу, – молвил Маржере. – Но я честный воин, а не палач. Царь и не помыслил бы дать мне такое поручение. Я прислан, чтобы узнать у тебя...
– Что можно узнать у одинокого отшельника? – горько усмехнулся старик. – Впрочем, спрашивай!
– Не был ли у тебя тот, кто выдаёт себя за угличского царевича? – негромко, но членораздельно сказал Маржере.
– Значит, царевич всё же жив? – радостно встрепенулся старик. – Сюда доходили слухи, что якобы он объявился в Москве, но я не верил.
– Но здесь он не объявлялся? – снова настойчиво спросил Маржере.
Старик отрицательно помотал головой:
– Нет. Зачем ему нужна старая развалина? Ему нужны союзники помоложе, а главное – посильнее, чтобы свалить с трона Бориса.
Симеон поднял гордо голову и сказал:
– Передай, воин, царю Борису, что я всё равно не боюсь его! И передай, что Симеон Бекбулатович рад появлению царевича, пусть если даже это и самозванец. Ведь должна на свете быть кара царю за его грехи!
А в Москву тем временем была тайно доставлена и помещена в одиночную келью Новодевичьего монастыря, в ту, что занимала до этого покойная царица, другая царица, последняя жена Ивана Грозного, инокиня Марфа. В ту же ночь к ней явились Борис с супругой Марией и Семён Годунов.
Царь приказал зажечь побольше свечей, чтобы лучше рассмотреть лицо инокини. Двадцать лет, минувшие с последней их встречи, когда безутешную вдову Ивана с малолетним сыном отправляли в Углич, превратили некогда молодую, полную жизнелюбия, гордую и красивую женщину в согбенную старуху с седыми волосами, выбившимися из-под чёрного платка.
– Что уставился? – злобно спросила Марфа. – Чай, трудно узнать?
Глаза её, когда-то ясно-голубые, а теперь будто выцветшие, вдруг сверкнули с такой ненавистью, что стало ясно: годы и несчастья не сломили внутренней силы её духа. Это почувствовала и царица Мария, прошипевшая:
– У-у, ведьма! И пребывание в доме Божьем тебя не смирило!
Скажи, Марфа, что за два монаха были у тебя зимой?
– Пристав донёс?
– На дыбе любой рассказывает как на духу! – хихикнул Семён Годунов. – Вот он, бедолага, и вспомнил, что приходили к тебе двое оборванцев, вроде как за благословением. О чём чернецы эти с тобой говорили, того он не ведает...
– Многие в монастырь приходили и ко мне также заглядывали, разве кого упомнишь! – упрямо поджала губы Марфа. – Мне не до мирской суеты.
– Буде выкобениваться, – взвизгнула Мария. – А то вон Семён не посмотрит на твой иноческий сан, враз калёным железом пощекочет...
– Меня, царицу?
– Какая ты царица! Сама знаешь, что брак твой незаконный, Церковь его не признала, потому что – седьмой по счёту. Таких жён у Ивана тыщи были! Он сам, своими руками выблядков, что от этих «жён» рождались, душил. Жалко, твоего не успел. Да Господь Бог прибрал!
– Господь Бог? А не по его ли приказу? – сверкнула глазами Марфа, указывая на Бориса.
– Ну, будет, будет! Успокойтесь обе! – осеняя себя крестом, сказал благозвучно царь. – Не время старые счёты сводить. Ты лучше покажи нам, Марфа, нательный крест царевича.
Та испуганно схватилась за ворот рубахи.
– Показывай, не стесняйся, – притворно-ласково продолжил Борис.
– Нету его у меня. Верно, украли антихристы, – пробормотала Марфа, пряча глаза.
Царь властно приподнял за подбородок склонённое лицо инокини и, глядя прямо ей в глаза своими чёрными бездонными зрачками, зловеще произнёс:
– Кто эти антихристы? Уж не те ли два монаха? Как же ты позволила, матушка, драгоценную память о сыне украсть? Может, сама отдала?
– Не помню ничего. Наверное, заколдовали меня. Я как без памяти была, – запричитала Марфа.
– Ладно, пусть так, – согласился Борис. – Тогда опиши, какие они были из себя.
– Один повыше вроде, с таким вислым красным носом, пьяница видать, – неуверенно сказала Марфа.
Борис и Семён Годунов переглянулись:
– Точно он, Гришка Отрепьев.
– Ну, а второй каков?
– Второй – вроде... Нет, не помню. Он как зыркнул на меня, так в глазах потемнело.
– Выжечь тебе глаза надо, чтоб вообще ничего не видела, – вновь зашипела Мария и, схватив горящую свечу, сунула её прямо в лицо Марфе.
Та в ужасе откинулась к стенке, а Борис сильным ударом выбил свечу из рук жены:
– Вот уж истинное отродье Малюты Скуратова! Крови захотелось? Успокойся!
Потом обратился к Марфе тем же зловеще-ласковым тоном:
– Лица, значит, ты не помнишь? Но, может, вспомнишь, что они говорили?
Лицо Марфы озарилось вдруг злорадной усмешкой:
– Говорили. Конечно, говорили. Как не говорить.
– И о чём?
– Говорили, будто царевич, – голос женщины сорвался на крик, – за границей объявился!
Борис в испуге попятился.
– Да, да, царевич за границей, в Литве объявился! – продолжала исступлённо, в истерике кричать Марфа.
Борис поспешно повернулся и направился к выходу, кинув Семёну:
– Пусть отвезут её обратно, да скажи, чтобы охраняли хорошенько.
Вернувшись во дворец, царь отправился в свою опочивальню, однако не ложился, дожидаясь, когда появится Семён Годунов. Встретил его задыхающимся шёпотом:
– Ты что же, «царское ухо», проворонил Гришку Отрепьева? Мы когда приказывали его взять под крепкий присмотр?
Семён упал ниц:
– Грешен, государь, недосмотрел! Ты приказал дьяку Смирнову-Васильеву взять его и отослать в Кириллов монастырь, я думал, что он исполнил...
– Он думал! – буркнул Борис. – А что дьяк говорит?
– Кается у меня в пыточной, что уговорил его дядя Гришки Семён Ефимьев повременить немного, де, Семён поклонится патриарху, чтоб тот попросил тебя простить неразумного. А на следующий день Гришка убёг. И вишь где объявился.
– Бить кнутом дьяка до смерти, – ровным голосом проговорил Борис. – А чтоб не подумали невесть чего, палачу скажешь, что наказан Смирнов-Васильев за то, что взятки брал. Да и за иные прегрешения, коих наверняка тоже не мало, прости Бог его грешную душу!
Марфа и впрямь напророчила: из Польши верные люди сообщили, что появился в имении князя Адама Вишневецкого, лютого недруга России, некий русин, объявивший себя царевичем Димитрием.