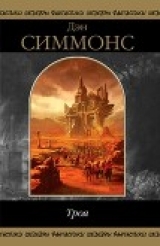
Текст книги "Троя"
Автор книги: Дэн Симмонс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 67 (всего у книги 100 страниц)
Хокенберри не ожидает от разговора с Одиссеем ничего, кроме брани, а то и побоев, однако в итоге остается распить с ним бутылку-другую.
Почти неделю схолиаст набирался мужества, чтобы встретиться с единственным человеком на корабле. За это время «Королева Мэб» достигла точки разворота, и моравеки предупредили ученого: впереди целые сутки нулевой гравитации, прежде чем судно повернется к Земле кормой и примется тормозить, после чего возобновится притяжение в одну целую двадцать восемь сотых g. Манмут и Астиг-Че лично зашли проведать Хокенберри, а также убедиться в полной безопасности его кубрика в условиях свободного падения, что означало мягкую обивку на всех углах, тапки и коврики на липучках, все незакрепленные мелочи – упрятаны в ящиках. Но никто не сказал ему, что самой обычной реакцией на исчезновение гравитации станут ужасные приступы морской болезни.
Схолиаста выворачивает наружу. Причем постоянно. Внутреннее ухо неустанно твердит ему: «Ты падаешь, падаешь, падаешь!», а перед глазами, понятное дело, даже нет горизонта, на котором можно было бы сосредоточиться: в кубрике нет ни окошка, ни корабельного иллюминатора, ни прочих отверстий для обзора. Удобства в ванной комнате приспособлены для обычного на судне притяжения, поэтому Хокенберри наскоро учится пользоваться бортовыми пакетами, которые Манмут поставляет целыми пачками, как только пассажир объявляет об очередном приступе.
Однако шести часов рвоты вполне достаточно, и наконец ученому становится легче. Его даже занимают безумные кувырки по мягкой каюте и плавание от привинченной к полу кровати до закрепленного письменного стола. Хокенберри просит разрешения покинуть каюту, немедленно получает его и отправляется на прогулку всей своей жизни, паря по длинным коридорам, отталкиваясь ногами от широких лестниц, которые так нелепо выглядят среди воистину трехмерного мира, и перебирая руками по гладким поручням восхитительно архаического машинного отделения. Манмут повсюду верно сопровождает человека, следя за тем, чтобы тот по неосторожности не ухватился за важный рычаг и не вообразил, будто бы невесомые с виду предметы и впрямь лишены тяжести.
Услышав о желании ученого навестить Одиссея, маленький европеец объясняет, где найти древнего грека, и берется показать дорогу в рубку управления. Хокенберри понимает, что моравека надо бы отпустить: мужской разговор, объяснения и, возможно, драка должны состояться с глазу на глаз, но, видимо, трусливая природа берет верх, и он позволяет Манмуту следовать за собой. Все-таки моравек не даст силачу разорвать ученого на куски, хотя, если вдуматься, похищенный имеет на это полное право.
Прозрачный купол в океане звезд – вот что такое рубка управления. Посередине привинчен большой круглый стол, а рядом – три стула. На одном из них, засунув босые ноги в специальные щели, сидит Одиссей. Когда «Королева Мэб» делает оборот или кувырок, а последние сутки она, кажется, только этим и занимается, созвездия проносятся за стеклом с такой головокружительной быстротой, что еще несколько часов назад Хокенберри устремился бы на поиски бортовых пакетов, но сейчас ему все равно. Можно подумать, мужчина с детства существовал в свободном падении. Похоже, с ахейцем творится то же самое: схолиаст замечает, что из десяти мехов с вином, болтающихся над столом на длинных шнурах, половина уже пуста. Одиссей щелчком отсылает один из них гостю. Ученый не может отвергнуть этот жест примирения. К тому же вкус у напитка отменный – даже на совершенно пустой желудок.
– Артефактоиды знают толк в добром вине, у них тут неплохие запасы, – произносит грек. – Пей, маленькая игрушка, присоединяйся.
Последние слова он обращает к Манмуту, занявшему третье кресло. Тот отрицательно качает металлической головой.
Хокенберри начинает с извинений за обман, за то, что заманил Одиссея к шершню, после чего моравеки выкрали героя с поля битвы. Грек только отмахивается.
– Хотел я тебя прикончить, сын Дуэйна, а потом подумал: что толку? Не мое дело противиться воле бессмертных, если они решили послать меня в это долгое путешествие.
– Ты по-прежнему веришь в богов? – интересуется бывший служитель Музы, сделав долгий глоток. – Даже после войны с ними?
Отказавшийся от кровожадных планов бородач хмурит брови, затем улыбается и добродушно почесывает щеку.
– Иногда, Хокенберри, сын Дуэйна, бывает нелегко поверить в собственных друзей, но уж во врагов-то мы верим всегда. Особенно если подобную честь оказывают сошедшие с Олимпа.
Проходит минута. Собеседники молча пьют. Корабль совершает еще один оборот. Ослепительный солнечный свет на мгновение затмевает звезды – и тут же меркнет, вновь уступая место ярким созвездиям.
От крепкого вина по телу схолиаста разливается приятное тепло. Проникнувшись благодарным счастьем бытия, он касается ладонью груди, где под квантовым медальоном рассасывается тонкий рубец, – и вдруг осознает, что впервые нашел возможность сесть за стол и вот так, за бутылкой, поболтать с одним из главных героев «Илиады». Странно, особенно если вспомнить, сколько лет он преподавал эту историю в университете.
Какое-то время мужчины толкуют о событиях, свидетелями которых стали незадолго до вылета: о захлопнувшейся Дыре между мирами, о смертельной «игре в одни ворота» между людьми Ахиллеса и амазонками. Одиссей поражен обширными познаниями Хокенберри об отважных воительницах и царице Пентесилее, а схолиаст не считает нужным упоминать при нем о книгах Вергилия. Собеседники вслух размышляют о том, скоро ли завершится настоящая Троянская война и смогут ли ахейцы с аргивянами под предводительством вернувшегося к власти Агамемнона разрушить неприступные стены Илиона.
– Конечно, грубой силы Атриду не занимать, – изрекает сын Лаэрта, глядя на пляшущие звезды. – Но если она подведет, сомневаюсь, что ему достанет смекалки.
– Смекалки? – повторяет Хокенберри.
Он так давно привык думать и общаться на древнегреческом, что почти не размышлял над произносимыми словами. А теперь вот задумывается. Употребленное Одиссеем dolos[62] можно толковать и как одобрение, и в то же время как осуждение.
Супруг Пенелопы кивает.
– Агамемнон есть Агамемнон. Всем известно, на что он способен, и большего ждать не приходится. А вот я, Одиссей, прославился в мире непревзойденной смекалкой.
Опять этот dolos. Занятно: говоря о своей предусмотрительности и коварстве, грек похваляется той самой чертой, о которой Ахилл презрительно отозвался однажды (Хокенберри слышал это своими ушами несколько месяцев назад, когда в образе старого Феникса явился с другими послами к быстроногому): дескать, «тот ненавистен мне, как врата ненавистного ада, кто на душе сокрывает одно, говорит же другое…».
Той памятной ночью уроженец Итаки наверняка уловил в его речах намек на издевку, однако решил проглотить обиду. И вот после горячительных возлияний он бахвалится собственным хитроумием. Ученый не в первый раз задается вопросом: а победят ли данайцы Трою без деревянной лошади Лаэртида, но мысли принимают новое направление. Ох и скользкое это слово – dolos. Сколько же в нем оттенков!..
– Над чем ты скалишься, сын Дуэйна? Моя речь тебя насмешила?
– Нет-нет, достославный Одиссей. Просто я вдруг подумал об Ахиллесе… – Схолиаст многозначительно умолкает, опасаясь рассердить бородатого воина.
– Я видел его вчера во сне, – отзывается Лаэртид, легко опрокинувшись в воздухе, чтобы взглянуть на звезды. Прозрачный, почти шарообразный купол позволяет видеть и корпус «Королевы Мэб», однако металл и пластик по большей части отражают сияние далеких небесных светил. – Мы повстречались в Аиде.
– А что, сын Пелея уже скончался? – спрашивает Хокенберри, откупоривая новый сосуд с вином.
Древний грек пожимает плечами.
– Так это же сон. Грезы не признают рубежей, установленных властью времени. Какая разница, дышит Ахиллес воздухом живых или уже витает среди холодных теней. Так или иначе, однажды Аид станет ему вечным домом, да и любому из нас.
– А, – говорит профессор классической литературы. – Что же он тебе сказал?
Одиссей обращает на схолиаста темные очи.
– Да вот расспрашивал о своем первенце, Неоптолеме, побеждает ли мальчишка в битвах у стен Илиона.
– И что ты ответил?
– Что не имею об этом понятия. Дескать, судьба увлекла меня далеко от священной Трои прежде, чем его сын появился на поле брани. Пелиду мой ответ пришелся не по нутру…
Хокенберри понимающе кивает. Ему хорошо знаком вспыльчивый нрав быстроногого.
– Ну, я постарался утешить Ахилла, – продолжает рассказывать Одиссей. – Говорил, что благодарные аргивяне по смерти почитают его наравне с богами и что живые мужи будут вечно петь о его незабвенных подвигах, но сыну Пелея все было по барабану.
– Правда?
Вино оказалось не просто хорошим, а превосходным. Горячие струи разбегаются по внутренностям, и чудится, схолиаст по-прежнему парил бы под куполом, даже если бы нечаянно вернулась обычная гравитация.
– Ага. Он велел мне засунуть и славу, и вечные песни поглубже в задницу.
Ученый давится смехом, изо рта вылетают пузырьки и мелкие бусины красного вина. Хокенберри пытается отмахнуться от них, но красные шарики лопаются, обагрив его пальцы липкой жидкостью.
Сын Лаэрта не отрывает задумчивого взора от звезд.
– Призрак Ахилла заявил мне вчера, что предпочел бы за ничтожную плату вечно батрачить на безнадельного бедняка и по десять часов на дню пялиться в зад неповоротливому быку, натирая на руках мозоли не рукоятью меча, но грубой сохой, нежели оставаться первым героем в Аиде или даже царить среди бездыханных теней, простившихся с жизнью. Стало быть, не понравилось ходить в мертвецах.
– Да уж, – хмыкает Хокенберри. – Я так и думал.
Одиссей выписывает сложный пируэт, хватается за спинку стула и смотрит на схолиаста.
– Ни разу не видал, как ты сражаешься, сын Дуэйна. Ты вообще когда-нибудь принимал участие в битвах?
– Нет.
Лаэртид кивает.
– Вот это правильно. Это мудро. Предки твои, должно быть, были сплошь философами.
– Отец у меня воевал, – неожиданно выпаливает ученый.
И сам поражается воспоминаниям, нахлынувшим на него впервые за долгие десять лет второй жизни.
– А где? – осведомляется грек. – Назови место битвы. Возможно, мы встречались.
– Окинава, – произносит Хокенберри.
– Не слыхал о таком сражении.
– Отец остался в живых, – говорит профессор, чувствуя, как у него перехватывает горло. – Он был очень юным. Всего девятнадцати лет. Служил в морской пехоте. В том же году он вернулся домой, а я родился тремя годами позже. Отец никогда не распространялся на эту тему.
– Никогда? – недоверчиво переспрашивает Одиссей. – Не хвастал подвигами, не рассказывал родному сыну о войне? Тогда неудивительно, что ты вырос философом, а не бойцом.
– Он вообще не упоминал о тех событиях, – качает головой ученый. – Я только и знал, что папа когда-то сражался. И лишь много лет спустя раскопал кое-какие сведения. Прочел давние рекомендательные послания от его командира, в то время почти такого же молодого, хотя и в чине лейтенанта. Уже после похорон отыскал в потертом солдатском чемодане желтые письма, медали… В ту пору я как раз получал степень доктора, так что воспользовался навыками научного исследователя, чтобы разузнать о войне, в которой отец получил Пурпурное Сердце и Серебряную Звезду.
Ахеец не проявляет любопытства, услышав о загадочных наградах. Вместо этого герой изрекает:
– Достойно ли твой отец показал себя на поле брани, сын Дуэйна?
– Думаю, да. Двадцатого мая тысяча девятьсот сорок пятого года он дважды был ранен в течение одной лишь битвы за место под названием Шугар-Лоаф-Хилл на острове Окинава.
– Не знаю такого острова.
– Ну да, это же очень далеко от Итаки, – поясняет Хокенберри.
– И много людей там было?
– На стороне отца – сто восемьдесят три тысячи, готовых ввязаться в бой. – Теперь и схолиаст внимательно глядит на звезды. – Более тысячи шестисот кораблей доставили его армию к берегам Окинавы. Их поджидали сто десять тысяч неприятелей, окопавшихся в скалах, в пещерах и среди кораллов.
– А город для осады? – С начала разговора в глазах Одиссея впервые появляется интерес.
– Настоящий город? Нет… – отвечает ученый. – Это было всего лишь одно сражение в большой войне. Враги собирались убивать наших людей, чтобы не отдавать в их руки родную землю. А кончилось тем, что наши люди принялись убивать их всеми доступными средствами: заливали пещеры огнем, погребали островитян заживо. Товарищи моего отца лишили жизни более ста тысяч японцев из ста десяти тысяч. – Хокенберри отхлебывает вина. – Видишь ли, нашими противниками были японцы.
– Блестящая победа, – одобряет сын Лаэрта.
Собеседник издает неопределенный звук.
– Ты здесь называл цифры, – произносит аргивянин. – Армия, корабли… Совсем как наша осада Трои.
– Да, очень похоже, – соглашается схолиаст. – Особенно что касается жестокости схваток. Рукопашные, днем и ночью, под дождем и в грязи…
– Но твой отец вернулся с богатой добычей? Золота привез, красивых наложниц?
– Только самурайский меч – клинок, принадлежавший вражескому офицеру. Правда, он так и не достал трофей из чемодана, чтобы показать мне.
– Должно быть, многие из его товарищей отлетели в глубины Аида?
– Американцев, если считать сражавшихся и на море, и на суше, погибло двенадцать тысяч пятьсот двадцать. – Тренированный ум исследователя и сердце сына без труда подсказали нужные цифры. – Ранения, опять же с нашей стороны, получил тридцать три тысячи шестьсот тридцать один человек. Вражеская армия, как я уже говорил, потеряла сто тысяч убитыми, многие тысячи были похоронены заживо или сгорели в пещерах и норах, куда они зарылись, чтобы дать отпор.
– У стен Илиона пало более двадцати тысяч ахейцев, – замечает Одиссей. – Троянцы с почестями сожгли на погребальных кострах по меньшей мере столько же защитников города.
– Ну да. – Губы Хокенберри трогает слабая улыбка. – Но это за десять лет. А битва на острове Окинава длилась девяносто дней.
Наступает молчание. «Королева Мэб» поворачивается вокруг оси, величественно и грациозно, словно гигантское животное, плывущее по морю. На мгновение мужчин заливает волна ослепительного света, и они прикрывают глаза ладонями, а потом возвращаются звезды.
– Странно, что я не слышал об этой войне, – произносит грек, передавая схолиасту новый мех с вином. – И все-таки ты должен гордиться своим отцом, сын Дуэйна. Ваш народ наверняка почитает доблестных победителей как богов. Сидя у очагов, потомки будут веками тешить свою душу хвалебными песнями об их славных деяниях. Внукам и правнукам героев никогда не забыть имена достойных мужей, бившихся там и сложивших головы, сладкоголосые аэды особо воспоют каждый поединок…
– Вообще-то, – ученый надолго прикладывается к питью, – почти никто из моих сограждан уже и не помнит о том сражении.
– Ты слушаешь? – передает Манмут по личной связи.
– Да.
Орфу с Ио в обществе прочих высоковакуумных моравеков трудится на внешней обшивке судна – разыскивает и устраняет мелкие повреждения от столкновений с микрометеоритами, солнечных вспышек и следы детонации водородных бомб. Конечно же, на корпусе можно работать и во время взлета или снижения – за последние две недели гигантский краб успел побывать снаружи несколько раз, перемещаясь по узким переходным мостикам и лестницам, оборудованным специально для этой цели, – но иониец предпочитает работать в условиях нулевой гравитации, нежели, по его собственному выражению, ползать по фасаду взлетающего стоэтажного дома с полным ощущением того, что корма корабля находится где-то внизу.
– Судя по голосу, Хокенберри здорово набрался, – замечает Орфу.
– По-моему, так и есть, – отзывается Манмут. – Вино довольно крепкое. Это напиток Медеи, воспроизведенный по распоряжению Астига-Че на основе образца из амфоры, которую мы «позаимствовали» в подвалах Гектора. Наш знакомый схолиаст годами распивал с троянцами и греками нечто похожее, но почти наверняка в умеренном варианте: ахейцы намешивают в кубки больше воды, чем вина. Иногда они черпают ее из моря или же добавляют «отдушку» вроде смирны.
– Вотэтоя называю варварством, – рокочет иониец.
– Так или иначе, – передает маленький моравек, – Хокенберри не ел ни крошки со времени последнего приступа космической болезни, а пить на тощий желудок – не лучший способ сохранить голову трезвой.
– Похоже, вечером нас ожидает новый приступ, – злорадствует гигантский краб.
– Если что, сам понесешь ему пакеты, теперь твоя очередь. С меня хватит.
– Вот черт, я бы с превеликим удовольствием, – сокрушается Орфу, – да только боюсь, коридоры в людском пассажирском отсеке окажутся для меня тесноваты.
– Погоди, – перебивает его Манмут. – Лучше послушай.
– Ты любишь игры, сын Дуэйна?
– Игры? – переспрашивает ученый. – В каком смысле – игры?
– Ну, те, что устраивают под праздник или на похоронах, – поясняет Одиссей. – Я имею в виду забаву, которой мы усладили бы сердца, когда исчез Патрокл, если бы только Ахилл согласился признать любимого друга мертвым и позволил провести обряд как положено.
Помолчав с минуту, Хокенберри наконец произносит:
– Это ты сейчас про диски, копья и все в таком роде?
– Ага, – кивает Лаэртид. – Плюс колесничные гонки, бег взапуски, борьба и кулачный бой.
– Видел я ваши кулачные состязания – там, на берегу, перед черными кораблями, – почти без запинки выговаривает ученый. – Мужчины дрались, обмотав ладони ремнями сырой воловьей кожи.
Ахеец громко смеется.
– А чем же еще, сын Дуэйна? Прикажешь цеплять им на руки большие мягкие подушки?
Схолиаст пропускает вопрос мимо ушей.
– Тем летом на моих глазах Эпеос измолотил до крови дюжину человек, переломал им ребра и сокрушил челюсти. Он принимал каждый вызов, боролся чуть ли не с полудня и закончил уже после восхода месяца.
Одиссей ухмыляется.
– Я помню те состязания. Соперников было не счесть, но сын Панопея превзошел искусством и лучших.
– Двое скончались.
Пожав плечами, грек отпивает еще вина.
– Эвриала, потомка Мекестия, третьего вождя аргосцев, снаряжал на битву и ободрял дружеской речью, сердечно желая победы, сам Диомед. Это он заставлял парня бегать каждое утро перед восходом солнца и укреплять кулаки, ударяя по тушам закланных мясниками степных волов, но все без толку. Эпеос вырубил Мекестида всего за двенадцать подходов. Так что пришлось Тидиду тащить бедолагу, волочащего ноги по праху, с поприща в стан на себе. Впрочем, боец оклемался за ночь и вернулся на игрища. В следующий раз не будет считать ворон, осел.
– «Грязная штука этот бокс, – декламирует Хокенберри. – Стоит задержаться в нем подольше, и вот уже на ваших плечах не голова, а концертный зал, где беспрестанно играют китайскую музыку».
Лаэртид разражается хохотом.
– Забавно. Кто это сказал?
– Один мудрец по имени Джимми Кэннон.[63]
– Между прочим, «китайская музыка» – это какая? – все еще хихикая, интересуется грек. – И я не совсем понял, что такое «концертный зал».
– Проехали, – отвечает ученый. – А знаешь, за время долгой троянской осады я не припомню, чтобы ваш чемпион по борьбе хоть раз отличился в поединке на поле сечи, в честной aristeia.[64]
– Это верно, – не спорит супруг Пенелопы. – Эпеос и сам признает себя не лучшим средь воинов. Дескать, «смертному в каждом деянии быть невозможно отличным». Некоторым хватает мужества встретить соперника с пустыми кулаками, но не проткнуть живот врага наточенным копьем и с силой вырвать наконечник, выпустив чьи-то кишки прямо в грязь, точно рыбью требуху.
– Тебе-то все по плечу, – ровным голосом произносит Хокенберри.
– О да. – Ахеец довольно смеется. – Такова уж воля богов. Я из тех, кого Громовержец обрек от юных лет и до седин играть по жестоким правилам войны до последней капли крови, пока не ляжем костьми в сырую землю.
– А наш Одиссей – тот еще оптимист, – комментирует Орфу.
– Реалист, – поправляет его европеец.
– Кстати об игрищах, – говорит схолиаст. – Я видел, как ты тягался на кулаках. И выходил победителем. Как побеждал всех ногами, бегая взапуски.
– Твоя правда, – соглашается сын Лаэрта. – Как-то раз я получил в награду двоедонный кубок, тогда как сам Аякс обошелся тучным волом. Благодарение Афине: подсобила, опрокинула верзилу перед самой чертой, вот я и стал первым. Так ведь мы с Аяксом еще и боролись! Я ему пяткой в подколенок, ноги подшиб, да и навзничь. Этот силач-недоумок опомниться не успел, как опрокинулся.
– Ну и что, это сделало тебя лучше? – осведомляется Хокенберри.
– А то как же! – рокочет грек. – Во что превратился бы этот мир без агона, без веселых состязаний? Должны же люди видеть, кто из них лучший, ибо и двух идеально похожих вещей не найдется на свете? Как иначе узнать, где воплощенное совершенство, а где лишь жалкое лицемерие? А ты, в каких играх ты преуспел, сын Дуэйна?
– На первом курсе я пробовал заниматься бегом, – признается ученый. – Но меня не приняли в команду.
– А вот я бы сказал, что искусен во многих состязаниях, – говорит Одиссей. – Руки мои недурно владеют полированным луком: я прежде других поражу противника острой стрелою в гуще врагов, хоть кругом бы и очень много товарищей было и каждый толкал бы под локоть. Знаешь, почему еще меня потянуло вслед за Ахиллом и Гектором биться с богами? Мечтал помериться в стрельбе из лука не с кем-нибудь, а с самим Аполлоном. Хотя, конечно, и понимал в душе, что иду на большую глупость. Когда б ни дерзнул кратковечный бросить вызов бессмертным (возьмем хотя бы злосчастного Еврита, царя Эхалии), можно побиться об заклад, что бедняга умрет внезапно, не достигнув спокойной старости в собственном доме. Не думаю, что я превзошел бы дальноразящего, у меня и лука-то любимого с собой нет. Никогда не беру его, отправляясь на чернобоких кораблях в дальние странствия, храню в своих чертогах. Это подарок Ифита, память о первой встрече, когда мы и стали друзьями. Оружие передал ему перед смертью отец, величайший среди стрелков Еврит. Знатная вещь, пожалуй, лучшая на земле. Богоравный Ифит пришелся мне по сердцу; жаль, что я не нашел тогда, чем отдариться, кроме клинка и длиннотенной пики. Вскоре Геракл умертвил Евритида, и нам не пришлось узнать друг друга как следует за веселым столом.
Кстати о пиках: копьем я достигаю дальше, чем иные стрелою. Ну, в кулачном бою и борьбе ты меня видел… Насчет беговых состязаний – сам помнишь, я обошел быстроходного Аякса и вообще могу часами утруждать свои резвые ноги, ухитрившись не извергнуть наружу завтрак, а вот на коротких расстояниях многие оставляют меня позади кашлять пылью, если, конечно, Паллада не вступится за любимца.
– Я бы мог пройти отбор, долгие дистанции – мой конек, – бормочет схолиаст себе под нос. – Но был там один тип, Бред Малдрофф, мы еще звали его Гусем, так он меня попросту выпихнул из команды.
– У поражения вкус желчи и собачьей блевотины, – молвит сын Лаэрта. – Горе мужчине, который свыкнется с этим вкусом. – Тут он прикладывается к сосуду с вином, запрокинув голову, и утирает багровые капли с русой бороды. – Вот незадача – увидеть во сне мертвеца Ахиллеса в пучинах Аида, когда все мои мысли занимает лишь судьба Телемаха. Раз уж боги посылают мне грезы, то почему не о родном сыне? Ведь я оставил его ребенком, слабым и неразумным. Хотелось бы знать, вырос ли он мужчиной или же маменькиным сыночком из тех, что вечно отираются у порогов достойных людей, гоняются за богатенькими невестами, совращают малолетних юнцов и день-деньской бряцают на лире.
– А у нас детей совсем не было. – Хокенберри потирает лоб. – Так мне кажется. Когда пытаюсь припомнить свою настоящую жизнь, все как-то расплывчато, скомкано, зыбко. Я словно ушедший ко дну корабль, который вытащили на поверхность, а воду полностью откачать не потрудились – так, лишь бы держался на плаву. А сколько трюмов еще затоплено.
Ахеец равнодушно косится на собеседника; он явно ничего не понял, но и вопросов задавать не собирается.
В ответ ученый внезапно пронизывает царя-полководца сосредоточенным, острым взглядом.
– Нет, ты мне скажи, если сможешь… Вот скажи мне, что это значит – быть мужчиной?
– Что это значит? – переспрашивает грек.
Открыв последние два сосуда, один из них он протягивает Хокенберри.
– Д-да-а… Прошу прощения, да. Быть мужчиной. Стать им. В моих краях обряд инициации прост – получить ключи от машины… или переспать с кем-нибудь в первый раз.
Одиссей кивает.
– Переспать – это важно.
– Но ведь не в этом же дело! А, сын Лаэрта? Так что же такое – быть мужчиной? Человеком, если на то пошло?
– Это становится интересным, – передает Манмут своему другу по личному лучу. – Я и сам задавался подчас таким же вопросом, и не только в попытках постичь тайну сонетов Шекспира.
– Все задавались, – отзывается Орфу. – Любой из нас одержим человечностью. Я имею в виду – любой моравек. Похоже, в нашей программе и в искусственной ДНК изначально заложено стремление изучить и постичь собственных создателей.
* * *
– Быть человеком? – повторяет ахеец серьезным, немного растерянным тоном. – Так, все, мне срочно нужно отлить. А тебе разве не нужно отлить, Хокенберри?
– Я вот о чем, – настаивает ученый, – по-моему, все дело в последовательности… непротиворечивости… – Последнее слово удается ему со второй попытки. – Непротиворечивости, да. Я о чем? Взять хотя бы ваши олимпиады по сравнению с нашими. Нет, ты послушай!
– Один моравек объяснял-объяснял, как правильно пользоваться уборной… Там что-то вроде пылесоса, и, по идее, моча должна всасываться на лету, но чтоб я провалился, если б хоть раз обошлось без треклятых пузырьков по всей комнате. А ты уже наловчился, а, Хокенберри?
– Двенадцать веков подряд вы, древние греки, вели свои игры, – упирается схолиаст. – Всего пять дней, зато через каждые четыре года. Подумать только, двенадцать веков. Пока их не упразднил один долбаный римский император. Двенадцать веков! Наводнения, мор, чума и прочие язвы – ничто не мешало. Минует четыре года – и любые сражения утихают, и ваши атлеты съезжаются к подножию Олимпа со всех концов земли, дабы почтить богов и помериться силами в колесничных гонках, беге от черты, борьбе, диско– и копьеметании, в этом вашем панкратионе – чудовищной смеси реслинга и кикбоксинга, которой я, к счастью, ни разу не видел, и, бьюсь об заклад, ты тоже. Двенадцать веков подряд, сын Лаэрта! Когда же мой народ решил вернуться к прославленным играм, и века не проходило, чтобы по меньшей мере три олимпиады не отменили по причине войны, страны то и дело отказывались присылать участников из-за мелочных обид, случалось, террористы мочили спортсменов-евреев…
– Мочились? Ага. – Одиссей отпускает пустой сосуд прыгать на веревочке, а сам разворачивается, готовясь уплыть. – Отлить надо. Я щас.
– А может быть, единственное, в чем человек последователен, это… Как там выразился Гомер? «Любим всем сердцем пиры, хороводные пляски, кифару, ванны горячие, смену одежды и мягкое ложе».
Лаэртид замирает у полураскрывшейся двери.
– Гомер – это кто?
– Ты его не знаешь. – Ученый допивает вино. – Зато тебе известно, что…
Он обрывает речь на полуслове. Ахейца уже и след простыл.
Манмут минует шлюз, на всякий случай привязывается и, цепляясь за лестницы и перила мостков, движется вдоль корпуса «Королевы Мэб». Маленький моравек находит Орфу у входа в грузовой отсек, в глубинах которого покоится, ожидая спуска, «Смуглая леди»: иониец наваривает на дверь небольшую заплату.
– Не очень-то содержательный получился у них разговор, – сетует европеец по радиосвязи.
– Так ведь это общая черта всех разговоров на свете, – откликается гигантский краб. – Даже наших.
– Да, но мы не напиваемся во время бесед.
Искры от сварки озаряют ярким сиянием корпус, конечности и датчики Орфу.
– Учитывая, что моравеки не усваивают алкоголь, чтобы взбодриться или же успокоиться, теоретически ты, конечно, прав. Зато мы очень мило болтали, пока ты страдал от нехватки кислорода, был опьянен токсинами переутомления и в придачу, как сказали бы люди, наложил от страха в штаны, так что бессвязный треп Одиссея и Хокенберри не так уж дико прозвучал для моих ушей… хотя у меня и ушей-то нет.
– Интересно, что сказал бы Пруст о сути человека? – подначивает Манмут. – Или мужчины, если на то пошло?
– Ах, Пруст, этот зануда, – отзывается иониец. – Сегодня утром его перечитывал.
– Ты мне однажды пытался растолковать, по каким ступеням он поднимался к истине, – произносит маленький моравек. – Правда, сначала их было три, потом четыре, потом снова три, потом опять четыре. Если не ошибаюсь, я так и не услышал вразумительных объяснений по этому поводу. И вообще, по-моему, ты сам тогда утратил нить рассуждений.
– Это была проверка, – громыхает краб. – Внимательно ты слушаешь или прикидываешься.
– Как скажешь. А мне кажется, у тебя был просто «бзик моравека».
– Ну, это не впервой, – не возражает Орфу.
Перегрузка органического мозга и банков кибернетической памяти все чаще грозили каждому моравеку, чей возраст перевалил за двести – триста лет.
– Что ж, – замечает Манмут, – сомнительно, чтобы представления Пруста о сущности всего человеческого имели много общего с понятиями Лаэртида.
Четыре из верхних сочлененных конечностей ионийца заняты сваркой, но он пожимает свободной парой плеч.
– Если помнишь, рассказчик испытал дорогу дружбы и даже любовной связи, – начинает Орфу, – что сразу сближает его как с Одиссеем, так и с нашим знакомым схолиастом. Однако Марсель находит свое призвание к истине в написании книг, в изучении тонких оттенков, сокрытых в глубине иных оттенков собственной жизни.
– Да ведь он отверг искусство как путь совершенного познания гуманности, – встревает европеец. – Я думал, что, по твоим же собственным словам, в конце концов герой решил, будто это и не дорога вовсе.
– Он обнаруживает, что подлинное искусство – неотъемлемая часть творения. Вот послушай отрывок из «У Германтов»:
«Люди со вкусом говорят нам сегодня, что Ренуар – великий живописец восемнадцатого века. Но они забывают о Времени и о том, что даже в конце девятнадцатого века далеко не все отваживались признать Ренуара великим художником. Чтобы получить такое высокое звание, и оригинальный художник, и оригинальный писатель действуют по способу окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно для пациентов. По окончании курса врач говорит нам: „Теперь смотрите“. Внезапно мир (сотворенный не однажды, а каждый раз пересоздаваемый новым оригинальным художником) предстает перед нами совершенно иным и вместе с тем предельно ясным. Идущие по улицам женщины не похожи на прежних, потому что они ренуаровские женщины, те самые ренуаровские женщины, которых мы когда-то не принимали за женщин. Экипажи тоже ренуаровские, и вода, и небо; нам хочется побродить по лесу, хотя он похож на тот, что, когда мы увидели его впервые, казался нам чем угодно, только не лесом, а, скажем, ковром, и хотя в тот раз на богатой палитре художника мы не обнаружили именно тех красок, какие являет нашему взору лес. Вот она, новая, только что сотворенная и обреченная на гибель вселенная. Она просуществует до следующего геологического переворота, который произведут новый оригинальный художник или новый оригинальный писатель».[65]







