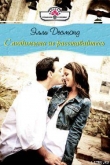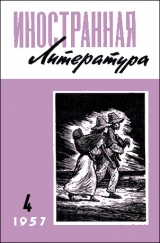
Текст книги "Несчастный случай"
Автор книги: Декстер Мастерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
– Иногда я задаюсь вопросом, да знают ли люди, что такое наука! Вы, надеюсь, будете иметь хоть какое-то представление о ней, и это для меня большое утешение.
Да, трудно понять, спит он или бодрствует. Он улыбнулся этим словам, сохранившимся в его памяти с давних времен, но через секунду уже был не в состоянии определить, слышал он их сейчас или нет. Затем плотно закрыл глаза, и тогда стало похоже, будто мисс Оливер была реальной и он спугнул ее. Он глядел в вытеснившую ее пустоту – и, казалось, снова стал ребенком и заглядывает в темную комнату, где может таиться все что угодно.
Чувство растерянности и мысль, что он нарочно (или вынужденно) старается от чего-то отвлечься, цепляясь за эти невинные и безобидные воспоминания, вдруг исчезли, оставив после себя пустоту, но ощущение книги в руке не проходило, а может быть, это ему только казалось; а то, что он видел перед собой (не часы) или сбоку, тоже, наверное, только показалось. Его ленивые воспоминания о незначительном, почему-то хорошо запомнившемся эпизоде текли не так, как следовало бы. Но из пустоты, подавляя все ощущения и мысли, заполняя собой все зримое пространство, снова выступила мисс Оливер.
Волосы у нее были медного оттенка, шелковистые, свернутые аккуратным узлом.
– Вы, надеюсь, будете представлять себе, что такое наука, и это для меня большое утешение. По крайней мере, вы не станете думать, будто кто-то попросту говорит себе – ну что ж, пора, пожалуй, изобрести доменную печь, дай-ка я открою одну из тайн природы – раз-два, и готово! Боже мой, как могут люди верить в такую чушь – ведь это все равно, что ставить телегу впереди лошади. Правильно сказано в библии. Наверное, некоторые из вас помнят это место…
Мисс Оливер любили все, даже те ученики, которые тупо глазели на нее во время уроков, даже те, кто за спиной называли ее Толстухой Оливер, даже родители, время от времени поднимавшие вопрос о замене ее мужчиной, который мог бы придать занятиям более практический и, может быть, профессиональный уклон, а заодно, быть может, тренировать ребят для состязаний по бейсболу и баскетболу. Для родителей, взбудораженных чудесами двадцатых годов, вся наука была втиснута в учебник, словно засушенный цветок, но стоило эту же самую науку вытащить из учебника и назвать техникой, как она расцветала пышным цветом. Существовало широко распространенное мнение, что женщине тут никак не справиться. Мисс Оливер, как известно, разрешили преподавать естествознание исключительно из уважения к Марии Кюри; к тому же, из трех кандидатов, претендовавших на это место в школе, ей полагалась наименьшая оплата. Но то было уже много лет назад.
– …в Книге Иова Иов говорит: «Обратись к земле, и она станет учить тебя». Так и поступали все великие люди. Так поступил и Лавуазье. Ведь именно так он и поступил, впервые проделывая тот опыт, который вы делаете сейчас. Он обратился к земле! Он хотел узнать, что происходит, когда горит огонь, и если люди потом извлекли пользу из его открытия, – а великие открытия всегда имеют огромное практическое значение, неизмеримое практическое значение! – то и пусть себе, на здоровье. Что до него, то он старался выяснить, что происходит, когда горит огонь. Боже мой! Разве этого недостаточно?
Школа не могла похвастать богатством лабораторного оборудования, да и то, что там имелось, мисс Оливер не всегда использовала наилучшим образом. Но у нее был один любимый опыт, и она с удовольствием следила, когда ученики делали его на уроке. Она любила расхаживать по классу (среди учеников не было ни одного старше восемнадцати лет, большинство юношей, но были и девочки) и думать о том, что все они – даже самые отсталые, даже те, у кого все это вылетит из головы прежде, чем затихнет звонок, возвещающий о конце урока, – что в эти минуты, сидя за единственным лабораторным столом и нагревая олово, чтобы получить окись, они ближе к познанию природы, чем любой ученый, живший во времена войны за независимость. Мисс Оливер хотела внушить им, что этот или другой, такой же, с виду незначительный опыт может произвести переворот в умах людей.
– Как бы мы жили сейчас, если бы не те исследователи, которые просто стремились к познанию? Уверяю вас, не было бы ни доменных печей, ни паровых котлов в подвалах. Какие дикие представления об огне были у людей совсем не так уж давно, хотя вам это, вероятно, покажется вечностью. Большинство таких понятий осталось еще от Средних веков, от алхимиков и ремесленников, плавивших металл. Ремесленники! Подумаешь! Только ученый, который захотел выяснить, что такое огонь, открыл нам истину.
Она медленно и грузно расхаживала по классу и обращалась не столько к ученикам, сколько в пространство, словно надеясь, что воздух впитает в себя смысл ее слов и мальчики и девочки, вдыхая его, поневоле усвоят те истины, которые она старалась им внушить. Мисс Оливер давно уже постигла, что наука – это единая и непрерывная цепь, и, охватывая взглядом всю цепь целиком, она не слишком заботилась об отдельных звеньях. Ученики слушали ее с относительным вниманием, и факты, которые она путала или пропускала, казались не столь важными, как то, что она пыталась им втолковать.
– Веками люди только строили догадки о том, что такое огонь и горение. Конечно, ничего плохого в этом нет. В науке многое основано на догадках, имейте это в виду, хотя далеко не все они оказываются правильными. Природа любит, чтобы с ней советовались. Иногда в догадке уже наполовину заключен ответ. Задолго до Лавуазье жил человек, который сумел понять это. Я сейчас не припомню его имени, он умер молодым, но уже постигал истину, как постигали ее и другие. Послушайте, что говорил Исаак Ньютон. Он сказал: «Я видел так далеко вперед, потому что стоял на плечах у гигантов». Вы должны запомнить это. Великие люди учатся у своих предшественников. И всегда так бывает. Люди науки учатся друг у друга.
Исполненная благоговейного уважения к слову, как некий мистик-богослов, и с таким же равнодушием ко всяким мелочам, мисс Оливер вела своих учеников мимо кладовых знания и открывала перед ними дали, слишком обширные для их разумения, – по крайней мере, в то время. Луис следил, как она, тяжело ступая, ходит по классу, обращаясь в пространство и теребя свои коралловые (или агатовые) бусы. И однажды она вдруг взглянула на Луиса, примостившегося сбоку на табуретке, возле лабораторного стола, заметила на его лице жадный интерес и обратилась к нему.
– Ты понимаешь, о чем я говорю, правда, Луис? Повтори, пожалуйста, это своими словами. Объясни нам, в чем тут смысл.
– Ну, значит, – пробормотал он, помявшись, – вы сказали, что эти открытия, они… в них участвует много людей – так вы сказали…
Ей и в голову не пришло, что он просто смутился. Луис даже тогда понимал это. Для нее это было лишь еще одним привычным разочарованием. Но, как всегда, она продолжала свое.
– О, дети, дети, запомните же, чего достигли великие люди, движимые одним только желанием познать природу. И все это – самые реальные факты, наиреальнейшие из всего существующего на свете. Такие опыты – ведь это вопросы, которые задавали природе люди, а их открытия – ответы природы, от которых зависит вся наша жизнь, – вот что это такое! У Теннисона есть чудесные стихи:
Цветок на треснувшей стене,
Простой цветок в руках моих,
Тебя постичь бы только мне,
Тогда б я многое постиг,
Тогда б я…
– Ах, боже мой, всегда я забываю, как дальше. Кто из вас помнит?
Никто не помнил, как дальше; во всяком случае, никто не вызвался продолжать.
Но тут прозвонил звонок, и класс быстро опустел. Луис подошел к мисс Оливер, открыл было рот, потом закрыл его, постоял молча и затем быстро заговорил:
– Я эти стихи читал когда-то и вот сейчас подумал о том, что в этих стихах нет того, о чем вы говорили… Я хочу сказать, у Теннисона сказано, что вот держишь в руке цветы, и если б только постичь… но дело-то не в этом. Сами цветы ничего не скажут, надо знать, что хочешь выяснить, правда ведь?
Мисс Оливер рассмеялась.
– Да, конечно, но за вопросами дело не станет. Есть еще столько, о, столько неизвестного, что нам предстоит разгадать. Да ты и сам знаешь.
– Да, знаю, но я говорю о другом. Не находятся ли ответы на все вопросы здесь, вокруг нас, не ждут ли они, чтоб мы на них натолкнулись, – вот, что я хочу сказать. Может, самое главное – знать, о чем спрашивать?
– Да, пожалуй, можно считать и так. – Однако мисс Оливер пришла в некоторое замешательство. – Впрочем, мне кажется, необходимо знать, что было сделано прежде, – понимаешь, все ответы на прежние вопросы, – если хочешь правильно определить свою цель. Разве не так?
– Да, знаю, – повторил Луис. – Но вы нам рассказывали, что настоящие открытия возникают не из собирания фактов, хотя и это необходимо. Но потом надо истолковать эти факты и правильно поставить следующий вопрос. То есть, надо либо поставить вопрос, либо сделать опыт, но так, чтобы вроде как прыгнуть вперед. Понимаете, что я хочу сказать? Надо сделать что-то такое, чтобы вырвать ответ. А в этих стихах совсем наоборот. Важны вопросы, а не ответы. Именно вопросы. Вам не кажется?
С минуту они стояли молча, и между ними как бы повисли эти сбивчивые, но довольно точные, хотя и слишком выспренние слова, определявшие миссию ученого; и вдруг Луис, что-то пробормотав, бросился вон из класса…
– Если я забуду тебя, о, мисс Оливер… – пробормотал он сейчас – вернее, ему показалось, что он пробормотал это.
Что же было потом?
…к Чурке и другим мальчикам на лужайке, встретившим его насмешками.
В ногах кровати часы: «Дедушка завещал их тебе, сынок. Они все еще хорошо идут».
А на подоконник того окна, что выходит на пруд, где играют дети, кто-то поставил цветы в банке.
Что же было потом?
– Он всегда норовит остаться и секретничает с нею. Ждет, пока все разойдутся, а потом идет к ней, и они вдвоем секретничают.
– Ах, эти прекрасные глаза!
– Вот и я говорю.
Луис согнул и рывком разогнул ноги (сбросить одеяло оказалось легче, чем он ожидал; теперь, если ему удастся подтянуть кверху больничную рубашку, быть может, он увидит то, что должен видеть). Он рывком бросился к Чурке (но сейчас он вынужден двигаться осторожно, а почему – в этом он разберется попозже), который, подскакивая, описывал широкий полукруг по лужайке и кричал:
– Она оказала, у него красивые ресницы! Спроси у него, что она сказала про его ресницы! Вот это самое и сказала!
Что же было потом?
На замершей лужайке замерли все лица, все завтраки лежали нетронутыми: так возле дохлой собаки собираются живые, которые сбежались за несколько миль, чтобы обнюхать ее; на замершей лужайке стояла грузная мисс Оливер, греясь на солнце и ни на кого не глядя.
Что же было потом?
– Еврейские глаза!
Но это же не о цветке, не об истине, не о каком-то предмете.
– Еврейские глаза!
Не о мальчике, не о мужчине, не о человеке.
О чем же? Почему? (Опять вопросы.)
О двери, которая уже не откроется. Тикают часы, цветы колышутся.
Он медленно пошел по замершей лужайке и почти закричал:
– Мне плевать на то, что говорит Толстуха Оливер. Что бы она там ни говорила, мне безразлично, – и краска разлилась по его лицу, краска разлилась по всему его телу.
Тикают часы, и спящий двигает ногами, двигается всем телом, чтобы увидеть.
Но мальчики отступают к краю площадки, и глаза его загораются ярким, как солнце, блеском. Часы тикают, а вопросы похожи на цветы.
Если забуду тебя, о Иерусалим,
Пусть отсохнет правая рука моя,
Пусть прилипнет язык мой к гортани…
Если я забуду тебя, о мисс Оливер.
Мальчик пошел прямо через лужайку, прочь от всех, но глаза его блестели, словно вопрошающие глаза подопытного зверька, мятущегося между инстинктом и дверью, которая может открыться или не открыться.
Почему? (Но не на все вопросы находится ответ, и не всегда стоит спрашивать.)
Он шел и шел, хотя глаза его, горящие и жгучие, стали мягче от обиды, повлажнели от стыда и смотрят в одну точку. Вопрос: поддается ли эта дверь (та, что с цветком)?
Глаза красные, как солнце, густо-красного цвета, как эритема, появившаяся на животе Нолана в начале третьего дня (в соответствии с вычисленной дозой облучения) и уже не исчезавшая до конца; «реакция кожных покровов торса в данном случае представляет интересные особенности».
Тикают часы; глаза обращаются в сторону, и никто не может увидеть то, что видят они или что застыло в зрачках, можно только догадаться, да и то не всегда. Спящий двигается, и рубашка ползет кверху.
Глаза открываются, взгляд вбирает в себя часы в ногах кровати и цветок на подоконнике.
С улицы, за два квартала, доносится затихающий гомон пассажиров, которых привез автобус из Санта-Фе.
На часах еще нет семи; белеет заснувший цветок, простыни сбиты к ногам, рубашка сбилась кверху и открыла ноги, но только до колен.
3.
Уже совсем проснувшись, Луис некоторое время лежал не шевелясь; голые ноги его были согнуты в коленях, складки рубахи топорщились на животе. Все тело было неподвижно, только дыхание, тяжелое от недавних усилий, вздымало его грудь; он почти не помнил об этих усилиях, слишком глубоко он погрузился в залежи сна, во время которого ему снилось пробуждение, – но какой все это вздор и какая тоска во сне! Что за странный бред, когда и без того есть о чем подумать! Как долго не заживают, оказывается, старые раны!
Луис попробовал поднять голову и заглянуть поверх складок больничной рубахи. Но они заслоняют все, надо подтянуть рубаху повыше, и он еще раз попытался сделать это, сползая всем телом от изголовья вниз, потом снова подтягиваясь кверху; складки шевельнулись, но все осталось, как было. Еще минута, и он добьется своего, еще минута, и он сделает это: мысленно он уже взвесил свои возможности. Сегодня он не чувствует себя таким усталым, как вчера вечером, – усталым до того, что все кости ноют и бренчат, как говорила его мать. На нем еще сказывалось действие снотворного, но это легко устранить, это поверхностно – чашка кофе, и все пройдет. А вчера мысль о чашке кофе вызвала бы у него тошноту. Но и тошнота совсем прошла. Он чувствовал себя неплохо, только был слегка растревожен мыслями и немного ослабел от судорожных движений. И вдруг у него возникло настойчивое желание посмотреть, что с его руками, а потом уже что-то делать или о чем-то думать.
Руки до локтей были погружены в лотки, стоявшие по обе стороны кровати. Левый лоток был плотно укрыт полотенцами; они громоздились уродливым холмиком, под которым его рука исчезала по локоть. Концы полотенец свисали во все стороны, и он не мог увидеть даже очертаний того, что было частью его самого. Он знал, что под полотенцами рука лежит во льду, хотя не чувствовал этого; он чувствовал только боль, идущую, казалось, откуда-то очень издалека, – вернее, даже не боль, а жжение. Оно не было нестерпимым, оно только ощущалось все время, хотя, пожалуй, меньше, чем вчера вечером. И лишь через несколько мгновений он сообразил, что лед, покрывавший вчера только кисть руки, теперь доходит до локтя.
Луис отвернулся. Он подтянул одну ногу как можно выше к животу (попутно отметив, что все ощущения нормальны), но и так ему ничего не было видно; все дело в том, подымется ли рубашка выше, если он опять вытянет ногу? Но рубашка не поднялась; жесткая ткань, казалось, последовала за ногой и, вся в складках и холмиках, легла еще ниже, чем прежде.
Луис слегка повернул голову и скосил глаза, стараясь рассмотреть правую руку. Край лотка доходил до места чуть повыше запястья; локоть опирался на сложенные полотенца, а кисть в лотке тоже лежала на полотенцах или между полотенцами, прикрывающими лед, но сама рука не была закрыта. Он смотрел на нее с любопытством, почти не сознавая, что это – часть его самого. Рука, лежавшая на своем холодном ложе, и в самом деле казалась посторонним предметом, а поддерживавшая ее полоска бинта, перекинутая через плечо к ближнему краю лотка, еще больше усиливала это впечатление. Прежде чем сделать попытку шевельнуть рукой, он с минуту разглядывал ее; рука сильно распухла, опухоль подымалась вдоль предплечья на несколько дюймов выше бинта; кожа не покраснела, она была скорее голубоватого оттенка, без пузырей и каких-либо ранок. Внимательно рассмотрев все, Луис, согнув локоть, попробовал шевельнуть рукой; она двигалась нормально, но кисти он не чувствовал. И опять он стал смотреть на руку, время от времени пробуя шевелить ею, но пальцы оставались неподвижными. Эта рука совсем не болела.
Взгляд Луиса упал на правый лоток. Как и левый, он был приставлен к кровати под углом примерно в сорок пять градусов. Судя по тому, что удавалось разглядеть под полотенцами, лед был придавлен резиновой прокладкой, а прокладка – чем-то вроде деревянной рамки. Порою, когда он двигал локтем, слышался шелестящий звук; Луис решил, что в лотке фунтов двадцать-двадцать пять льда, и по характеру звука решил, что, по крайней мере, четверть этого количества уже растаяла. Он рассчитал это машинально, без всяких мыслей или особых чувств, но совсем неожиданно ему представилась дикая картина: он, капризный калека, кричит растерявшимся сиделкам: «Льду! Черт бы вас побрал, давайте еще льду!» Эта картина не позабавила его, не вызвала в нем никакого интереса и тотчас же исчезла. Луис чуть наклонился к лотку, чтобы посмотреть, на чем он стоит, но ему мешал борт кровати и полотенца. Он снова стал разглядывать руку, и на этот раз припомнил историю, слышанную им несколько лет назад в родном городе, от одного врача; этот врач выдал свидетельство о смерти руке плотника, которую отрезало циркулярной пилой. Получив свидетельство о смерти, плотник сколотил для руки маленький гробик и вместе со всей семьей похоронил ее на кладбище, где хоронили его родственников.
«Если глаз твой искушает тебя», – почти вслух произнес Луис. И опять, как прошлым вечером, он быстро повернул голову к двери. Дверь была немножко приоткрыта; он знал, что ночная сиделка должна быть недалеко, в коридоре за углом; видеть ее он не мог, но слышал чье-то сонное дыхание – впрочем, трудно сказать, сиделка ли это или больной в соседней палате.
И снова он занялся своим телом. Внезапно и порывисто он выгнул спину, сильно напрягая мускулы шеи, оперся на затылок, вытянул ноги, приподнял ягодицы под простыней и в этом положении извивался и ерзал, стараясь поднять над животом проклятую рубашку, которая шевелилась от его движений, но не подымалась выше ни на дюйм. Он расслабил мускулы и, тяжело дыша, упал на постель. И сразу же начал проделывать целую серию движений: слегка приподнимал туловище, чуть-чуть сползая вниз, изо всех сил упирался головой в подушку и снова подтягивал туловище вверх, чтобы начать все сначала. Он не спускал глаз с рубашки на животе – рубашка натягивалась, морщилась, скользила то вверх, то вниз; однажды ему показалось, что он видит на одной ноге границу загара, идущую пониже паха до середины бедра, и незагоревшую кожу там, где тело бывает закрыто трусами. Но в следующую же секунду рубашка опять скользнула вниз, и он не был уверен, не померещилось ли ему это. Дыхание его участилось, на груди выступил пот; он несколько изменил движения и стал раскачиваться туловищем из стороны в сторону, проклиная свои трусы – то были плотно прилегающие плавки – и проклиная жесткую, неподатливую рубашку. Через некоторое время, показавшееся ему бесконечно долгим, он выдохся и затих; глаза его налились слезами, и он проклинал все, что приходило ему на ум. «К чертям собачьим, к чертям собачьим», – снова и снова повторял он, сначала шепотом, потом вслух.
Наконец он выбился из сил и опять лежал молча. Испарина, выступившая от напряжения, холодила его; ноги застыли, и все его тело стыло от холода, кроме лежавших во льду рук, которые ничего не чувствовали. Боль в левой руке, казалось, существовала сама по себе, отдельно. Источник ее как будто находился где-то за краем кровати, в воздухе, боль проникала в руку в каком-то неопределенном месте. И кончалась тоже в каком-то неопределенном месте или в нескольких местах, не сразу, а постепенно переходя в пульсацию, которая в одном месте была слабее, чем в другом, и где-то затихала совсем.
Но это неважно, думал Луис, – немножко больше или меньше болит, вот и все. Ожог, опухоль, обмораживание – все это причиняет боль; как много болезненных явлений начинается с буквы «о», подумал он с мимолетным любопытством. Огонь, отравление, обморок… И облучение, добавил он про себя. И осколочные бомбы. Впрочем, бомбы – это уже вызывает другие, чересчур сложные размышления, и Луис поскорее ухватился за свою первую мысль: боль, будь она сильнее или слабее, сама по себе несущественна. Ведь боль – это только деталь; рука, лежащая где-то там, под кучей влажных полотенец, гораздо важнее. Впрочем, думал он, рука – это тоже деталь; не все ли равно, одной рукой больше или меньше? Он прислушался к себе, ожидая, что внутренний цензор его оборвет – нельзя же так распускаться, ведь это явная глупость. Но ничего такого не произошло, и мысль застряла у него в мозгу. Он скосил глаза на правую руку, она далеко, но, по крайней мере, видна; это неважно, сказал он себе, это не так важно. Он повернул локоть, и кисть руки повернулась тоже; он положил локоть на прежнее место, и кисть тоже легла на место. Самое главное… но он не стал додумывать, что же главное. Он остановился – не из страха, а из-за внутренней растерянности: он не знал, как определить главное, и, по правде, не мог сосредоточиться, чтобы найти то, что надо определить.
Глаза его устремились на часы, висевшие в ногах кровати; стрелки показывали одиннадцать или двенадцать минут восьмого. Он смутно припомнил, что когда смотрел на них в последний раз, было без нескольких минут семь, но не может быть, чтобы прошло так мало времени; наверное, он смотрел на часы вчера вечером, или, может, они остановились – ведь некому было их завести. Кто будет заводить их? – подумал он.
Неужели я умру?
Он произнес про себя эти слова ясно и отчетливо, смутно догадываясь, что, кажется, неожиданно напал на самое главное. Но слова эти не произвели на него особого впечатления. Это был вопрос, который не касался лично его. Они могли быть произнесены in vacuo[4]4
В пространство (лат.).
[Закрыть] и не помогали сосредоточиться. Слова эти мелькнули в его мозгу и унеслись прочь, без ответа, даже не являясь, в сущности, вопросом, – просто промелькнули и улетучились.
И когда они улетучились, Луис обнаружил, что снова или все еще думает о своих руках. А потом его вдруг бросило в дрожь, по голым ногам побежали мурашки, сердце заколотилось. Он закрыл глаза, изнемогая от сердцебиения, и в темноте, за плотно закрытыми веками как бы услышал свой настойчивый крик: «Нет! Нет! Руки – это важно! Руки – это самое важное!» Что он вкладывал в эти слова, Луис и сам не вполне понимал или, во всяком случае, не стал задумываться; то была даже не мысль, а ощущение. Но и оно прошло вместе с дрожью, сердцебиением и мурашками.
Луис опять принялся разглядывать больничную рубаху. Он подтянул обе ноги к животу, распрямил их, потом согнул и разогнул каждую ногу отдельно, но делал это без особой энергии. Суть в том, подумал он, вспомнив слова из старого анекдота, что по моим расчетам отсюда туда никак не добраться. Он мог слегка соскользнуть от изголовья к ногам кровати и обратно, но этого было недостаточно; он мог выгнуть тело, но не так, как надо; сгибая ноги, он сдвигал рубашку вверх, но все же, до того места, которое он хотел увидеть, оставалось еще несколько дюймов, и какие бы движения он ни придумывал, ничто не могло сдвинуть ее повыше. Во всяком случае, так казалось, да, так ему казалось. Когда не действуют руки, человек уподобляется животному; вот отличный пример того, подумал он, какое огромное значение имеет способность человека коснуться большим пальцем указательного.
Эта невеселая мысль доставила Луису смутное удовлетворение, и он полунасмешливо, полусокрушенно кивнул головой. Но не только удовлетворение помешало ему понять, что этот пример, в сущности, не совсем убедителен, – сказывалась и некая пассивность, причины которой коренились не только в его теперешнем состоянии. Луис опять покосился на свою незакрытую руку и вдруг вспомнил обезьяну, которая научилась сбивать палкой слишком высоко висевшие бананы. До чего моя рука похожа на палку, мелькнуло у него в голове, а кисть – на набалдашник или узловатую култышку. Последовать примеру обезьяны ему мешала полоска бинта, которой привязали его руку к лотку доктор или сестра, хотя он не помнит, когда это было: но, значит, так надо, в этой палате свои особые, кем-то другим установленные законы, и он должен им подчиняться, и во всяком случае, повязка служит непреложным доказательством его бытия. Но наряду с удовлетворением, впрочем чисто умозрительным, и с пассивностью, владевшей им только отчасти, ему мешало еще и нечто другое – так сказать, ощущение непригодности средств, то есть сознание, что рука его совершенно бесполезна, ибо она утратила способность делать изощренные движения, которые составляют главное достоинство, красоту и ценность человеческой руки. Думая о том, как легко было бы рукой приподнять рубашку на животе, он представлял себе только здоровую руку, которая приподняла бы ее большим и указательным пальцами.
Часы оттикали еще пять минут, прежде чем его выдержка начала слабеть перед лицом действительности, слишком простой для таких умозаключений.
– Идиот я, – прошептал Луис. Он приподнял руку, проверяя, крепко ли держит ее бинт; оказалось, как и можно было предположить с виду, что полоска бинта только слегка придерживает руку, чтобы он не дернул и не вытащил ее во сне из лотка. Даже опухшей рукой он смог бы, действуя медленно и осторожно, снять этот бинт; так он и сделал. Он поднял руку и перенес ее через кровать, сделав почти то же самое движение, что и два дня назад, перед тем как стрелки измерительных приборов на лабораторном столе начали свою бешеную пляску. Кисть и предплечье на секунду очутились в таком же положении, как и в ту секунду, когда он опустил последнюю маленькую плашку расщепляемого материала в реактор и тотчас же увидел слабую голубоватую вспышку, исчезнувшую оттого, что он стукнул кулаком по котлу прежде, чем мозг успел зарегистрировать, что означает эта вспышка. Теперь мозг его непроизвольно восстановил все случившееся тогда, и рука чуть замедлила свое движение, потом опустилась, и кисть, твердая и массивная, ничего под собой не чувствуя, легла пониже больничной рубашки на обнаженное бедро, которое ощутило холодную тяжесть руки.
4.
Доктор Педерсон, будучи холостяком, занимал одну комнату в мрачном двухэтажном строении, отведенном под жилье холостякам. Это общежитие, выстроенное на скорую руку и покрашенное в темно-зеленый цвет, было одной из первых построек, возникших на плато в начало 1943 года, вскоре после того, как там появились армейские бульдозеры. И хотя здание осело посредине и всякий гвоздь свидетельствовал о том, что строили его не на долгие годы, все же выглядело оно в общем вполне прилично, а из каждого окна открывался великолепный вид. Весной 1946 года общежитие вмещало шестьдесят восемь человек, главным образом младших представителей (то есть, опубликовавших всего несколько работ) высших классов городской иерархии (то есть, они были физиками или химиками).
Единственное окно комнаты доктора Педерсона выходило на запад, прямо на горы Хемез, которыми в первые недели жизни в этом доме он восторженно любовался по утрам и вечерам; прекрасный вид несколько примирял его с возмутительным отсутствием собственной ванны и был увековечен в письмах к родителям, которые жили на востоке страны. В этих письмах доктор Педерсон не упускал случая с мрачной иронией пройтись по поводу того, что здешние места, эти чудесные древние горы, используют для производства атомных бомб. Но то было давно; впоследствии доктор Педерсон стал гораздо больше интересоваться передним планом открывавшегося перед ним вида, передний же план включал в себя множество предметов, а главное – «Вигвам», с его террасой, стоявший по ту сторону красивейшей в Лос-Аламосе лужайки – зеленой полоски ярдов в сто или немногим больше. «Вигвам», бревенчатый двухэтажный дом с зеленой лужайкой, был самым значительным наследием, оставшимся от скотоводческой школы для мальчиков, которая мирно существовала на этом месте лет двадцать до того дня, как молодой физик, влекомый воспоминаниями о здешних красотах, привез сюда генералов, чтобы прикинуть, насколько удобно это плато. «Вигвам», служивший для мальчиков местом сборищ и столовой, был использован учеными и военными почти в тех же самых целях. Вдоль всего фасада тянулась широкая, вымощенная каменными плитами терраса. На ней в часы обеда или ужина и вообще в свободные часы, когда позволяла погода – тем более сейчас, с наступлением весны, – те из обитателей города, кого не отпугивали здешние цены (в кафетериях все было гораздо дешевле) и кто имел достаточный общественный вес (в «Вигваме» царила атмосфера офицерского клуба), приходили сюда поесть, выпить и посплетничать. Для именитых посетителей были припасены десяток хорошо обставленных комнат на втором этаже. Доктор Педерсон постепенно стал находить немалое удовольствие в наблюдении за «Вигвамом» и его террасой, он знал, кто с кем там встречается, а полосатые зонты, которые по утрам раскрывались над столиками, будили в нем приятные воспоминания о родном городе в штате Массачусетс и о загородном клубе, куда он в юности ходил на танцы.
В это утро Чарли Педерсон проснулся гораздо позже, чем обычно. Было уже больше половины девятого. Накануне он читал до четырех часов ночи. Он делал кое-какие заметки и пришел к выводам, сущность которых заключалась в том, что из всех врачей, собравшихся для лечения Луиса Саксла (и, разумеется, прочих пострадавших), только он один не приговорил заранее своего пациента к смерти. Накануне вечером врачи устроили совещание в больнице, и он с самого начала был неприятно поражен, а под конец почти поверил, что положение безнадежно. Но утром он встал злой и недовольный.
До ванной было слишком далеко – шагов пятьдесят по коридору. Педерсон удовольствовался душем и умывальником. Одеваясь, он перебирал в уме все, что сумел извлечь из прочитанного и передуманного за ночь. Обнадеживающего, надо сознаться, было очень немного, но кое-что требовало выяснения.
– Если все сопоставить… – сердито сказал он своему отражению в зеркале.
«А кто знает что-нибудь наверняка?» – выглядывая в окно, подумал он, уже без злости, а скорее грустно.