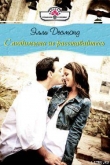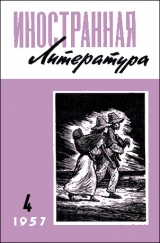
Текст книги "Несчастный случай"
Автор книги: Декстер Мастерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
– Бесспорно, – сказал Уланов, – но что поделаешь с такими совпадениями? Это и удивительно просто, и попадает в самую точку; такие вещи существуют на свете, и от них никуда не денешься. Однако я должен извиниться перед Ромашом. Ромаш, примите мои извинения. Я еще больший болван, чем вы.
– Как физик, – сказал один из собравшихся, – я могу понять вас обоих. Математики, вроде Уланова, всегда склонны к мистике. Помните Рамануджана – кстати, почему индийцы так сильны в математике? – так вот, помните, Рамануджан писал замечательные формулы, но часто не мог придумать для них доказательства. Он утверждал, будто какая-то богиня внушила ему эти формулы во сне. Что вы на это скажете, Ромаш? А что касается вас, химиков, вы просто сварливый народ и боитесь всего нового. А все потому, что вы подавлены тем, как много вы знаете. Мы-то, физики, понимаем, насколько знания ограничены.
Сверкающий, быстро нагревавшийся на солнце воздух над пустырем дрожал от этих споров и рассуждений, хотя с пика Тручас, вероятно, казалось, что в городе ровно ничего не происходит, а на противоположную сторону улицы или в угловую палату не доносилось ни слова. Даже на расстоянии двадцати шагов слышалось лишь неясное бормотанье, ибо только Ромаш один раз повысил голос, остальные же говорили совсем тихо. Бетси Пилчер, заметившей эту группу за целый квартал, показалось, что они стоят молча и неподвижно. «Как коровы на пастбище», – сердито подумала Бетси, подходя ближе.
Она шла медленно, но, увидев их, прибавила шагу; пусть знают, сказала она про себя, что у некоторых есть дела поважнее, чем стоять и глазеть на окна. И для пущей убедительности она придала суровое выражение своему помятому, припухшему от бессонной ночи лицу. Сегодня в два часа ночи холодный ветер, бесконечная пустая улица и безучастные звезды нагнали на нее глубокую тоску; сворачивая за угол, к своему дому, она оглянулась на освещенные окна угловой палаты, и ей захотелось плакать. Сейчас стояло солнечное утро, на улицах толпился народ, но, когда Бетси приближалась к окнам, которые с виду ничем не отличались от других, на душе у нее было нисколько не легче. Сегодня она приняла таблетку бензедрина, выпила три чашки кофе и долго стояла под холодным душем – эти меры в сочетании с невеселыми мыслями привели к тому, что она ненавидела всех, кто попадался ей по пути. Ведь никто не знает того, что знает она, никто не испытывает того, что она, и все казались ей врагами, особенно те на пустыре – стоят, как стадо свиней, прикидываются друзьями, а на самом деле (она знала этот сорт людей) их просто разбирает любопытство; ничем они не помогут, да и не в силах помочь, они целы и невредимы – невредимы! – и лезут сюда неизвестно зачем. Бетси не дала себе труда надеть маску на усталое лицо, и оно отражало все ее ощущения. Она чуть замедлила шаг, поправила выбившиеся из-под шапочки волосы и решительно пошла вперед.
Но, подойдя ближе, Бетси увидела, что они вовсе не стоят неподвижно, как стадо свиней. Скользнув по ним быстрым взглядом, она убедилась, что они и не думают пялить на нее глаза, и это как-то примирило ее с ними. Бетси не столько увидела, сколько ощутила еле заметные беспокойные движения, какую-то напряженность в облике каждого, выдававшую чувства, которые им хотелось скрыть, и смущение оттого, что это не получается. Но Бетси ничуть не смягчилась, потому что, внутренне примирившись со всеми, она к каждому отдельно испытывала враждебность. Все они были ей знакомы, некоторым она даже оказывала помощь при каких-нибудь пустяковых заболеваниях, но все эти люди принадлежали к прошлому или, если угодно, к будущему, и сейчас ей было не до них. Смутно различая их лица краешком глаза, она видела и чувствовала, что сначала один, потом другой хотел заговорить с нею, и ровным шагом прошла мимо. Бетси, как, впрочем, многие сестры, научилась подчинять свои душевные движения внешним обстоятельствам так, чтобы не обострять отношений с родственниками и друзьями пациентов; когда надо, она умела проявить участие или же держаться в стороне. Пожалуй, атмосфера сейчас была довольно благоприятная для того, чтобы дать волю душевным порывам, так как, проходя мимо этих людей, она вместо возмутительного нездорового любопытства почувствовала в них искреннее беспокойство, которое могло бы ее растрогать. Однако она не растрогалась. Ибо все-таки никто не знал того, что знала она, и никто не испытывал того, что она. Бетси выругала их про себя – наверное, они еще доставят ей немало хлопот – и молча поднялась по ступенькам.
А в группе, когда Бетси прошла мимо, сразу же оборвалась ниточка нервного, ничего не значащего разговора. Бетси отнеслась к этим людям с полным равнодушием; но они не могли оставаться равнодушными к Бетси, вернее, к тому, что было сейчас с нею связано; и чтобы не проговориться о том, самом основном, что каждому из них удавалось скрыть за пустой болтовней, они начали расходиться. Физик, который перед появлением Бетси учтиво иронизировал над собеседниками, вдруг резко повернулся и ушел. Три человека, подошедшие вместе, отделились от остальных и вместе зашагали прочь. Но к пустырю подходили другие. И едва распалась первая группа, как тут же рядом возникла новая. Кто-то окликнул Ромаша; тот поднял с земли портфель и подошел поближе. Уланов и юноша остались вдвоем; Уланов курил и чертил носком ботинка по земле; юноша раз-другой провел рукой по прямым волосам, мельком взглянул на Уланова, потом тоже повернулся и ушел.
5.
Через несколько минут на улице, со стороны телеграфа, появился Дэвид Тил. Уланов уже ушел, вторая группа тоже разошлась, но на другой стороне улицы, напротив больницы, образовалась третья. Человек пять-шесть медленно прохаживались по тротуару, останавливались, потом опять принимались ходить взад и вперед. Они были увлечены разговором и не заметили Дэвида, который, в свою очередь, не обратил на них внимания. Но не успел он дойти до пустыря, как кто-то отделился от группы и, окликнув Дэвида, бросился его догонять.
– Ну как, удалось? – спросил Дэвид, повернув к нему голову, но продолжая идти к больнице.
– И да и нет, или, вернее, и нет и да, – сказал человек. Ему, видимо, хотелось остановиться и поговорить, но так как Дэвид шагал дальше, он последовал за ним, шагая немножко боком. – Тот мотор, о котором говорили, не годится – кто-то вынул из него щетки. Но у моего сынишки есть маленький моторчик, в двадцать лошадиных сил, знаете. Я взял его.
– Можно найти и другой, – сказал Дэвид.
– Да он ему не нужен. Потом я связался с Домбровским из циклотронной мастерской. Попозже зайду к нему. Они с радостью… Дэйв! А, черт! Подождите же! Как там сегодня дела?
Дэвид уже начал подниматься по трем ступенькам небольшого крыльца. Сейчас он остановился на средней.
– Не знаю, со вчерашнего вечера ничего не слыхал. Да и вряд ли пока что можно ожидать перемен.
– А как по-вашему, что будет?
Дэвид двинулся дальше. Стук палки о дощатую ступеньку заглушил брошенное им в ответ односложное слово. Поднявшись на крыльцо, Дэвид оглянулся. К небольшой группе на той стороне подошел полковник Хаф; все смотрели на окна больницы; а Дэвид несколько секунд смотрел на них, потом обратился к стоявшему у ступенек человеку:
– Знаете что, – сказал он, – можно взять один из этих больничных подносов на роликах, что передвигаются поперек кровати, и поставить аппарат для чтения прямо на нем. Вы сэкономите время. Во всяком случае, это идея. Вы уже придумали, как управлять аппаратом?
– Это мы сообразим, Дэйв. Но на вас просто лица нет. Шли бы вы домой, выспались бы.
Дэвид кивнул головой, потом повернулся и вошел в больницу.
На той стороне улицы полковник Хаф, следивший глазами за Дэвидом, вдруг умолк и, когда Дэвид исчез за дверью, заговорил снова:
– Все-таки он мог бы остановиться и поговорить с вами. Сегодня утром я с ним беседовал. Он очень потрясен. Всю ночь не сомкнул глаз. Конечно, Луис его самый близкий друг. Конечно, это… а, да что говорить, случай ужасный, сколько времени все шло хорошо, и надо же было…
– Это ведь очень коварный опыт. Меня всегда удивляло, почему… – начал кто-то.
«Солдаты рискуют жизнью, – так говорила жена полковника, – и отлично знают, что идут на риск. А разве ученые – какие-то особенные люди? Почему они не должны рисковать жизнью?»
– Да, – произнес полковник, – опыт коварный. Я-то сам не видел, как он делается, но мы часто об этом говорили. Странно только, что Луис делал его уже далеко не в первый раз…
– Насколько я понимаю, – вмешался один из присутствующих, – опыт мог быть куда менее сложным. Я тоже его никогда не видел. Но не то вчера, не то третьего дня мне говорили, будто Саксл добивался разрешения установить контроль на расстоянии.
– Вы не знаете точно, что там произошло? – спросил другой. – Должен сказать, трудно отделаться от мысли, что если это случилось с ним, значит может случиться с каждым из нас.
Остальные закивали, подтверждая его слова. Полковник покачал головой. Он мало знал своих собеседников. Это были главным образом инженеры и высококвалифицированные техники из электронной лаборатории и механических мастерских. Трое или четверо считались в Лос-Аламосе новичками – иначе говоря, они прибыли сюда уже после войны. Полковник обычно сходился с такими людьми быстрее, чем с физиками, химиками и математиками; мысли их были ему гораздо понятнее, тем более, что они совпадали, вернее, могли бы совпасть с его собственными мыслями, если бы он дал себе труд подумать. Но сейчас он глядел на этих людей с чувством неловкости. Сколько есть такого, чего эти новички не знают и, наверное, никогда не узнают о годах войны, о великих, увлекательнейших временах, о временах сугубой секретности. «Болван», – выругался он про себя, задумчиво глядя в пытливые глаза молодого человека, который спросил, что там произошло.
– Я еще не разобрался, – сказал он, но все глаза были по-прежнему устремлены на него.
Полковник подошел к этим людям с намерением что-то разъяснить, но его встревожили их взгляды – полковник даже забыл, что он сам виноват, что на него не глядели бы так, если б он не уклонился от ответа и сказал бы то, что хотел сказать вначале. Но прежние мысли не то чтоб исчезли, а как бы отступили на задний план перед чем-то другим. А это другое было внезапно пришедшим ему на память эпизодом из книги Кестлера, которую он прочел не так давно. Фашисты сорвали с ее героя одежду, положили его на стол и привязали; один из них подошел и стал медленно протягивать руку с зажженной сигарой к его половым органам. Герой, лишенный всякой возможности сопротивляться, мог отвечать фашисту только взглядом, а тот, смотря ему в глаза, придвигал сигару все ближе и ближе. Но так выразителен был взгляд лежащего, что фашист не выдержал, немой упрек возбудил в нем какое-то человеческое чувство, и он отступил, так и не пустив в ход сигару. Но к чему полковник вспомнил это? Кто и кого укоряет? Мы с Сакслом однажды здорово выпили вдвоем, подумал он; но им этого не понять, в те времена их тут не было.
– Я еще не разобрался, – повторил полковник. – Но Луис вел себя самоотверженно, это мне точно известно, – продолжал он, вспомнив, что хотел сказать. – Вы знаете, что он разбросал кучу голыми руками?
Некоторые знали, другие – нет.
– Остальные должны быть ему благодарны, – пояснил полковник. – Это был геройский поступок.
– Я думал об этом, – сказал кто-то. – Не знаю, есть ли время в такой ситуации совершать геройские поступки. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я преклоняюсь перед Сакслом, хотя почти не знаком с ним, но судя по тому, что я слышал… К тому же, у него необычайно искусные руки. Об этом мне не раз уже рассказывали. Как инженер, я могу это оценить; но руки еще не все.
Остальные что-то пробормотали в знак одобрения. Полковник представил себе Луиса на больничной койке, беспомощного, с руками во льду.
– Ведь это случилось за одну крохотную долю секунды, а чтобы мозг реагировал на внешние импульсы, надо…
– Быть может, это был инстинктивный порыв, – резко перебил полковник, – но такие порывы бывают лишь у людей мужественных. Я наблюдал подобные случаи среди солдат. Иногда опасность возникает так молниеносно, что они не успевают опомниться. И что же – один бросается вперед, другой назад. Да. Оба действуют инстинктивно, но у одного есть мужество, а у другого нет.
Полковник поглядел вдоль улицы, затем на больницу, после чего сказал, что ему пора идти. Он попросил присутствующих, если можно, пока не рассказывать о случившемся никому за пределами Лос-Аламоса и подчеркнул значение официальной информации, учитывающей интересы безопасности и моральное состояние жителей. Не будут ли они добры передать это своим друзьям? – добавил полковник. Он круто, по-военному, повернулся, быстро зашагал через пустырь и вошел в больницу.
Люди медленно побрели по улице.
– Любопытно, могут ли влиять моральные критерии на инстинкты, – немного погодя, сказал один. – По-моему, вряд ли.
– Вы читали, что вчера сказал Трумен? – спросил другой. – Он сказал, что атомная бомба уничтожила национализм и открыла новую, небывалую Эру Духа. Вы что-нибудь понимаете?
– Эй, посмотрите-ка! – воскликнул третий, судя по выговору – англичанин.
– Вперед, навстречу Бикини и новой Эре Духа! – холодно сказал кто-то. Остальные засмеялись.
– Беда в том, что полковник неспособен представить себе миллионную долю секунды, – произнес инженер. – Это очень трудно.
– Да поглядите же туда, говорят вам!
– Что это?
Собеседники в это время поравнялись с дальним крылом больничного здания; посредине его была дверь в подвал, возле нее стоял маленький грузовичок. Два человека сгружали бочонок колотого льда; лед сверкал в лучах солнца, на земле поблескивали упавшие осколки.
– Должно быть, для его рук, – заметил кто-то после паузы. – Очевидно, весь лед уже вышел.
– Бедный малый, – сказал другой. Все зашагали дальше, немного быстрее, чем прежде, и никто больше не произнес ни слова.
В окне палаты, где лежал Луис Саксл, щелкнули планки жалюзи; за ними показалась Бетси Пилчер, глядевшая на пустырь. Там уже не было ни души, все разошлись, и в последующие полчаса на пустыре никто не задерживался, хотя за это время с разных сторон прошло несколько человек; они торопливо пересекали пустырь и исчезали в дверях больницы. Попозже стали появляться жены, вышедшие в центр за покупками, они останавливались у пустыря, смотрели на окна больницы, рассказывали все, что слышали, узнавали, что слышали другие, и сопоставляли сведения, стремясь выведать как можно больше. В полдень и несколько раз в течение дня прохожие опять собирались на улице кучками; люди что-то говорили, потом подолгу молчали и расходились в разные стороны. Некоторые из тех, кто задерживался здесь утром, по дороге на работу, опять задерживались в конце дня, по дороге домой. А перед вечером, когда горы Хемез стали вырисовываться темными силуэтами на фоне заката, на улицу высыпали дети. Бегом и вприпрыжку они мчались через пустырь к пруду немножко поиграть до ужина. Когда на плато легли тени гор, в городе зажглись огни; у пруда на высоком столбе ярко горела голая лампочка, ее желтый свет достигал угловой части больничного здания, и чем больше сгущалась темнота, тем ярче казался этот свет на фоне чернеющих окон. Еще какое-то время с пруда доносились крики расшалившихся ребятишек, а потом, когда совсем угас дневной свет, они бегом и вприпрыжку помчались по улице домой.
6.
Повернув голову направо, Луис мог смотреть в окно, выходящее на пустырь перед больницей. Но даже подтянувшись к изголовью, насколько позволяли лотки со льдом, державшие его руки, словно капканы, Луис не видел пустыря, откуда весь день то и дело доносились невнятные голоса и изредка долетало какое-нибудь отдельное слово. Если планки жалюзи стояли с наклоном вниз, как сейчас, ему были видны верхушки деревьев. Если планки были наклонены наружу, под прямым углом, как утром поставила их Бетси, то на уровне подоконника виднелся тротуар на другой стороне улицы. В промежутках между приходами лаборантки, регулярно бравшей у него кровь, между двумя уколами пенициллина, переливанием крови, бесконечными сменами льда в лотках, несколькими беседами с Дэвидом Тилом, одной с полковником Хафом и многочисленными с врачами, не говоря уже о всяких осмотрах, исследованиях и прочем, – в промежутках Луис провожал глазами вдоль подоконника многих своих друзей, чуть подымая или наклоняя голову, чтобы видеть их ноги. Но сейчас он уже не поворачивал голову и не менял положения, чтобы поглядеть в окно. Лед в лотках, державших его руки, не мог унять боль, которая постепенно поднималась к локтям и выше; еще немного, подумал он, и придется сказать об этом врачам. А тем временем было как-то удобнее лежать на спине и смотреть прямо перед собой или на другое окно в стене напротив. Планки жалюзи на этом окне находили одна на другую, и Луис не видел ничего, кроме желтого света, становившегося все заметнее по мере того, как меркнул день. Луис знал фонарь, светивший в его окно, и мысленно рисовал себе пруд, у которого стоял столб, и играющих ребятишек; ему даже было слышно, как они перекликались.
Луис лежал тихо, не шевелясь. Ему дали снотворного, но спать не хотелось. Он ощущал огромную усталость и вместе с тем гложущую тревогу, он ощущал одно сквозь другое, и сон не приходил. Пока что в лечении не было ничего нового, кроме льда. То же самое они проделывали и с Ноланом, только не обкладывали его льдом. Луису хотелось подумать о мерах, которые принимали врачи, – в тот раз и сейчас.
Желтое сияние пробивалось между планками жалюзи, будто стараясь добраться до койки и окутать все его тело. Свет как бы согревал Луиса. Оба окна были закрыты, но в палате чувствовалась ночная свежесть, и ему становилось как-то легче, когда он смотрел на падавшие в комнату теплые желтые блики. Он закрыл глаза, потом открыл и снова закрыл. Особой разницы не было, он одинаково чувствовал свет и даже одинаково видел его. Он глядел на свет, прислушивался к детским голосам, и ему казалось, что все это когда-то уже было – и такой свет, и такие голоса, но у него не хватало сил припомнить, где и когда это было. Мысли его скользили дальше, память вдруг подсказала слова:
Огню ли мир наш обречен?
Во льду ли сгинет он?
Со мною пламя изберет,
Кто страстью опален.
Дальше он не мог вспомнить и долго лежал, не шевелясь и не напрягая памяти, и только повторял про себя строки стихов, смотрел на свет и слушал детские голоса.
В каньоне темнее, чем здесь, на плато; подумав об этом (и мгновенно забыв о стихах), он по меркнущему дневному свету в правом окне высчитал, что несчастье произошло более суток назад. Надо будет спросить Бетси, где его часы. Он попытался вспомнить, сколько раз его рвало, – кажется, четыре. Хорошего в этом мало. Но температура не повышалась, по крайней мере, с полчаса назад она была нормальной (хотя прошло еще слишком мало времени, и это ровно ничего не значит). А кровь – ему не сказали, что показывают эти бесконечные анализы, а он еще не успел спросить, но обязательно спросит. Он спросит Бетси, когда она придет. И пусть повесит часы так, чтобы он мог их видеть.
– «Лед», – произнес он вслух, – «той же силой наделен, как пламя убивает он». – И хотя Луис сказал это очень тихо, почти шепотом, он тотчас же огляделся по сторонам. Теперь ему во что бы то ни стало захотелось вспомнить эти полузабытые стихи. Дэвид, наверное, знает остальное, сказал он себе. Но тут же решил, что не станет спрашивать; ведь ему попросту досадно, что у него какие-то пробелы в памяти, а чего доброго, его заподозрят в нездоровом интересе к этим мрачным стихам. Он слегка пошевелил левой рукой в лотке со льдом, и боль в предплечье усилилась. А стихи, между тем, отличные. Он попросит Дэвида принести этот сборник, и Бетси прочтет ему вслух.
Немного погодя ему показалось, что кто-то приоткрыл дверь палаты. Он не был в этом уверен, потому что не хотелось поворачивать голову; и все-таки в ярком свете из коридора он ясно увидел лицо, выражающее бесконечную озабоченность; его даже слегка позабавило, что это выражение мгновенно сменилось сияющей, приветливой улыбкой, какая бывает у стюардесс на самолетах и у медицинских сестер. Видеть этого Луис, конечно, не мог, и отсюда он заключил, что, наверное, дремлет, – это его огорчило, потому что он решил не спать. Впрочем, вряд ли он дремал, так как в эту самую секунду до его сознания дошло, что детских голосов не слышно, – должно быть, они умолкли уже несколько времени назад. Ему показалось, что наступившая тишина была такой, словно дети не разошлись, а только притихли – быть может, к чему-то прислушиваясь. Потом он услышал высокий, пронзительный, совсем не детский голос: «Гарри! Гарри! Девять часов, Гарри! Ты слышишь?» Луис не мог определить, откуда шел этот голос, – как будто издалека, из-за пруда, и в то же время как будто из желтого сияния возле самого пруда, из сияния, которое уже просочилось сквозь жалюзи, расплылось по палате и окутало все его тело.
В желтоватом свете он разглядел фигуру Бетси, стоявшей у его кровати. Она протягивала ему банку варенья и говорила:
– «Мы пришли к тебе с дарами». Немножко вздремнули?
– Как другие? – услышал он свой голос.
А Бетси продолжала:
– Толпы людей и днем, и ночью. И чего им нужно? Вы немножко вздремнули?
Но в его ушах еще яснее, еще громче раздался зовущий голос: «Гарри! Девять часов, Гарри! Ты слышишь?»
Луис попробовал было потянуться за банкой варенья, но почувствовал страшную боль в левой руке. Бетси сразу отодвинулась куда-то далеко, словно откатилась на колесиках, улыбка ее потускнела, очертания фигуры стали расплываться. Боль постепенно ослабевала. Повернув голову, Луис взглянул на Бетси еще раз и понял, что она хочет что-то сказать. Но все же она была очень далеко, и он не представлял себе, что она может сказать, так как, несмотря на голос матери, звавшей Гарри, девяти часов еще не было. Он знал – стоит Бетси заговорить, и она скажет какие-то слова, а потом произойдет то, чего ему отчаянно не хочется. Но тут ему пришло в голову, что он может переждать или вовсе избегнуть этого, если будет лежать неподвижно и молчать.
– Девять часов, Гарри!
Даже не глядя в сторону Бетси, он увидел, как она снова приблизилась к нему с банкой варенья. По выражению ее лица он понял: что-то неладно.
– Помнишь тот вечер, когда ты нашел дедушку? – спросила она. – Как я могла допустить – ведь для ребенка это слишком сильное потрясение.
– О, мама, это было так давно, и ничего со мной не случилось, я помню… помню…
Вот такие же вечера…
В такие вечера большие, квадратные, похожие на ящики дома, их нелепые купола и неуклюжие, обсаженные кустами веранды сливались с деревьями темной Лонгфелло-авеню, образуя причудливые расплывчатые силуэты. Деревья ровными как по линейке рядами выстроились по обе стороны улицы на одинаковом расстоянии друг от друга. Те деревья, что выступали вперед, почти соприкасались кронами над мостовой, остальные затеняли тротуары, раскидывались шатром над лужайками перед домами, и сквозь их густую листву светились окна верхних этажей. Свет мерцал между колыхавшимися листьями, и на лужайках играли узорчатые тени. В такие вечера на верандах сидели люди, чуть поскрипывали качели, в темноте светились красные точки сигар и сигарет. Люди негромко разговаривали, курили, порой перекидывались словом с соседями и то и дело поглядывали на середину улицы, где на узкой полоске травы, которая называлась бульваром, играли дети.
Вдоль полоски стояли фонари, по два на квартал; когда совсем темнело, в желтых кругах света, падавших на землю от фонарей, собирались дети. Они топтались, таращили глаза, дразнили друг друга, убегали, садились, вставали, играли в прятки, бросались из светлого круга в темноту, потом с визгом мчались обратно. Голоса играющих детей были самыми громкими звуками на вечерней Лонгфелло-авеню, а в желтых кругах под фонарями сосредоточивалось почти все движение. Изредка попадавшие на эту улицу машины ехали медленно; с веранд на детей то и дело устремлялись зоркие взгляды. Часов около девяти раздавался первый зов: «Гарри! Девять часов, Гарри! Ты слышишь?» И Гарри приходилось идти домой, игры мало-помалу затихали, дети разбредались по домам. А потом целый час на улице не было ни звуков, ни движения, разве только с какой-нибудь веранды донесется негромкий голос да изредка залает собака, хрустнет во дворе гравий под колесами машины, которую ставят в гараж, да послышится звук шагов, заглушенных листвою и темной массой кустов. И наконец веранды пустели, гасли окна сначала в первых этажах, потом наверху, и к полуночи в темноте светились только желтые круги под фонарями и все вокруг замирало совсем.
На бульваре обычно собирались только малыши. У подростков лет двенадцати появлялись уже другие интересы: правда, играть под фонарями они переставали и раньше, потому что здесь, между верандами, можно было играть тоже только в прятки да в пятнашки. Но иногда и подростки выходили на бульвар после ужина. Они стояли, прислонясь к фонарным столбам, присаживались на каменный бордюрчик, огораживающий полоску травы, смеялись и болтали с малышами или ловили их, когда те пробегали мимо, играя в прятки. Сиго, прозванный Капитаном и живший кварталом дальше, изредка появлялся на бульваре даже после того, как ему исполнилось пятнадцать лет. В глазах Луиса, одиннадцатилетнего мальчишки, Капитан был героем; и Капитан, чувствуя это, иногда заговаривал с ним и не очень дразнил. И это было уже много, ибо неизмеримое расстояние отделяет мир ребенка от мира подростка. Но в этот вечер два мира, преодолев разделяющую их даль, почти соприкоснулись. (О, мама, не приходи за мной подольше! О, Капитан…).
В тот вечер его мать сошла с веранды и направилась через улицу, к бульвару. Луис увидел ее издали и удивился – ведь еще не время идти домой, а кроме того, матери никогда не приходили на бульвар, они просто звали. Но мать подошла к нему, и он сказал, что еще рано. Мать ответила что уже почти пора, а кроме того, она собралась проведать дедушку Авраама Саксла и отнести ему банку варенья; она хочет, чтобы Луис пошел с ней.
Несколько месяцев назад дедушка Саксл почувствовал тяжесть в груди, внезапно покрылся потом и тут же ощутил бешеный трепет внутри, и когда трепет утих и ушел доктор, дедушка Саксл сразу превратился из бодрого шестидесятисемилетнего мужчины в старого брюзгу.
Он уже много лет жил один и продолжал жить в одиночестве даже после припадка. Он был еще в состоянии двигаться, вел свое хозяйство сам, возился в разбитом позади дома маленьком садике с виноградной беседкой и даже совершал небольшие прогулки. Мать Луиса навещала его ежедневно, а иногда и по два раза в день и приносила ему провизию, книги и журналы. Обычно она проводила у старика около часу, они вспоминали прошлое и беседовали о семейных делах. Старик не хотел переезжать из своего домика, впрочем, благодаря ей в этом и не было надобности. Она поставила у его кровати телефон и всегда звонила ему по вечерам. Но в этот вечер на звонок никто не откликнулся. Мать повесила трубку и стала звонить еще и еще, но ответа не было. Несколько секунд она молча просидела у телефона, постукивая по столику карандашом. (Папа уехал в Спрингфилд и вернется, примерно, через час, но все-таки…) Ей не хотелось звать никого из соседей; пока незачем, думала она, мельком вспомнив, каким красивым и стройным был Авраам Саксл еще несколько месяцев назад и какие у него были густые белые волосы, – сейчас они уже не кажутся густыми. Вернее всего он заснул… но в конце концов она встала и пошла на бульвар.
Дедушка Авраам Саксл жил за углом, на соседней улице, в домике с неуклюжей верандой, обсаженной кустами. Спальня была на втором этаже, ее круглое окно выходило на крышу веранды. Завернув за угол, они увидели в окне свет и заметили, что окно приоткрыто. Им была видна даже висящая над кроватью большая гравюра в раме, изображавшая летящих уток, но с тротуара они не могли видеть дедушкину кровать, вернее, видели только заостренные столбики и часть стены под гравюрой.
– Пожалуй, лучше зайти, может, ему что-нибудь нужно, – сказала мать. – Должно быть, он задремал, – продолжала она. Только после того, как они завернули за угол, Луис почувствовал, что мать встревожена. – Жаль, что папы нет, – добавила она, и когда они подходили к дому, не сводя глаз с окна, тревога передалась и Луису. Он заметил, что мать раза два украдкой взглянула на него. Пройдя полпути от угла к дому дедушки, она вдруг остановилась, и Луис остановился тоже. Мать обняла его рукой за плечи, и они пошли рядом.
– Дедушке осенью будет шестьдесят восемь, – сказала мать, – не следовало бы старику жить одному, мало ли что может случиться с больным человеком. – Пройдя несколько шагов, она заговорила снова: – Ты, наверное, не помнишь, каким он был красавцем. Он всегда ходил в белых полотняных костюмах, и люди на улице оборачивались ему вслед.
Почти напротив дома стоял фонарь; стекло в нем было наполовину закрашено черным, чтобы свет не бил в окна. Они миновали фонарь и пошли по дорожке к веранде. На этой улице было совсем тихо, здешние дети ходили играть на Лонгфелло-авеню. В соседнем доме было темно, а на верандах других домов не виднелось ни души. Мать окликнула деда вполголоса, но в тишине ее зов прозвучал неожиданно громко.
– Отец, вы не спите?.. Дедушка! – Они немного подождали, потом пошли к веранде, и мать позвонила. Звонок пронзительно задребезжал в доме, они стояли и прислушивались. Мать позвонила еще раз и сразу же застучала в дверь.
– И зачем он только запирается, – сказала она, дергая ручку, дверь была заперта. А Луис в это время стоял чуть позади, глядел на мать и напрягал слух.
– Ты можешь влезть на крышу веранды? – вдруг спросила мать.
– Ясно, могу.
– Да, я знаю. Сколько раз я тебе запрещала, но… ох, милый! – Мать обняла его. – Ну, слушай, – сказала она, – полезай наверх, только будь осторожен, милый, и попробуй окно на лестничной площадке. Оно, наверно, открыто, а если нет, влезь в окно дедушкиной спальни. Пройди через комнату, не останавливайся, не смотри вокруг и не заговаривай с дедушкой, спустись прямо вниз и открой мне дверь. Можешь?
– Ясно, – сказал Луис. Он повернулся к перилам, примыкавшим к столбу возле ступенек веранды; взобравшись на перила, он вскарабкался по столбу, как делал уже не раз, добрался до навеса и, ухватившись за край, подтянулся на руках и влез на крышу.