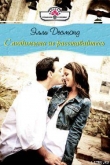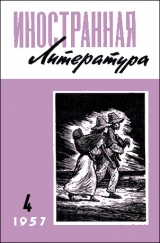
Текст книги "Несчастный случай"
Автор книги: Декстер Мастерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Утро еще не кончилось, когда в коридоре второго этажа, неподалеку от лестницы, один из врачей упомянул о патологе, ожидающем в Санта-Фе.
– Как его – Белл? Как по-вашему, может быть, следует с ним связаться?
– Пока нет, – сказал Берэн. – Пока еще незачем. Педерсон с ним уже виделся. Его фамилия Бийл.
Но потом он еще несколько минут думал об этих своих словах; в сущности, Бийлу больше незачем сидеть в Санте-Фе; пожалуй, все они в некотором роде поддались панике, когда решили держать его там, а теперь уже, пожалуй, все равно – он может перебраться в Лос-Аламос, – только, по совести говоря, никто не желает его здесь видеть. Нет, что касается Бийла, лучше оставить все как есть, пока только возможно, размышлял Берэн. Это куда легче.
Незадолго до полудня Берэн зашел в ординаторскую. Луис спал; все что нужно, было сделано – иначе говоря, сделано все, что во власти врачей. Берэн пришел в больницу в восьмом часу утра, он устал; накануне он ушел отсюда около часу ночи. Но он держался бодро и решительно, как и все остальные. В ординаторской он застал Вислу, – тот стоял у окна, из которого виден был пик Тручас.
– Мистер Висла, – сказал Берэн, – не хотите ли прокатиться?
Висла отвернулся от окна:
– Вот как? Все спокойно?
Берэн пожал плечами. Висла кивнул:
– Что ж, ладно.
– Я пользуюсь машиной Луиса. Может быть, вам неприятно?
Висла посмотрел на него с удивлением.
– Неприятно поехать в машине Луиса? Нет, конечно. – Висла направился к двери, потом остановился и опять посмотрел на Берэна. – Вот что сам Луис не может в ней ездить, это неприятно. Но в этом смысле еще много есть неприятного.
Выходя из больницы, они столкнулись с Улановым и предложили ему тоже поехать. Несколько минут спустя они выехали из главных ворот на дорогу, что вела в долину. На дороге шли работы; там и тут стояли приземистые грузовики, лепясь к самому краю дороги или вжимаясь в темные ниши, высеченные в отвесной стене каньона. Время от времени внизу открывалась долина; потом все опять заслоняли деревья и скалы, и видны были только несколько футов дороги впереди машины. Висла смотрел прямо перед собой, Уланов озирался по сторонам, Берэн не сводил глаз с края дороги.
– Лучше бы мы поехали кружным путем, – сказал Виста.
– Ну нет! – воскликнул Берэн. – Эта дорога очень хороша, просто прелесть.
Потом он заговорил о том, что за странное место Лос-Аламос, своего рода лаборатория, где сталкиваются крайности, силы противоположные и противоречивые: интеллигенты и рабочие, ученые и техники, иностранные ученые и американцы, теоретики и экспериментаторы, и все они более или менее объединены в одном лагере, а все военные – в другом… И притом нельзя не признать, что Лос-Аламос едва ли не крупнейшая и наилучшим образом оборудованная научная лаборатория в мире – и одновременно крупнейшая фабрика оружия, а стало быть, в нем заключен двойной символ: грядущей жизни и смерти человечества.
– Пожалуй, тут-то и можно проверить, не играет ли господь бог людьми… так, знаете, как играют в кости, – сказал в заключение Берэн.
– Все это, конечно, справедливо, – сказал Висла. – Но в ваших последних словах есть и другой смысл, он мне больше по душе. Да это и вернее. В кости играем мы сами. А бог, пожалуй, смотрит… и забавляется? Или, может быть, ему немножко грустно?
– Так или иначе, на этой неделе он был свидетелем скверной игры, – сказал Уланов.
– Верно, – сказал Берэн, – верно. А скажите, правду мне говорили насчет этого совпадения? Что оба несчастных случая пришлись на вторник двадцать первого числа?
– Да, я тоже слышал, – буркнул Висла.
– Куда существенней другое, – со злостью сказал Уланов: – Утром того дня, когда это случилось; Луис поспорил с военным начальством из-за управления опытом на расстоянии.
– Очень может быть, что существенно и то, и другое, – примирительно сказал Берэн. – Я не суеверен и не думаю, чтобы тут были какие-то сверхъестественные причины. А все же иной раз трудно не поддаться суеверию: оно так просто все объясняет. И потом, это может застигнуть вас врасплох, в самую неподходящую минуту, даже если вы человек трезвый и разумный. И тем не менее…
Все надолго замолчали; дорога больше не кружила, она лежала перед, ними, прямая и ровная; Берэн повернул на север, где, на несколько миль выше по течению Рио-Гранде, лежало селение Эспаньола; Висла упорно барабанил пальцами по дверце автомобиля.
– Там вместе с перчатками лежит шоколад, – сказал Берэн. – Хотите?
Висла достал плитку, и все трое принялись за шоколад.
– Что касается меня, то я отдохнул, – сказал Берэн. – Хотите ехать дальше? Или вернемся?
До Эспаньолы было рукой подать. Они проехали по мосту, переброшенному в этом месте через Рио-Гранде, и оказались в Эспаньоле. Близость Лос-Аламоса с его многотысячным населением превратила эту мирную деревушку в нечто вроде большого рынка; тут появились новые лавки и новенькая заправочная станция; станция как раз была открыта и пестрела флажками и рекламами. Берэн подъехал к колонке и запасся пятью галлонами бензина. Потом двинулись в обратный путь.
Милю-другую проехали в молчании.
Ни то, ни другое не существенно, – сказал вдруг Висла. – И все-таки этот трудно объяснимый случай имеет отношение к своего рода суеверию: к секретности и ко всяким мерзостям, которые узаконивает эта самая секретность. Эта почти трогательная вера в спасительную секретность – что она, по-вашему, как не суеверие? Есть ли на свете что-нибудь менее поддающееся засекречиванию, чем закон природы – да еще закон общеизвестный? Вашингтонские конгрессмены твердят: соблюдайте тайну! Я уж и спрашивать перестал, какую тайну. Они не понимают вопроса. Они воображают, что если у нас есть что-то такое, чего нет у других, то это надо держать в секрете, и начисто забывают, откуда мы это «что-то» взяли. Если бы мы поднесли России в подарок одну из наших бомб, через год-другой русские и сами научились бы делать такие же бомбы. А поскольку мы им такого подарка не делаем, у них на это уйдет года три-четыре. Если бы они никогда не видали автомобиля, было бы примерно то же самое – но только при помощи автомобиля не взрывают города. Для кого же мы готовим оружие? Для самих себя – да, конечно, но в такой же мере и для всех своих возможных противников. Со временем – и на это понадобится не так уж много времени – в этих делах все сравняются. Но, понятно, сколько тут ни толкуй, никто не слушает.
– Я слушаю, – сказал Берэн. – Очень интересно. Я еще не слышал этого в такой форме.
– Но что толку во всем винить военные власти, – продолжал Висла. – Военщина так уж устроена, что из всего на свете устраивает игру в разбойники, и это может погубить науку, против чего, между прочим, возражают одни только ученые. Но ведь спорить-то, в конечном счете, приходится не с военными. За ними стоят силы и люди, которые тоже рады затеять игру в разбойники, хотя, надеюсь, не столь опасную. Спор идет с тем настроением или с той блажью, которая требует первым делом и превыше всего держать в секрете любое научное открытие, если его можно как-нибудь использовать в военных целях. Вы только посмотрите вокруг! Куда ни глянь, всюду страх и подозрительность, – может быть, это симптомы какой-то болезни, а может быть, сама болезнь – плод страха и подозрительности. Об этом я судить не берусь. Но секретность – я знаю, что это такое, она всегда там, где что-то неладно. Если вы больны и не желаете знать, как развивается ваш недуг, вы окружаете его таинственностью… в данном случае это – фабрики секретного оружия и секретные кипы секретных бумаг.
– И все равно от смерти не уйдешь, – прибавил он. – Пожалуй, в некоторых случаях смерть наступает еще скорее. Пожалуй, иной раз она наступает от таких причин, что вполне можно было бы вылечиться, если б не секретность. Правильно я говорю, доктор?
– От смерти не уйдешь, – согласился Берэн. – Думаю, что от таких речей обрушились бы колонны в баре Уилларда, а заодно иных членов конгресса хватил бы удар. – Рассуждения Вислы, видимо, и позабавили его и встревожили. – Кстати, а как бы вы с этим боролись? Просто-напросто подарили бы русским бомбу?
Висла расхохотался.
– Эйнштейн предлагал, поскольку у русских нет атомной бомбы, пригласить их для разработки в общих чертах конституции всемирного правительства. Чудак, правда? Совершенно невозможная вещь! Единственное достоинство этой идеи – что она обращается к самой сути дела. Нет, я не собираюсь дарить им бомбу. После такого жеста мы столь же мало доверяли бы друг другу, как и прежде… во всяком случае, не слишком доверяли бы. Но было бы лучше не обманывать себя, пытаясь сохранить от них этот секрет… тем более, что мы не можем его сохранить. Эта секретность – просто суеверие, гораздо хуже, чем суеверие. К великому сожалению, она развращает нас. Неминуемо, во имя иллюзорной безопасности, она ведет нас к слабости, к тому, что мы беремся за скверную, низкопробную работу. Но что хуже всего – нами тоже может овладеть эта мания секретности или дьяволы, ею порожденные, – страх, подозрение, ненависть. Таким способом мы не предотвратим войну и даже не станем сильнее на случай войны.
– И подобно евангельским свиньям, охваченные безумием, сами ринемся навстречу гибели, – сказал Уланов, глядя в окно машины и улыбаясь про себя.
– Очень возможно, – с полной серьезностью согласился Висла. – Но я думаю главным образом о тех, кого Герман Брох называет лунатиками. Все чувства лунатика притуплены, как ни у кого другого, а главное, его движения, как ни у кого другого, окружены таинственностью – верно? Однако, лунатики иногда вполне удачно балансируют над пропастью. – Он громко рассмеялся. – Что ж, может быть, и мы все окажемся удачливыми лунатиками?
Берэн несколько раз кряду задумчиво кивнул, но не сказал ни слова. На губах Уланова застыла ироническая улыбка. Висла опять забарабанил по дверце.
Потом Уланов стал вспоминать первые недели атомной станции и всякие забавные истории. Мимоходом в связи с Луисом он упомянул слово «чистота», и Берэн спросил, что он хочет этим сказать.
– Это очень верно, – сказал Висла.
– Но я имел в виду…
– Сейчас я объясню, – сказал Уланов. – Вот, например, тогда в Чикаго – в сорок втором году, в начале сорок третьего, – было немало мучительных минут. Мучительных в том смысле, что открываешь что-то или делаешь что-то совсем новое, небывалое – и ни слова нельзя об этом сказать. Первая цепная реакция, конечно, была громадным открытием. Но было и множество открытий поменьше. Помню, я и сам думал в те дни, как было бы славно развернуть газету и увидеть жирный заголовок: Для производства атомной бомбы избран район в штате Нью-Мексико, или, скажем: Президент нажимает кнопку, вводя в строй грандиозный хэнфордский завод, или: Состояние клинтонского реактора критическое. Все стало бы гораздо реальнее. Когда работаешь келейно, как-то падаешь духом. А вот Луис не такой. Он, мне кажется, не нуждался ни в славе, ни в гласности. Его не трогало то, о чем я говорю. А для этого нужна какая-то душевная чистота, – ему было все равно, секретная ли у него работа или о ней трубят во всех газетах, его это не волновало… Меня тогда очень поразила его душевная чистота.
– Не так уж удивительно, – сказал Висла. – Таких людей было много. Но это верно, – повторил он.
Берэн уже снова вел машину по крутым поворотам, лавируя среди грузовиков и рабочих, приводящих в порядок дорогу. Наконец впереди открылся прямой отрезок пути перед главным въездом в Лос-Аламос, и тут их стремительно обогнал военный седан. За рулем сидел солдат-шофер, рядом с ним полковник Хаф, а сзади – немолодые мужчина и женщина и хорошенькая темноволосая девушка лет двадцати. Все они обернулись; девушка, явно взволнованная, что-то сказала.
– Вам не кажется, что это… – начал Берэн.
– Ну, да, – прервал Уланов. – Это его родные, они узнали машину.
6.
В больнице царило смятение. Переступив порог, Берэн, Висла и Уланов увидели полковника Хафа: он стоял у подножья лестницы, ведущей во второй этаж, и говорил что-то двум солдатам из военной полиции; он сдерживался и не кричал, но видно было, что он вне себя.
– Кто именно дал вам такой приказ? – услышали вновь прибывшие.
Мистер и миссис Саксл и Либби стояли немного поодаль, тесной кучкой, несчастные и испуганные. Потом на лестнице, позади солдат, появился Дэвид Тил; не обращая на них внимания, он протолкался между ними и подошел к Сакслам. Висла тоже направился к ним; Уланов хотел было последовать его примеру, но передумал.
Разговаривая с солдатами, полковник Хаф тоже поминутно оглядывался на своих подопечных; он, видно, не знал, подойти к ним или оставаться на месте. Но Дэвид и Висла уже вели их к выходу.
– Ладно, – сказал полковник. – А теперь заберите тех, что на втором этаже, и убирайтесь все отсюда к чертям.
– Слушаю, сэр, – сказал один из солдат. Второй отправился наверх.
Родные Луиса прошли мимо Берэна и Уланова. Берэн посмотрел на Дэвида, тот покачал головой. Миссис Саксл держалась за локоть мужа и что-то ему шептала.
– Мы находимся более чем в семи с половиной тысячах футов над уровнем моря, – говорил Висла. – Воздух здесь немного разреженный, но очень чистый.
Он, видимо, обращался к Либби, но не смотрел на нее.
Они вышли на улицу. Полковник Хаф шагнул было вслед за ними остановился, постоял в нерешимости, потом круто повернулся и зашагал по коридору к ординаторской. Перед дверью он опять остановился и оглянулся на солдата, все еще стоявшего внизу, у лестницы. Послышался приглушенный топот ног; трое солдат спустились по лестнице; тот, что стоял внизу, присоединился к ним, все четверо прошагали через больничный вестибюль и скрылись за дверью.
Пока разыгрывалась эта сцена, – впрочем, она заняла минуты две-три, не больше, – Берэн и Уланов молча стояли и смотрели. Но вот Берэн, не взглянув на спутника и ни слова ему не сказав, направился к лестнице, а Уланов так же сосредоточенно двинулся по коридору к ординаторской.
Полковник Говорил по телефону. Он говорил еще несколько минут, а Уланов стоял тут же и слушал. Раза два полковник посмотрел на него в упор, словно хотел дать понять, что незваный гость мог бы и убраться отсюда; но Уланов либо не замечал этих взглядов, либо не желал обращать на них внимание. Из вопросов и реплик Хафа, который разговаривал со своим заместителем, подполковником, выяснилось, что за то время, пока Хаф ездил в Санта-Фе за родными Луиса, в Лос-Аламос звонил генерал Мичем, и подполковник, то ли по крайнему тупоумию, то ли по злой воле, поспешил осуществить идею, переданную генералом на усмотрение полковника Хафа.
– Но ведь это не был приказ? – резко спросил полковник.
– Так значит это не был приказ? – снова сказал он через минуту.
– Болван несчастный, так какого же черта вы не подождали полчаса?
Наконец он положил трубку и опять уставился на Уланова.
– Все тот же конгрессмен? – заметил Уланов.
– А вам-то что? – осведомился полковник.
Уланов достаточно знал Хафа и, понимая, что тот не долго выдержит подобный тон, ничего не ответил.
– Генерал действовал вполне разумно, – сказал, помолчав, полковник. – Беда в том, что ему приходится иметь дело с дураками.
Как выяснилось, генерал не оставил без внимания слова конгрессмена, полагавшего, что, раз Луис настолько серьезно болен, как уверяют врачи, следует по меньшей мере приставить к его палате часовых: а то вдруг он начнет бредить, и вдруг при этом окажутся какие-нибудь непосвященные посетители, и тогда раскроются какие-нибудь атомные тайны… Конгрессмен слышал про случай в Ок-Ридже, где во время войны к больнице пристроили специальный флигель для человека, заболевшего нервным расстройством. Очевидно, конгрессмен сказал генералу, что, по его мнению, теперь национальной безопасности грозит еще более тяжкий удар, принимая во внимание сомнительную деятельность Луиса Саксла в прошлом. Генерал вкратце изложил соображения конгрессмена заместителю полковника Хафа и предложил ему поговорить с полковником; сам он не решался на расстоянии принимать какие-либо решения.
– А как еще он мог поступить? – спросил Хаф. – С его стороны это вполне разумно, – продолжал он. – Но потом этот остолоп берется все решать сам и отдает приказ выставить перед палатой наряд военной полиции, а уже после этого докладывает мне!
– Армейская выучка, – сказал Уланов.
– Ох, и надоели вы мне, было бы вам известно! – сказал полковник. – Армейская выучка, не армейская – не в том суть. Но надо же иметь элементарное уважение к человеку. Представляю, как это должно было подействовать на его родных! Видели вы, какие у них были лица? Элементарное уважение…
И полковник вышел из ординаторской. Он еще поговорит с генералом, но без свидетелей, в тиши своего кабинета.
Опекаемые Дэвидом Тилом, с которым они познакомились еще несколько лет тому назад, и Вислой, который сразу внушил им почтение, родные Луиса вышли из больницы и направились через улицу к «Вигваму», где для них были приготовлены комнаты. Они провели там полчаса, переоделись, постарались прийти в себя и сладить со своими чувствами. Потом вернулись в больницу. Луис уже проснулся; он чувствовал себя не хуже и, опекаемый Берэном, Педерсоном и Бетси, готовился к приему гостей, насколько тут можно было готовиться. Встреча была мучительная – и по самым простым, и по самым сложным причинам. Лотки со льдом, торчащие по обе стороны кровати, мешали двигаться; отец и сестра Луиса не знали, что говорить и как говорить; а мать, которая знала или думала, что знает, умолкла, как только посмотрела внимательней в глаза сыну. Луис поздоровался с родными очень вежливо – трудно найти более подходящее слово. Он пытался пошутить с Либби, но мысли его были так далеко, так пусты и холодны оказались слова, что они резнули ухо, и их отзвук еще несколько минут преследовал всех, кто был в комнате. Луис произносил два-три слова, потом поворачивал голову на подушке и смотрел направо, в окно; потом снова поворачивал голову и смотрел то на одного, то на другого; и что бы он ни сказал, что бы ни сделал, сразу наступало молчание.
Старик Саксл подошел к окну и выглянул наружу, и Луис проводил его взглядом.
– Вечером там очень славно, – сказал Луис. – За углом горит фонарь…
Он не договорил. Снова перевел глаза на мать, и на этот раз взгляд и лицо его немного смягчились. Но секундой позже он уже смотрел сквозь нее или, может быть, вообще не смотрел – просто полулежал с открытыми глазами и сосредоточенно следил за чем-то, что проходило перед его внутренним взором.
Несколько минут спустя явился Чарли Педерсон. Он изо всех сил старался рассеять давящую тишину, говорил оживленно, весело, громче, чем обычно. Потом увел посетителей из палаты. В коридоре ждал Берэн. Он медленно проводил их по коридору, потом вниз по лестнице и, тщательно, но незаметно выбирая слова, сказал им все, что считал своим долгом сказать.
Неподалеку от дверей больницы на улице ждал Дэвид. Берэн как бы сдал ему на руки семейство Саксл, – хотя все это, видимо, происходило без предварительного уговора, – и Дэвид отвел их назад в «Вигвам». Он остался с ними – и вскоре тут, в комнате миссис Саксл, долго сдерживаемые чувства вырвались наружу. Плакали все, даже старик Саксл. Слова лились потоком, и минуты молчания были полны значения, согреты сочувствием и взаимопониманием. Возбужденная этой разрядкой после долгого напряжения, Либби даже развеселилась; она рассказала какую-то забавную историю про Луиса и одну девушку из Джорджтауна и принялась рассказывать другую, но оборвала на полуслове. Веселья как не бывало, забавная история вдруг показалась ужасной. И снова все сидели молча. Потом, один за другим, отец, сестра и мать начали пока что понемногу устраиваться. – разбирать чемоданы, доставать гребни и зубные щетки, развешивать платье. За этим занятием Дэвид их оставил. Но когда он стал спускаться с лестницы, его нагнал Бенджамен Саксл.
– Дэвид, – сказал он, – я хотел бы где-нибудь достать бутылку виски. Это можно? Вас это не очень затруднит?
7.
Из Альбукерка, куда Тереза прилетела самолетом, в Санта-Фе идет автобус. Полет был тяжким испытанием: день выдался ненастный, в Чикаго пришлось долго ждать вылета, а что хуже всего – негде было приклонить голову, спрятать лицо, хоть как-то остаться одной. Приходилось сидеть прямо на своем месте у окна, помнить о соседе, – хотя она тут же забыла, кто сидит с нею рядом, – и, глядя в беспредельность неба, думать думы, от которых не было спасенья. Хорошо хоть, что за ревом моторов никто не слышал ее, когда ночью она несколько раз принималась плакать. Но после восхода солнца она уже не плакала больше. Скоро солнце снова зайдет, уже почти пять часов – как знать, что принесет этот вечер…
Дорога, прямая и ровная, пересекает местность гораздо более скучную и однообразную, чем та, что лежит по другую сторону Санта-Фе; автобус катит все вперед и вперед. Он наполовину пуст. Рядом с Терезой никого нет. Всю ночь она не спала – разве, может быть, какой-нибудь час – и теперь чувствует себя усталой, измученной и грязной. Она уже почти ни о чем не думает, только одна мысль все снова и снова кружит где-то по краю сознания, принимая самые разные обличья; она возникла еще вчера вечером во время телефонного разговора с Дэвидом, и с тех пор не дает покоя. В самом простом своем обличье эта мысль говорит только: письмо в поезде писалось еще до того, как Луиса настигла эта страшная беда, но беда пришла прежде, чем он получил письмо… если только он вообще получил его. И ничего нельзя поделать с этой мыслью в любом ее обличье; она только мучает, а помочь не может. Она кружит в мозгу и то гаснет, то снова вспыхивает, точно огонек, слишком слабый, чтобы осветить что-нибудь, слишком яркий, чтобы не замечать его и отдохнуть.
Тереза сидит совсем прямо, почти не глядя в окно, на землю, которая покоила их мечты и планы, на небо, которое их благословило, – с тех пор не прошло и недели. И вот, наконец, Санта-Фе.
Автобус останавливается в конце улицы, ведущей к гостинице – приземистому розовому зданию в центре города. Тереза берет свой единственный чемодан и быстро идет по улице. Чемодан бьет ее по ногам, и она то и дело спотыкается, но не обращает на это внимания, хотя походка у нее неровная, точно у пьяной. Шофер автобуса, стоя на тротуаре, оборачивается и смотрит ей вслед. Какой-то мальчишка-испанец, совсем еще карапуз, выбежав из дому, с размаху налетает на нее. На улице полно народу, но Тереза, лавируя среди прохожих, обгоняет их, она идет очень быстро, с той сосредоточенной стремительностью, которая заставляет встречных уступать дорогу.
Неделю назад она тоже проезжала через Санта-Фе, по пути в Лос-Аламос и обратно; тогда она только мельком видела город, и его улицы остались ей незнакомы. Она приехала с востока поездом, Луис встретил ее на полустанке Лэйми (и только пять дней назад она уезжала оттуда и видела из окна вагона, как его поглотила темнота). Он провез ее по каким-то узким кривым улочкам, вдоль реки, вокруг собора, потом мимо длинного, низкого деревянного здания с деревянной аркой по фасаду. В этом доме, сказал Луис, есть внутренний дворик – патио, и во дворе – местная контора лос-аламосской атомной станции. Конторой ведает очень милая женщина. Здание это – одно из двух самых старых в Санта-Фе; в ту пору, когда станция в Лос-Аламосе только еще создавалась, здесь бывало много всяких забавных происшествий; сюда он попал, когда впервые приехал из Чикаго; как-то раз…
– Мне кажется, у тебя ресницы стали длиннее, – сказала тут Тереза.
Но она запомнила этот дом, и это было очень важно, ведь иначе ей и в голову бы не пришло, что у лос-аламосской станции есть в Санта-Фе контора.
Перед гостиницей она останавливается и опускает чемодан на землю. Какой-то человек стоит в дверях гостиницы, курит и лениво посматривает по сторонам. Тереза подходит к нему, описывает здание, которое ей нужно, и спрашивает, как его найти.
– Я и сам приезжий, – говорит ей этот человек, – но это здание я знаю. – И он объясняет ей, как пройти. Потом поворачивается и тоже смотрит ей вслед.
Идти недалеко, всего полтора квартала от гостиницы. Тереза узнает дом с первого взгляда. В нем разместилось множество всяких магазинов и контор; замедлив шаг, она проходит под аркой, смотрит на вывески; тут и книжный магазин, и контора адвоката, и картинная галерея, и еще что-то, а у самого входа в патио скромная табличка, которой она сразу не заметила: «Лос-аламосская научная лаборатория».
В патио оказалось еще много других магазинов и учреждений; Тереза минует их; та дверь, что ей нужна, в самом дальнем конце. Тереза входит, женщина с седыми волосами и молодым лицом поднимает голову и смотрит на нее, и двое мужчин, сидящих на скамье за перегородкой, разделяющей комнату на-двое, тоже смотрят на нее. Не выпуская из рук чемодана, она подходит к седой женщине.
– Меня зовут Тереза Сэвидж, – говорит она. – Я еду в Лос-Аламос, к другу. Как мне добраться туда поскорее?
– Вам уже приготовили разрешение на въезд?
– Не знаю.
– А ваш друг знает, что вы приезжаете?
– Не знаю… да, он знает.
– Вы не знаете, приготовил ли он для вас гостевой пропуск?
– Не знаю. Должно быть, пропуск заказан. Вероятно, заказан. Да, наверно. С ним случилось несчастье. Как мне добраться туда поскорее?
– Как зовут вашего друга?
– Луис Саксл.
– А-а, – говорит седая женщина. – Понимаю.
– Как добраться туда поскорее?
– Поставьте, пожалуйста, чемодан и присядьте, я сейчас же позвоню…
– Как добраться туда поскорее?
– Прошу вас, сейчас я…
– Как добраться туда поскорее?
Седая женщина вскочила со стула, и мужчины, сидевшие на скамье, тоже вскочили. Но Тереза, хоть и покачнулась и сделала неверный, падающий шаг вперед, не лишилась чувств. Она поставила чемодан на пол и склонилась на стол, за которым работала седая женщина. Подняла руку и схватилась за волосы, потом резко вскинула голову.
– Простите, – говорит она, – простите меня, пожалуйста. Я непременно хочу попасть туда как можно скорее. Я только вчера вечером узнала.
Выйдя из-за стола, седая женщина обнимает Терезу за плечи. Она говорит какие-то ласковые, успокаивающие слова, велит мужчинам принести воды, кофе, усаживает Терезу на стул. Она похлопывает Терезу по колену и машинально, сама того не замечая, пытается разгладить какие-то складки на ее костюме, измявшемся в дороге. Один из мужчин приносит чашку воды; седая женщина смотрит, как Тереза пьет воду, говорит еще какие-то ободряющие слова, потом возвращается за свой стол и звонит в Лос-Аламос.
Оказывается, Дэвид Тил давно уже приготовил Терезе пропуск, который ждет ее у въезда в Лос-Аламос.
– Кто-нибудь должен был нас предупредить, – холодно говорит седая женщина. – Не обязательно вы. Но кто-то должен был предупредить.
И она вешает трубку.
С минуты на минуту, говорит она Терезе, из поездки в Лос-Аламос вернется служебный автомобиль, и она сейчас же отправит его обратно – отвезти Терезу. Минуты через три в дверях появляется шофер в военной форме. Седая женщина объясняет ему, что надо снова ехать; он пожимает плечами, берет чемодан Терезы и распахивает перед нею дверь. Он пропускает Терезу вперед, выразительно подмигивает одному из мужчин, оставшихся в конторе, и идет за нею. Седая женщина подходит к небольшой таблице, приколотой к стене над столом; это роспись рейсов, совершаемых служебными машинами, в ней имеются графы, куда заносятся номер машины и водителя, время, за какое сделан рейс, по чьему распоряжению и фамилия пассажира. Последняя запись гласит: «Доктор Гэлен Бийл». Ниже седая женщина вписывает новое имя: «Мисс Тереза Сэвидж». Человек, уходивший за кофе, возвращается.
– Вот кофе, – говорит он.
– Дайте, я выпью, – отвечает седая женщина.
В машине Тереза закуривает сигарету, снимает туфли и шевелит затекшими пальцами, расправляет чулки и разглядывает помятую юбку. На протяжении первых миль пути солдат-водитель пробует, завязать с нею разговор. Немного погодя Тереза открывает сумочку, достает губную помаду, пудру, расческу. Следующие несколько миль она приводит себя в порядок, а солдат, косясь в шоферское зеркальце, незаметно следит за нею. За мостом через Рио-Гранде дорога взбирается в гору, и тут завязывается недолгий разговор. Солдату случалось возить в Лос-Аламос и обратно разных знаменитых людей, и он упоминает некоторые громкие имена. Самое большое впечатление произвел на него Оппенгеймер: у этого Оппенгеймера глаза такие, – сказал он, – как поглядит, точно штык в тебя всадит, так душа в пятки и покатится. Сразу видно – умен, как черт, но притом славный малый, это все говорят – и он, шофер, тоже ничего другого сказать не может.
– А только не хотел бы я быть в его шкуре, – прибавляет он.
– Почему?
– Потому что я предпочитаю спать по ночам. Не хотел бы я ни с кем из них поменяться.
– А, понимаю. Вы на фронте не были?
– Был. Повидал кое-чего.
– И, вероятно, спали по ночам после того, что вам приходилось там делать?
– Ну, да, понятно. Но только это все-таки разница – убьешь за раз одного или, скажем, тысячу, или сто тысяч. Хотя не в том дело. Дело вот в чем: что у них там за штука такая в руках? Или, может, они уже выпустили ее из рук?
«Тереза досадливо морщится и меняет позу – усаживается боком, наполовину отвернувшись от шофера. К ней пришло, было, второе дыхание, немного ослабело напряжение, державшее ее точно в тисках всю прошлую ночь и весь день, а теперь, видно, все начинается сызнова.
– Вам бы следовало побеседовать с кем-нибудь из них, тогда бы вы лучше понимали, о чем говорите, – произносит она и чувствует, что слова ее нелепы. Но ей все равно.
– Да я с вами не с первой говорю. А тут еще я прочёл в газете, совсем недавно, как один заявил, будто есть один шанс на черт-те сколько, на триллион, что ли, что эти самые бомбы на Бикини могут весь мир разнести в клочья. И я подумал, шанс такой, что вроде и не опасно. А потом думаю – да откуда они вообще взялись, эти шансы? Кто этим делом заправляет? Тут поневоле задумаешься – а знает ли, вообще кто-нибудь, куда это все ведет и чем кончится, а не только – с чего началось?
Солдат говорит вежливо, но есть в его тоне какая-то ехидная, въедливая нотка, – от нее ноют зубы, как от царапанья по стеклу; Терезу это все сильней выводит из себя, но она не знает, что сказать. А солдат потешается: из всех способов развлечься, рассеять скуку нескончаемых рейсов, самый лучший; какой он только мог придумать, – это изводить пассажиров подобными разговорами; он уже здорово наловчился. Чего только тут не услышишь в ответ!
– Вроде, как нам в школе говорили про того парня, что открыл людям огонь, а боги за это привязали его к скале, и стервятники с тех пор клюют него печенку. Может, некоторые вещи вовсе и не полагается открывать. Может…