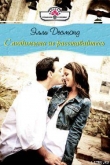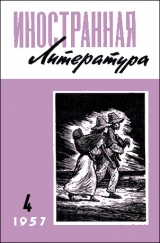
Текст книги "Несчастный случай"
Автор книги: Декстер Мастерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
– Честное слово? – обернулась к нему Бетси, отходя от окна. – Это вы насчет Дэвида Тила? Вы думаете, я к нему неравнодушна? Ничего подобного. Он нравится всем. Я отношусь к нему так же, как все.
– Нет, я не о том, – сказал Луис.
Он уверил Бетси, что и не думал подозревать ее в чем-нибудь таком. Он заставил ее снова посмотреть в окно – не разглядит ли она, кто сидит на террасе с девушкой. Разговаривать ему не хотелось, он предпочитал слушать ее болтовню, а главное, ему хотелось, чтобы она подольше оставалась в палате. Как выглядит человек на террасе?
– Волосы у него, как у музыканта. Они ведь все отпускают себе гриву. Я знаю его фамилию, погодите, я еще вспомню. Оба одеты для верховой езды. Очевидно, он собирается показать своей девушке красоты Запада.
«Советую вам проехать миль восемь по западной дороге в направлении Валле-Гранде, – сказал про себя Луис, – а потом свернуть на тропу к югу и проехать еще миль шесть-семь. Дорога трудная, но красивая, она приведет вас к подножью Собора св. Петра, там хорошо полежать с девушкой на солнце».
«Тереза, – подумал он, – получила ли ты телеграмму?»
– Вейгерт, – сказала Бетси. – Вспомнила его фамилию.
6.
– Хочешь, выпьем еще кофе, – говорил Вейгерт своей подруге, – а после пойдем возьмем лошадей. Или пойдем сразу?
– Как хочешь, Сидней, – ответила девушка.
– Ну, а тебе как хочется? – Он взглянул на нее почти с досадой, но тут же перевел взгляд на Педерсона и Тила, которые медленно шли по лужайке. И невольно он поднял глаза на окно палаты Луиса Саксла.
– Ах, Сидней, решай сам.
– Сара… – начал он, но сразу же умолк. Через секунду он поднял руку, чтобы привлечь внимание официанта, убиравшего со стола, где недавно сидели Висла и Берэн.
– Давай выпьем еще кофе, – сказал он.
Педерсон, очень медленно ступая по траве, что-то говорил Дэвиду Тилу, а тот, заложив руки за спину, с палкой под мышкой, слушал его с сосредоточенным видом.
– У меня это как-то выскочило из памяти, – говорил Педерсон, – помню, что вас долго здесь не было, но я совсем забыл, что вы уехали на другой день после того, как это случилось. Теперь вспомнил – вы уезжали в Японию.
– Должен был поехать Луис, – сказал Дэвид. – Мне пришлось его заменить.
– Теперь вспомнил. Он отказался из-за Нолана. Странно, что я не подумал об этом.
– О чем? – спросил Дэвид.
– О том, что с Ноланом это случилось за день до того, как он должен был ехать в Японию, а с Луисом – накануне его отъезда на Бикини.
– Ну, бросьте об этом думать, – сказал Дэвид. – Думайте лучше о своей медицине.
– Я, собственно, хотел сказать, что если бы вы в свое время наблюдали Нолана изо дня в день, вы бы заметили разницу в картине болезни. Желудочно-кишечная стадия этой болезни, как вам известно, является довольно точным показателем степени ее серьезности. Вряд ли вы от меня услышите что-то новое, вы знаете больше, чем я, – достаточно насмотрелись в Японии, и вообще знаете… Но я наблюдал Нолана с первого же дня, и, к сожалению, Луис тоже, а ведь анализы показывают еще не все. Уже на второй день Нолан был еле жив от рвоты и слабости. Он едва мог шевельнуть пальцем. А Луис вчера вечером сидел в кровати и чувствовал себя неплохо. Первая стадия у Луиса длилась меньше одного дня. Это хороший признак, Дэйв, безусловно хороший признак.
Дэвид быстро вскинул голову и тотчас же опять опустил ее, словно кивнув. Он ничего не ответил Педерсону. Оба все так же медленно шли по лужайке.
– А кроме того, – продолжал Педерсон, – это может означать, что его спасли либо поза, в которой он стоял, либо какой-то предмет – словом, область живота оказалась защищенной. – Он произнес последние слова с такой интонацией, которая превратила их как бы в осторожный вопрос.
– Что ж, остается только ждать – время покажет, – быстро сказал Дэвид. – Сейчас невозможно в точности восстановить обстановку. К тому, что я говорил вчера, я ничего не могу добавить. И никто не может.
– Да, – вздохнул Педерсон. – Во всяком случае, я уверен, что живот у него не был затронут так сильно, как у Нолана. Вы видели снимки, но по ним трудно себе представить, как это скверно выглядело, когда кожа стала мокнуть. Живот – это важный показатель. Знаете, вчера вечером, придя домой, я первым долгом прочел отчеты об опытах Берэна над кроликами. Я рад, что он здесь, он в этом деле кое-что понимает. Так вот, он обнаружил, что кролики могут выдержать чуть ли не двойную дозу облучения, если не затронута область живота.
– А когда кожа у Нолана… – начал Дэвид.
– Стала мокнуть? Примерно, на…
– Нет. Когда показалась эритема?
– На третий день, – сказал Педерсон. – Вот что, по-моему, погубило Нолана – сильное облучение живота. И я просто уверен… впрочем, вы правы, время покажет.
Несколько шагов они прошли молча, потом Педерсон заговорил снова.
– Нельзя даже сравнивать их физическое состояние. Нолан не отличался крепким здоровьем. У него было неважное сердце, фунтов пятнадцать лишних весу, ну и еще кое-что. Судя по анамнезу, у него однажды был приступ тахикардии и пульс доходил до 250 в минуту, но я замечал и другие, хоть и временные неполадки. Они мешали организму сопротивляться, они повышали его восприимчивость. У Луиса же превосходное здоровье. Это крепыш каких мало, вес абсолютно нормальный, даже чуть ниже нормы, и никаких следов неблагополучия в организме.
Педерсон покачал головой. Он переложил пачку книг и журналов под другую руку, уронил одну книгу, поднял ее и двинулся дальше.
– Я не хуже вас понимаю, что все это, вероятно, ровно ничего не значит. Но все-таки это может дать ему некоторые преимущества – на большее я не рассчитываю. Впрочем, есть и другие обстоятельства.
– В Японии было страшное смятение, – сказал Дэвид. – Никто толком не наблюдал людей, которые там умирали. Да и о тех, кто выжил, мы мало что знаем. Вам это должно быть известно.
Он опять взглянул на Педерсона.
– А какие же другие обстоятельства?
– Вы можете прояснить для нас одну сторону дела, и, пожалуй, это будет ответом на все вопросы, – произнес Педерсон. – Вы исчисляете примерную дозу облучения, и она получается у вас огромной… я знаю, вы еще не пришли к окончательным результатам. Допускаю, что вы и не сможете вычислить точно. Но, наверное, у вас уже сложилось какое-то представление.
Дэвид ничего не ответил.
– Разве не так?
– Все это очень сложно. Не переоценивайте наши знания.
– Пожалуй, я не очень стремлюсь узнать ваши соображения. Я знаю, доза достаточно велика. И знаю, в чем сложности. Например, в радиоактивности сывороточного натрия крови. Если вы на этом основываете дозу нейтронов, то вряд ли можете быть уверены в правильности полученных результатов.
Дэвид вытащил трость из-под мышки. Опираясь на нее, он зашагал чуть быстрее.
– Вы говорили об этом вчера вечером, – сказал он. – Но, по-моему, не стоит делать на это упор.
– Да, я видел, что это ни на кого не произвело впечатления, но никто не объяснил, почему. Хотя Герцог, мне кажется, призадумался. Вот вам факт: как утверждают физики, содержание натрия в сыворотке крови при повышении радиоактивности кровяного фосфора увеличится в девяносто раз, а у Луиса содержание натрия в сыворотке крови увеличилось в пять раз, меньше шести, во всяком случае, – и все вы говорите, что это ничего не значит. Если один так называемый факт ничего не доказывает, так, может, докажут другие. Можно ли надеяться хоть на это?
– Нельзя надеяться хоть на это, – резко сказал Дэвид. Он поднял палку и стал вертеть ею в воздухе. – Бросьте, Чарли, не пытайтесь быть физиком. Отношение нейтронов фосфора к нейтронам натрия представляет интерес при попытках определить дозу, но оно не является решающим. И это ни на кого не произвело впечатления лишь потому, что не поможет Луису выкарабкаться, как вы надеетесь. Это просто трата времени.
– Я должен знать, с чем имею дело, – упрямо заявил Педерсон.
– Вы только что сказали, что не стремитесь знать, с чем имеете дело, – возразил Дэвид, и тон его снова стал терпеливым. – Разумеется, тут сплошные дебри. Все мы знаем так мало, что сами теряемся. Вы же теряетесь потому, что сошли со своего пути, вы шарахаетесь в сторону, ища оснований для надежды, вместо того чтобы искать способов лечения. Необходимо найти способ лечения, а что я делаю и как я делаю, увы, не имеет к этому никакого отношения. О каких еще других обстоятельствах вы говорили?
Педерсон остановился и резко повернулся к Дэвиду.
– Дейв, я ничего не могу сказать, пока вы мне не ответите на один вопрос. Есть ли какие-нибудь основания надеяться?
Сидней Вейгерт следил за ними с террасы, а его подруга молчала, не переставая вертеть на блюдце чашку с кофе. Берэн и Висла только что исчезли за дверью больницы. В окне Луиса Саксла за приоткрытыми планками жалюзи белел халат Бетси. По улицам в разных направлениях шли немногочисленные прохожие, большинство мужчин было на работе, а жены их еще не выходили за покупками. В воздухе уже чувствовался зной. Два маленьких мальчика прокатили мимо на самокатах.
– Эй, Чарли! – крикнул один из них.
Педерсон рассеянно помахал рукой, не отрывая глаз от лица Тила.
– Нет, – сказал Дэвид, – никаких оснований надеяться нет. Никаких! Но разве нужны основания? Сначала вы сказали, что у вас есть мысли насчет того, как ему помочь. Что ж, теперь вы откажете ему в помощи? У нас есть основания быть терпеливыми. Вы сами назвали их. Разве этого мало? Когда рушатся надежды, надо поддерживать в себе терпенье. Разве этого мало?
– Дэйв… – начал Педерсон.
Но Дэвид уже шел дальше. Он шагал быстро, сгорбившись от усилий и наклоняясь всем телом вперед, с таким видом, будто покончил с Педерсоном навсегда. Педерсон бросился за ним и догнал его на середине мостовой.
– Дэйв! – настойчиво окликнул Педерсон.
– Если можете придумать что-нибудь, чтобы дважды два не было четыре, сосредоточьте на этом все силы, – пробормотал Дэвид.
– Что вы сказали?
– Мне не нравятся ваши вопросы, это неправильные вопросы, – со злостью ответил Дэвид. И как-то совсем по-детски надув губы, он отвернулся от Педерсона и стал смотреть вдоль улицы, идущей к центру города. На тротуаре, шагах в ста, стояла девушка с телеграфа; на ней было то же цветастое платье, что и вчера. Быть может, Дэвид повернул голову в эту сторону потому, что еще на ходу увидел девушку, но вряд ли – он сейчас же быстро отвернулся и, по-видимому, даже не успел заметить, что она направилась к нему.
Педерсон, который сначала растерялся, а потом обиделся, ничего не заметил. Он тоже отвернулся, но в другую сторону. Оба остановились, как щенки, которые затеяли возню и вдруг замерли, не помня или не зная, что теперь нужно делать.
– Беда в том, что вы стараетесь думать за меня, а я – за вас, – немного погодя сказал Дэвид. – Если Луис умрет, значит он получил смертельную дозу облучения, которую вычислят физики, а если выживет, то, быть может, потому, что врачи что-то придумали.
Они молча поглядели друг на друга и снова пошли к больнице, так же медленно, как и прежде.
– Я все еще не знаю, как сильно было облучение, – опять заговорил Дэвид. – Знаю только приблизительно, как и Луис, как, вероятно, и все остальные, и, разумеется, доза очень велика. Но сколько ни говори, разве это, что-нибудь изменит? Вас интересует, как она велика? То есть, вы хотите знать, есть ли основание надеяться или же – какой же другой путь? – все бросить и разойтись по домам? Какой величины эта большая доза? Иначе говоря, когда большая доза становится смертельной? Основания для надежды – наше невежество, и я напрасно сказал, что нет никаких оснований. Вот вам первое. Не надо недооценивать наше невежество. Какова смертельная доза общего ионизирующего облучения? Шестьсот рентгенных эквивалентов, – так стали писать с начала нынешнего года. Прежде об этом не писали. Знаете, я был на одном заседании, где пытались определить уровень смертельного облучения, просто чтобы создать хоть какой-то порядок из полного хаоса. Подсчеты колебались от четырехсот до двух тысяч рентгенных эквивалентов. Все говорили наугад, и это после Нагасаки и Хиросимы! Мы и до сих пор гадаем. Шестьсот – это цифра, принятая на одном таком заседании, и возможно, она была тоже названа наугад кем-то, кто торопился на поезд и не испытывал благоговения перед бессмысленными цифрами. Надеюсь, мы еще долго будем гадать. Трудность в том, что все данные, которыми мы располагаем, основаны на опытах с мышами, собаками и кроликами. Эти данные весьма многочисленны, причем получены они в условиях строгого лабораторного контроля. Но эти данные не совсем применимы к людям. Они ведут к упрощению и догадкам. Надеюсь, эта трудность тоже будет существовать еще долго.
– Я вам не рассказывал о профессоре Танаки? Это японский физик, маленький человечек с большим достоинством. Я познакомился с ним в Токио, в штабе Макартура. Он приезжал туда поделиться наблюдениями над случаями лучевой болезни в Хиросиме. В его докладе было много полезного, а после обсуждения он немножко рассказал о том, как он в свое время учился в Калифорнийском университете, как он там ставил опыты с рентгеновскими лучами на крысах. Разве я вам никогда не рассказывал? Ну, поговорили мы о его работе, а потом он знаете что сказал? «Я, говорит, ставил эти опыты много лет назад, – а голос у него был мягкий, но очень отчетливый. – И, конечно, только на крысах. Но вы, американцы, просто молодцы, вы делаете опыты на людях». Нас было несколько человек, и все молчали. Никто не нашелся, что ответить. Он сделал маленькую паузу перед словами «на людях». «Вы делаете опыты… на людях», – сказал он.
– Можно вас на минутку?
Дэвид обернулся. Рядом стояла девушка с телеграфа. Ни Дэвид, ни Педерсон не заметили, как она подошла. Оба остановились, глядя на девушку. Но она смотрела только на Дэвида и молча ждала.
– Да, пожалуйста, – ответил Дэвид и слегка наклонился вперед, опираясь на палку.
Девушка сейчас же повернула обратно, прошла восемь-девять шагов по улице и остановилась спиной к лужайке. Педерсон с нескрываемым любопытством глядел то на Дэвида, то на нее. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Дэвид уже пошел вслед за девушкой.
– Ваша телеграмма не передана, – сказала она, как только он поравнялся с нею. – Вы это знаете?
– Нет, я не знал.
– Это запрещено приказом.
– От кого вы получили приказ?
– От полковника – как его… словом, от полковника. Я могу послать ее из Санта-Фе, если хотите.
Дэвид ничего не ответил. Сначала он смотрел ей прямо в лицо, но тут вдруг опустил глаза в землю.
– Хотите?
– Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, – сказал Дэвид, не подымая глаз, он был смущен неискренностью своего тона.
– Какие могут быть неприятности! Я отправлю ее из Санта-Фе.
– Да, но вдруг это когда-нибудь всплывет наружу, – сказал Дэвид, подняв глаза. – Хотя… вы можете сказать, что я просил вас отправить телеграмму. Или даже велел. Вы скажете, что я велел?
– Кому я скажу? – удивилась девушка.
– Тому, кто вас об этом спросит. Не сейчас – потом, конечно.
– Но никто… – начала она и после довольно долгой паузы улыбнулась Дэвиду и докончила: – Хорошо, я скажу, что вы велели.
И так же внезапно, как прежде, она повернулась и пошла дальше.
– Спасибо, – крикнул Дэвид ей вслед.
Девушка, полуобернувшись, что-то сказала, но Дэвид не расслышал слов. Он постоял, провожая ее глазами, потом вернулся к ожидавшему его Педерсону, и они опять зашагали рядом.
– Это ваша приятельница? – спросил Педерсон.
– Нет. Хотя, пожалуй, да. Но я с ней почти незнаком.
– Я много о ней слышал.
– Вот как? Значит, она – личность известная?
– Да, среди солдат. Они ее хорошо знают, – немного принужденно и неуверенно сказал Педерсон.
Дэвид искоса взглянул на него и усмехнулся, вдруг увидев типичного массачусетского обывателя, проступившего сквозь облик доктора Педерсона. Но у Дэвида не было ни малейшего желания допытываться у явно колебавшегося Педерсона, что он хотел этим сказать. Дэвид ощущал легкую, тихую радость – так радуешься какой-нибудь личной победе или удаче друга – и настолько ушел в себя, что у Педерсона пропала всякая охота продолжать разговор. Молча они дошли до ступенек перед дверью больницы, и тут Дэвид как бы очнулся, в голове его мелькнула мысль о полковнике Хафе, потом он снова вспомнил о профессоре Танаки.
– Но даже иронизируя, надо признать, что опыт оказался неудачным, – сказал он. – Даже с точки зрения страшной иронии профессора Танаки этот опыт неудачен. Мы убили сто тысяч подопытных человеческих существ, но вместе с ними и врачей, которые могли бы чему-то поучиться. Почти все умерли среди щебня и пепла, без всякого ухода. А мы всем, что нам известно, по-прежнему обязаны только кроликам да крысам.
Педерсон, неприятно пораженный этими словами, не знал, что ответить.
– Знаете, почему здесь так много врачей? – продолжал Дэвид, быстро взбираясь по ступенькам. – Берэн, Кан, Джером Вудвол и прочие? Их почти столько же, сколько было во всей Хиросиме. Какой материал для профессора Танаки! А почему? Разве эти семеро стоят сотни тысяч погибших в Японии? Даже принимая во внимание, что это высокоавторитетные специалисты по сложнейшему эксперименту, который определил критическое количество расщепляемого материала для бомбы, убившей сто тысяч человек? Тут тоже ирония! Но это ли расшевелило армию, вынудило заказывать экстренные самолеты и срочные междугородные разговоры – приезжайте, мол, немедленно, время и деньги не играют роли. А может быть, потому, что все семеро такие уж выдающиеся люди, а один из них – самый замечательный человек на свете, и к тому же первоклассный физик? Ничего подобного! Все это для армии не имеет значения, и таких людей на свете немало. Никакие семеро не стоят сотни тысяч, но дело в том, что они представляют собой первый в истории поддающийся учету и наблюдению случай острого лучевого заболевания, причем во всех его стадиях, что очень удобно: от сильного до самого пустякового облучения. Нолан умер среди полной неразберихи. Счетчики и измерители не работали, когда он уронил эту несчастную отвертку, в лаборатории никого в это время не было, и мы могли полагаться только на свои догадки да на бога. А что до японцев – ведь те, кто знал, что произошло, там и не показывались!
Остановившись на верхней ступеньке, Дэвид толкнул дверь концом палки и устремил на Педерсона исполненный невыразимой горечи взгляд.
– Но какой обширный комплект кривых, графиков и анализов мы получим благодаря Луису! Как мы обогатим медицинскую литературу! Как внимательна армия ко всем нуждам и мелочам – теперь!
Педерсон был ошеломлен. Он чувствовал иронию и горечь этих слов, но не мог разделять ни того, ни другого; подобные мысли никогда не приходили ему в голову, и он даже растерялся, обнаружив, что может быть и такая точка зрения. Если б это говорил не Дэвид, а кто-нибудь другой, такая горечь, быть может, вызвала бы в нем только раздражение, но так как это был Дэвид, то Педерсон просто из уважения перестал вслушиваться в его слова – так человек старается не замечать недостойный или некрасивый поступок друга, выставляющий его в ложном свете. Последних слов Дэвида Педерсон почти не слышал. Он уже не мог сосредоточиться на том, что минуту назад казалось ему столь важным. В окне мелькал белый халат Бетси; Педерсон заметил его еще раньше, когда Дэвид разговаривал с девушкой из телеграфной конторы, и, уже не слушая Дэвида, думал, что Бетси, наверное, опять притащила какое-нибудь дурацкое варенье, которого Луис не может есть, или какую-то другую ерунду и старается его утешить или всячески дает ему понять, что она преклоняется перед ним; и вообще, ведет себя так, будто она его мать или любовница.
Следуя друг за другом, Дэвид и Педерсон вошли в больницу.
На террасе Сидней Вейгерт наклонился вперед, положив локти на стол, и слегка опустил голову. Он что-то говорил девушке, а та, выпрямившись на стуле и сложив руки на коленях, вся обратилась в слух, хотя взгляд ее временами устремлялся через улицу, на больницу, на дверь и окна. В том окне, на которое ей указали, все еще белел халат медицинской сестры. Немного погодя девушка опять посмотрела на окно, но халат уже исчез.
7.
По улице, со стороны городского центра, четкой походкой шел полковник Хаф; позади, на расстоянии почти целого квартала, из дверей кафетерия вышел Джордж Уланов с маленькой черноволосой женщиной. Уланов окинул взглядом улицу и заметил Хафа.
– Эй, Хаф! – крикнул он.
Полковник остановился.
Уланов нагнулся, поцеловал женщину, потрепал ее по бедру и еще раз поцеловал, затем, сказав что-то, от чего она рассмеялась, побежал по улице к полковнику, который глядел на него с явным неодобрением.
– Было бы лучше во всех отношениях, если б вы носили военную форму, – заметил полковник.
– Что ж, устройте это, – запыхавшись, сказал Уланов. – Может, наконец, пригодилась бы моя… – он перевел дух, – военная подготовка. А вообще говоря… – еще один вздох, – лучше всего было бы развязаться и с этим объектом и со всеми, кто носит военную форму.
– Мне и подумать страшно, что было бы, если б…
– Ну и не думайте. А я хочу пожаловаться вам на плиту.
– Вы уже жаловались на плиту.
– Слушайте, генерал, – произнес Уланов, беря Хафа под руку и таща его вперед. – Вы не представляете, до чего продымила плита всю нашу квартиру. Вы посылаете меня в жилищное управление, которое тоже этого не представляет. Тем не менее, они прислали вчера другую плиту; как они уверяют, более усовершенствованную. Эта другая со вчерашнего дня торчала у моих дверей. Служащие управления обещали установить ее сегодня утром. Но утром они пришли и унесли ее обратно! Говорят – приказ! А в доме нельзя продохнуть. Мы с женой вынуждены ходить в кафетерий! Будь оно все трижды проклято, что же дальше? Ce n’est pas la guerre[6]6
Сейчас ведь не война (франц.).
[Закрыть]. А вы говорите – военная форма!
– Надо было пойти в «Вигвам», – сказал полковник. – Там приятно посидеть в такое чудное утро. Ступайте опять в жилищное управление. Приношу свои извинения вашей супруге, но эта проблема мне не кажется неразрешимой. Боже мой…
– Да, конечно, – сказал Уланов, выпуская руку полковника. – И еще одно дело, уже другого рода. Вчера вечером я встретился с неким конгрессменом…
– Вот как? – не без удивления сказал полковник. – С тем самым, из палаты представителей, который…
– Он остановился в «Вигваме». Приехал только вчера.
– Ну да, тот самый. И уже успел повидаться с вами! Где?
– Я встретил эту достойную личность в полночь, в безвоздушном пространстве. Нет, кроме шуток, мы познакомились у Вальтера Ромаша. Он был приглашен туда к обеду и на весь вечер.
– Они друзья?
– Эта личность когда-то была адвокатом, обделывала темные делишки для одной мерзкой корпорации, а Ромаш и сам из тех кругов – ушел на время из компании Лоун и Уотерсон, чтобы поработать на атомной станции. А потом вернется обратно, можете не сомневаться. Они были знакомы еще до войны. Кажется, так. А вы хорошо его знаете?
– Нет. Только издали. Сегодня должен с ним встретиться. Он председатель комиссии. И я очень надеюсь, что…
– Он говорит, «Вигвам» – самый лучший привал для туристов, какой ему доводилось знать. Впрочем, говорит, в Калифорнии он встречал и получше.
Полковник ничего не ответил.
– Он говорит, вся нация гордится нашей работой, и еще бы, говорит, ей не гордиться, если учесть, во сколько эта работа обходится. Могло бы стоить, говорит, и дешевле, но в общем он не возражает.
– Рад это слышать.
– Он считает, что Алана Нэнна Мэя надо расстрелять.
– Алан Нэнн Мэй – болван, и я благодарю небо за то, что он не попал в Лос-Аламос. Я благодарю небо и за то, что он насолил Англии, а не нам. Надеюсь, вы вправили мозги конгрессмену. Надеюсь…
– Он тоже благодарит небо. Он благодарит небо за то, что оно даровало нам этот секрет, – и тут я вправил ему мозги. Я сказал, что нам никто ничего не даровал. Я сказал, что ученые бились над этой загадкой с тех пор, как мы, поляки, пятьдесят лет назад напали на ее след… а он говорит…
– О боже!
– …он говорит, – ладно, во всяком случае, русским не додуматься до этого еще пятьдесят лет. Он говорит, у русских нет сноровки. Наверное, говорит, придется устроить нечто вроде превентивной войны, сбросить на них несколько бомб, чтоб показать, что к чему, но, впрочем, это не обязательно, и только, говорит, не поймите меня превратно. Словом, наговорил массу любопытного, хотя это, между прочим, довольно ничтожная личность.
– Он достаточно влиятелен в конгрессе, чтобы напустить на нас какую-нибудь комиссию по расследованию, когда это придет ему в голову, а я не удивлюсь, если после разговора с вами именно так и случится. Не понимаю, зачем вам надо было просвещать этого конгрессмена, тем более что он приехал на один день?
– Я его не просвещал, дружище. Вчера вечером он слушал нашу радиопередачу. Один уважаемый ученый из здешних объяснял, почему испытания бомбы на Бикини – неудачная затея, затея дурацкая и опасная, так, кажется, он выразился, ну и все прочее, а конгрессмен, как, бишь, его, за это и ухватился. Я пришел туда уже позднее.
– Жаль, я не слушал радио. Наверное, он заведет разговор об этом, – сказал полковник. – Впрочем, это ерунда, – добавил он.
– Но если у власти такие субъекты, то, поверьте, мы все погибли, – серьезно продолжал Уланов. – Поверьте мне, я этот сорт людей знаю. Не первый раз сталкиваюсь с подобными экземплярами. Даже среди нас найдутся такие, а я встречал их везде, включая Польшу и Англию. Эти люди задают вопросы только в том случае, если ответы предрешены заранее. Поэтому жизнь их устремлена в прошлое и признают они только то, что им знакомо или было знакомо их предкам, и чем древнее понятия, тем лучше. А эти понятия уже никуда не годились не то что год, а еще тысячу лет назад. Это всегда было злом, это разъедало души людей, как трещина – камень, но когда-то к нему относились терпимо. Где же критический предел такого стремления убежать от действительности? Долго ли мы будем терпеть это зло, которое в конце концов обрушится на наши же головы и вышибет из нас дух – из конгрессмена, как, бишь, его, из меня, из вас?
– Подумать только, какое впечатление может произвести ничтожная личность, – криво усмехнулся полковник.
– Правильно, – согласился Уланов. – Так давайте же постараемся, чтобы он не производил такого впечатления. Вы, конечно, не послали доллар комитету Эйнштейна? Но пусть у вас, по крайней мере, не трясутся поджилки перед этим жуликом.
Полковник похлопал Уланова по спине.
– Я пошлю доллар комитету Эйнштейна. Очень рад был с вами встретиться. Ну пока, еще увидимся.
Он повернулся в сторону больницы – они стояли как раз напротив нее, на другой стороне улицы.
– Одну минутку, полковник. Я не сказал самого главного.
– Я спешу в больницу, Уланов, – с досадой ответил полковник, но остановился. – В чем дело? Говорите прямо, пожалуйста.
– Этот конгрессмен хочет расследовать деятельность Луиса Саксла.
– Что?!
– Он хочет расследовать деятельность Саксла, потому что Саксл сражался в Испании. Он не считает, что Саксла нужно немедленно расстрелять, но все же этот факт его несколько тревожит.
Полковник Хаф сделал три шага к Уланову. Лицо его выражало полное недоверие.
– Но мне это известно. И отделу безопасности тоже. Он давно уже реабилитирован. Это что, шутка?
– Для конгрессмена – нет. Конгрессмен его не реабилитировал. Вы сказали…
– Я спрашиваю, вы это говорите серьезно?
– Да, – на этот раз очень просто ответил Уланов. – Конгрессмен, насколько я понимаю, говорил совершенно всерьез. Я пришел туда поздно, потому что был в больнице. Конгрессмен стал меня расспрашивать, и довольно настойчиво. Я кое-что рассказал ему о Саксле, потому что… ну, наверное, потому, что Саксл стоит того, чтобы о нем рассказывать. Упомянул об Испании, и тут конгрессмен взвился, как ракета. «Сражался за коммунистов? – спросил он. – Хорошенькое дело. И давно он работает на атомной станции?» А Ромаш – Ромаш порядочный олух, но безвредный, – Ромаш сказал: «Он один из тех, кто создал ее». Словом, конгрессмен хочет поговорить с людьми, в том числе и с вами. И с Сакслом тоже.
– Поговорить с Луисом? – тонким голосом переспросил полковник. – Но разве он не знает, в каком состоянии Луис? Вы ему хоть объяснили? О нет, это недопустимо, ни в коем случае! Я уверен, что врачи… Я уверен, что он поймет…
Полковник запнулся, но не стал продолжать. Выдержав паузу, Уланов пожал плечами и рассмеялся.
– Вы же сами сказали, – он человек влиятельный. Признаюсь, хоть я и раскусил его сразу, но дал вам не совсем точное представление о нем. Я, вероятно, упустил из виду его влиятельность. Я не ожидал найти в нем это свойство. Просто в голову не пришло искать.
Они все еще смотрели друг на друга. С лица полковника не сходило выражение недоверия, но оно словно задержалось на нем случайно и ровно ничего не значило; мысли полковника Хафа явно переключились на что-то другое и не отражались на его лице.
– Ну ладно, – наконец произнес Уланов, – ступайте на свидание. На два свидания. Сначала с врачами, потом с конгрессменом. Чудно, чудно! Вам, должно быть, известно, что Луису сегодня немного хуже?
– Нет, – сказал полковник, внезапно приходя в себя; он нахмурился и пристально взглянул на Уланова. – Это неверно. Я звонил. Мне сказали, что он чувствует себя гораздо лучше.
– Ну что ж, – любезно ответил Уланов, – значит одному из нас сказали неправду. Мне надо идти. Надеюсь, все будет благополучно.
Уланов ушел.
Полковник посмотрел ему вслед и направился к больнице. Он взглянул на часы, потом обвел взглядом больничные окна, невольно нахмурился, увидев забытый кем-то ящик под окном первого этажа, и, слегка пошевелив плечами, расправил на себе мундир. Уланов, думал он, да и вообще эти чудаки-иностранцы – так он иногда называл их про себя, хотя не все они были иностранцами, – подобные люди, каков бы ни был их общий знаменатель, всегда, надо сознаться, как бы гипнотизировали его. А сейчас, когда гипноз рассеялся, все опять стало на свое место. Ему надо было обдумать три проблемы, и все они осложнялись тем, что гражданский начальник атомной станции уехал в Вашингтон, по делам, связанным с Бикини, и думать приходилось ему одному.
Во-первых, эта сумасшедшая затея с расследованием; видимо, конгрессмен просто не разобрался в ситуации, да оно и не удивительно – ведь сведения он получил от Уланова. Но какое же может быть расследование, раз человек умирает; конгрессмен, должно быть, не понял, насколько серьезно состояние Луиса, и конечно образумится, узнав, что… в общем, это не проблема. Но, независимо ни от чего, неужели Уланову не пришло в голову сказать, что эти испанские дела (он, конечно, не склонен оправдывать Луиса) расследованы давным-давно? Уланов, наверное, крепко сцепился с конгрессменом. И полковник Хаф невольно улыбнулся, он никогда не питал неприязни ко всем этим Улановым, особенно если не находился в их обществе.