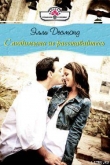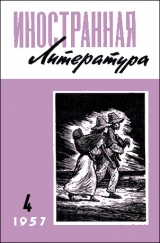
Текст книги "Несчастный случай"
Автор книги: Декстер Мастерс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
– Лгут, конечно. То есть, ничего не говорят, а это и есть ложь. Больному не принято говорить правду. Вы это знаете, Чарли.
Став по обе стороны лотка, Педерсон и Бетси медленно снимали полотенца, горкой покрывавшие лед и лежащую в нем руку.
– Ну, значит они и мне лгут, – отозвался Педерсон, не поднимая головы. – Как эта рука, Луис? Боли не беспокоят?
– Ни капельки.
Несколько минут все трое молчали. Бетси зажгла большую яркую лампу, которую утром принес фотограф и оставил в углу, возле кровати. Она наклонила рефлектор так, чтобы свет не бил Луису в лицо, и край светлого желтого круга лег на самую середину кровати. А затем Бетси снова принялась помогать Педерсону, стала по другую сторону лотка, и руки их задвигались взад и вперед, по очереди снимая полотенца, лежавшие крест-накрест в несколько слоев. Лоток слегка покачивался от этих движений, тихо и ритмично шелестели плававшие в воде куски льда; это был единственный звук в тишине палаты, и только временами где-то за дверью, в коридоре или в одной из соседних палат, слышался приглушенный говор.
Рука, извлеченная из-под полотенец, была синеватого цвета и вздулась; опухоль поднималась вверх по предплечью, где кожа принимала восковой оттенок, лопнувшая кожица на волдырях омертвела по краям, а внутри скопилась желтоватая жидкость.
Луис взглянул на лоток и перекатил голову по подушке направо к окну.
– Знаете, кто вы, доктор Ч. Педерсон? – заговорил он, и хотя с лица его исчезло почти всякое выражение, в голосе по-прежнему звучали насмешливые нотки. – Вы то, что мы, философы-натуралисты, называем доктринером или однобоким дилетантом; вы уверены, что все физики отлиты по одному шаблону, что все мы одинаковы, но среди прочих людей стоим особняком; мы призваны свершать какие-то непостижимые дела, несомненно подозрительного свойства, и нас никак не следует смешивать с прочими людьми. Если я цитирую Шрёдингера либо Де Бройля, да еще с формулами, то на доктринера-дилетанта это производит внушительное впечатление, и он вполне мною доволен. Но если я вздумаю цитировать Мелвилла, он начинает беспокоиться. «Что с вами? – спрашивает он. – Может, вы нуждаетесь в отдыхе?» Или приходит к мысли, что я его морочу и что на самом деле никакой я не физик.
Педерсон и Бетси, занятые осмотром изуродованной руки, невольно засмеялись.
– Но разве у физика нет глаз? Разве он лишен чувств и страстей? Разве он питается, болеет и лечится не тем же, что и другие? Если вы даете нам яду, разве мы не умираем?
– Впрочем, не стоит вдаваться в тонкости, – продолжал Луис и, слегка выгнув шею, повернул к ним голову, потом скользнул взглядом вдоль своего укрытого простынями тела. – Конечно, когда ты чем-то занят, не надо оглядываться на Квикега, который так равнодушно созерцает волны. Меч, как бы его ни называть, – это другое дело, но Квикег слишком отвлекает внимание. Впрочем, от него никуда не денешься. Ты выбрасываешь его из головы, а он лезет обратно, и на все ему наплевать. Ты отводишь глаза в другую сторону, но тогда рискуешь сделать промах в своей работе. Единственный способ избавиться от Квикега – это лишить его человеческого облика, чтоб он перестал глазеть на волны – ведь потому-то он так и отвлекает внимание. Либо столкнуть за борт. Но тогда нужно, чтобы работу выполняли кнопки и автоматы, которые не глазеют на волны.
– Какую чушь вы заставляете меня нести! Это не к лицу и здоровому человеку, не говоря уж о больном. Бетси, вышвырните вон этого медведя. Все равно от него никакого толку.
Луис не ощущал прикосновений к своей левой руке и, мельком посмотрев на нее, больше не взглянул ни разу. Бетси ласково зашикала на него, он почувствовал, что его не слушают, и умолк, отвернувшись к окну, которое выходило на улицу.
Но Педерсон и Бетси управились очень быстро. Полотенца легли на место, и все стало, как прежде. Педерсон напомнил Луису, что время позднее, а сон для него очень важен. Луис возразил, что выспался днем. Вошла одна из ночных сестер; с присущей медицинским сестрам манерой делать из всего тайну она зашептала Педерсону, что в ординаторской его ждут врачи и они считают, что мистеру Сакслу необходимо как можно скорее предоставить полный покой. Луис, расслышав ее слова, возразил, что он устал от покоя. Бетси украдкой бросила на него тревожный взгляд – она вдруг уловила в его голосе капризную раздражительность, а это значило, что он устал гораздо больше, чем ему казалось. А Луис сердился про себя, поняв, что сегодня больше не будет чтения вслух, и раздумывал, не воспользоваться ли ему правами больного, несмотря на то, что Бетси явно еле держится на ногах. Он поглядел на ночную сестру, особу с тонким, пискливым голосом. Но пока он размышлял, как поступить, Педерсон вышел в коридор, поманив за собой Бетси. Оба исчезли за дверью, и даже их голоса уже не доносились в палату, а Луис угрюмо следил глазами за ночной сестрой, та что-то говорила, переставляла какие-то предметы по-своему, передвинула столик, у которого сидела Бетси, и захлопнула «Моби Дика».
Бедный Квикег, сказал про себя Луис.
В коридоре Педерсон вынул из кармана письмо и протянул Бетси.
– Кажется, это от той девушки, что приезжала к нему на прошлой неделе.
Бетси перевернула конверт обратной стороной.
– «Тереза Сэвидж», – прочла она. – Не знаю, как зовут ту девушку. Я только один раз видела их вместе на террасе. Как вы думаете, они…
– Не спрашивайте меня об их отношениях. О его личной жизни я ничего не знаю. И не знаю, как быть с письмом. Возможно, Луис ждет его не дождется, но вдруг оно его только расстроит?
Бетси взглянула на Педерсона и снова перевела взгляд на письмо. А Педерсон стоял в нерешительности, думая о том, что уже, наверное, очень поздно, и недоумевая, что заставило его вдруг отдать письмо Бетси, но тут же вспомнил, какая почти уютная атмосфера царила в палате, когда он туда вошел, и каким приятным показался ему голос читавшей вслух Бетси.
– Прочтите ему письмо, – сказал он наконец. – Впрочем, не знаю. Сделайте, как подскажет вам разум.
И уже идя по коридорчику, он понял, что имел в виду не разум, а интуицию – ее женскую интуицию.
3.
Через несколько минут ночная сестра вышла из палаты с температурным листком в руках. Сев в углу возле столика и наклонившись так, чтобы свет настольной лампочки падал на письмо, Бетси начала читать:
– Тут вверху помечено «Понедельник вечером».
– «Милый, родной мой…» – Бетси вскинула глаза на Луиса и улыбнулась. – «Милый, родной мой, всего полчаса, как поезд отошел от Лэйми и ты стоял в сумерках на перроне. Субъект с остроконечными ушами и огромной сигарой – вот уж не в моем вкусе! – кончил писать письма и уступил мне место; и, должно быть, все время, пока мы не проедем треть материка, я просижу здесь, буду плакать и писать тебе. Писать тебе. Помнишь „Жалость тирана“, книгу, которая свела нас с тобою (а это ты помнишь?), и того человека, который, проведя год в Перу, среди славных людей, привык говорить всем „ты“ и боялся, что, вернувшись, не сможет обращаться к какой-нибудь милой ему женщине на „вы“. Ты, ты, тысячу раз говорю „ты“ твоему лицу, твоим рукам, всему тебе…
Я перестала писать и немножко поплакала, потому что поезд идет так быстро и потому, что ты так удивительно в моем вкусе, а еще и потому, дорогой мой Луис (больше не буду объясняться в любви), что не знаю, как сказать тебе о том, что меня начинает тревожить или даже пугать, и стоит ли вообще говорить об этом. Наберись терпенья, милый. Дай мне высказать все или хоть попытаться, даже если тебе мои мысли покажутся глупыми.
Дело в том, что – нет, лучше я начну с другого. Дэвид рассказал мне о письме от твоего приятеля, работающего в университете; он пишет, что тебе не разрешат преподавать в университете, так как ты – еврей. Это грустно и противно, и я понимаю, как тебе должно быть больно. И все-таки это мелочь, правда, мелочь очень неприятная, но нельзя же из мухи делать слона. Я знаю, ты никогда не станешь хныкать над собой и растравлять свои раны. Но я больше всего боюсь, что ты примешь самое простое решение – ничего не менять в своей жизни, чтобы не подвергать себя лишним оскорблениям. Быть может, съездив на Бикини, ты опять на много месяцев уйдешь все в ту же работу. Наверное так и будет, потому что ты настоящий живой человек и к тому же настоящий мужчина. А мужчины чаще всего поступают именно так, потому что считают это трезвым отношением к жизни. Но ведь остаться в Лос-Аламосе значит сделать из маленькой мухи слона, и пойми же, пойми, что это вовсе не трезвое решение».
Бетси остановилась, хоть и не подняла глаз; она чуть ли не с первых строк поняла, что рассудок, вернее, как ей думалось, интуиция, на этот раз ее подвела – не следовало бы читать такое письмо тяжело больному человеку, которому, очевидно, предстоит бессонная, длинная ночь; да, зря она взялась читать это письмо. Но что же теперь делать? Может, проявить твердость, потушить свет и уйти? Нет, у нее, кажется, не хватит выдержки. Или дать ему еще снотворного? Вряд ли он на это согласится.
Но ведь когда она по внезапному наитию решила ничего не скрывать и, войдя в палату, сказала о письме, глаза его совсем по-детски засияли от радости. И как порывисто он воскликнул: «О, да, да, пожалуйста!», когда она, подойдя совсем близко к этим сияющим главам, предложила прочесть письмо вслух.
Бетси взглянула на Луиса – он не сводил с нее пристального взгляда, но молчал – и, не заметив в нем ничего особенного, стала читать дальше.
«Мне не нравится твой Лос-Аламос, его железные ворота, часовые и засекреченные здания. В тот вечер, когда мы вместе с Дэвидом сидели в гостях у Улановых, ты и другие вспоминали о Лос-Аламосе времен войны, рассказывали о волнующих и увлекательных событиях, и это было удивительно хорошо. Потом пошли рассказы и о другом: о воде и прачечных, о ссорах из-за пустяков, об опустошительных набегах на Санта-Фе, и это было удивительно забавно. В те дни Лос-Аламос мог быть – и наверное был – городом свершений. И ни его непроницаемые, уродливые здания, ни железные ворота, ни часовые не могут испортить прелесть тех мест. Ночью – той ночью, когда мы с тобой гуляли по краю плато на незасекреченной стороне, город как бы слился с этой чудесной землей, и нам казалось, что мы идем по цветущему лугу, беспредельному, как сама жизнь. А потом мы наткнулись на ограду и часовой осветил нас фонарем. Стоит ли у тебя еще букетик водосбора, который мы с тобой тогда нарвали? Не надо держать его в комнате долго – нежные цветы умирают быстро… И все-таки мне не хочется, чтобы ты его выбрасывал. Ах, милый!
Но любые места, где живешь ты, будут иметь для меня свою прелесть. Пока я не побывала в Лос-Аламосе, я никогда не думала о нем отдельно от тебя. А теперь думаю, потому что меня тревожит, как тебе живется там без меня. Знаешь, никогда еще я не испытывала такого почти физического ощущения горя, как во время мучительного ожидания на вокзале в Нью-Йорке в тот день, когда началась война. Но если бы я даже знала, что стоит мне сказать одно слово, – и ты останешься, я бы все равно его не сказала. Как ни остра была боль расставания, я видела словно сквозь дымку, но все же достаточно ясно, – ты знаешь, что делаешь, хотя и не говоришь об этом, и тебе необходимо ехать, а я против этой необходимости бессильна. Тогда я еще не знала, что за город Чикаго, или Джорджтаун, город-сад, город твоего детства, рай среди прерий, но я чувствовала: то, что ты едешь в Лос-Аламос, – хорошо для тебя или, по крайней мере, не так уж дурно.
Но в ту минуту, когда мы, спеша к поезду в Лэйми, выезжали из Лос-Аламоса через эти проклятые ворота, я поняла, что тебе нельзя оставаться здесь. Есть в этом городе что-то очень неправильное. Он как будто создан для людей, отрекшихся от самих себя, – как монастырь. Но монахи готовы на самоотречение во имя господа бога, которого они восхваляют, которому поклоняются и посвящают всю жизнь. Я знаю, ты гордишься своим делом, его удачей и тем, что вы первые добились результатов, опередив других. Это чувствовалось в твоих письмах из Лос-Аламоса во время войны, хотя в них ты умалчивал о своей работе, и в разговорах на вечере у Улановых, когда вы вспоминали прошлое. Но разве не странно, что ни один из вас не говорил о будущем, если не считать того, что все высказывали желание уехать и заняться самостоятельной работой? Ведь не было среди вас человека, который не желал бы этого. А во всем, что было сказано о настоящем, чувствовалось какое-то смущение, виноватость и тревога.
Луис, любимый мой, во имя чего ты обрек себя на затворничество в этом Лос-Аламосе? Кому или чему вы служите нескончаемые обедни в неприступных, как крепость, зданиях, на которые, кстати, никто не совершает нападений? Если смертельная угроза уже миновала, зачем же ученый прячется или позволяет прятать себя за семью замками? Зачем существует Лос-Аламос теперь, через девять месяцев после войны?
Мы едем уже час, а поезд мчится все быстрее и быстрее. За окном совсем стемнело. Должно быть, я все-таки глупа и наивна – берусь рассуждать о том, чего совершенно не понимаю, но ведь это только от любви к тебе. О работе ученого я могу судить лишь по тому, что мне известно о твоей работе, и все, что я знаю о науке, я узнала от тебя. Я очень хорошо запомнила сказанные тобой однажды слова – мы лежали тогда в постели, в твоей комнате у Бисканти, сколько с ней связано дорогих воспоминаний! Это было как раз перед началом войны, накануне того страшного ожидания на вокзале – и ты даже не догадывался, как я была несчастна в ту ночь: ведь ты уезжал, а я никак не могла понять, что тебя заставляет ехать, и все пыталась доискаться, в чем же дело. Помнишь? Я попросила тебя объяснить мне раз и навсегда, что означает для тебя твоя наука? Ты помнишь это? Я спросила, не движет ли тобой стремление утвердить свою волю, и ты ответил – да, конечно, самоутверждение играет тут свою роль. Потом я спросила, может, это своего рода забава, вроде головоломок? Ты ответил – да, для любителя таких забав тут найдется над чем поломать голову. Тогда мне пришло на ум примерно то, о чем писал тебе твой приятель из университета, и я спросила – быть может, научная работа для тебя нечто вроде убежища, тихой пристани? Ты согласился и с этим. Я уже забыла, о чем мы еще говорили (помню только, что помощи от тебя было мало), а потом ты сказал то, что я запомнила навсегда. Если представить себе жизнь как огромную неведомую страну, как первобытный девственный мир, сказал ты, то надо взять в проводники науку, и только наука укажет дороги средь нехоженых дебрей. Их еще не так много, этих дорог, но они приведут на величественные, недоступные вершины и помогут перейти необъятные, непроходимые пространства. Вдоль этих дорог – ты назвал их великими, искусными стройками науки – движутся, соприкасаясь, мысли ученых всего мира. Вот как представляется тебе наука, сказал ты. И это помогло мне пережить и остаток той ночи, и следующий день, когда мы с тобой ждали поезда на вокзале, и все прошедшие с тех пор годы.
Разве теперь в Лос-Аламосе можно услышать такие слова? Мне думается, нет. Тебе тогда было двадцать четыре года (и ты был такой бледный и усталый после нашей прощальной ночи, а тут еще я приставала к тебе с расспросами). Быть может, теперь ты во всем этом разуверился. Трудно сохранить такое представление после того, как были сброшены бомбы на Японию. Но ведь ты вместе с другими учеными подписал петицию на имя президента с протестом против применения бомбы. Ты подписал петицию за два месяца до того, как были сброшены бомбы, – зачем же ты помогаешь делать их теперь?
Боже мой, боже! Мне столько нужно сказать тебе, и я не знала, как сказать, когда мы были вместе, а на бумаге все получается не так. Поверь мне, о, поверь, все это только потому, что я тебя люблю. Я так боюсь – и, вероятно, в этом все дело – как бы не случилось что-нибудь такое, что еще больше затянет нашу разлуку. Что-то вроде того противного письма, а может, причиной тому будут твои собственные мысли и тревоги, если они доведут тебя до ожесточения и отчаяния. В твоем бронированном Лос-Аламосе уже не живет дух самоотречения – во всяком случае, сознательного, – а только дух одержимости, и вы охвачены не возбуждением, а нервозностью, и уже не внешние события, а какие-то скрытые сомнения волнуют души людей. И я хочу, чтобы ты уехал оттуда. Я хочу, чтобы ты не закрывал глаз ни на что. Слышишь?
Сколько времени я зову тебя? С того самого дня, как началась война, в сотне писем – за некоторые мне даже чуть-чуть стыдно, они были эгоистичными и жестокими от тоски по тебе – и во время девяти наших встреч (за семь лет!), вырванных из сложной ткани твоей жизни и вплетенных в ткань моей. Ну, поезжай на Бикини, поскорее возвращайся, и тогда кончится наша разлука и мне уже не надо будет звать тебя.
Но разрешите вам сказать, сэр, что будучи в Лос-Аламосе вашей гостьей, я чудесно провела время. Вы оказались замечательным хозяином, и – я вспоминаю часы, когда время словно останавливалось, как однажды днем, среди цветов и трав, под снисходительным оком Святого Петра – вы старались предугадать малейшее желание вашей гостьи. Смею напомнить вам, что через месяц вы должны отдать визит, на этот раз на всю жизнь, в месте, которое мы выберем, но обязательно там, где есть нехоженые дебри, где еще нужно строить дороги.
О Луис, Луис, Луис, как я по тебе тоскую… поезд летит так быстро и совсем не в ту сторону… за окном так темно, и в этой темноте со мной – ты… Скорей же, милый, скорей! Я люблю тебя. Тереза».
Бетси дочитала письмо до конца. Не раз она в отчаянии останавливалась, но отчаяние не могло подсказать ей иного выхода, кроме как читать дальше. Она не решалась поднять глаза, голос ее под конец упал почти до шепота и был еле слышен даже в мертвой тишине палаты.
4.
Бедная Бетси, подумал Луис. И Тереза, бедная Тереза. Волна жалости – к Терезе и к Бетси, пожалуй, не меньшей, чем к самому себе, – нахлынула на него с такой силой, что он содрогнулся под ее тяжестью. Но через мгновенье она схлынула, и мысленно он с удивительной ясностью увидел, как она отступает. А потом уже не волна жалости, а сам он, казалось, отступил куда-то, не слишком далеко, словно бы на несколько ступенек сознания: с этой новой ступеньки и Тереза, и ее письмо, и все, что было в этом письме о них обоих, и боль, с которой Бетси его читала, и сам он, каким он стал теперь, – все это виделось немного со стороны и сверху, словно точки на узоре. Нечто похожее он испытывал иногда засыпая: ощущение бесплотности, когда смотришь на свое спящее тело словно откуда-то с потолка. Теперь его положение было несколько иным, он просто отделился от самого себя, стал недосягаем для этого письма, уже не слышал его. Едва он так подумал, ему показалось, будто среди точек узора он различает одну, прежде не замеченную, и эта слабая точка – голос, детский и в то же время его собственный, и этот голос твердит: «Ах, если бы, если бы, если бы…» Но из той дали или с высоты, где он был теперь, Луис мог лишь кивнуть не без сочувствия и ответить голосу (а может быть, это было и ответом на письмо):
– Я больше не понимаю тебя… Я тебя почти не слышу. Ты… что ты хочешь сказать?
Прошло, вероятно, минут десять-пятнадцать, не больше, с тех пор как Бетси вошла в палату, остановилась в ногах кровати и, спрятав руки за спину, сказала, что у нее есть для него сюрприз, только пусть он будет умником и обещает сразу же уснуть. Как он обрадовался, увидав в ее поднятой руке письмо, с какой жадностью слушал, когда она начала читать! Но сейчас и эти чувства сталь точками узора, который как будто вмещал все, что ни приходило ему на ум. Однако точки не оставались неподвижными: они мерцали и могли в любую минуту исчезнуть; он смотрел, не думая о них, просто смотрел, а тем временем Бетси поднялась со стула и захлопотала около него, и что-то негромко говорила, и вышла наконец, оставив его одного.
Немного погодя он увидел часы, висящие в ногах кровати. Кажется, он уже довольно давно смотрит на них, сам того не сознавая. Но перед тем он, должно быть, спал: стрелки показывали уже половину первого, а ведь, помнится, когда ушел Педерсон, он поглядел на них – и они показывали чуть больше половины одиннадцатого. Невероятно! У него вовсе нет ощущения, что он спал, и он готов поклясться, что голос Бетси, читавшей письмо, умолк всего лишь несколько минут назад. Часы-то, должно быть, верные, но он все же прислушался – вокруг стояла глубокая тишина, можно было уловить смутные, едва различимые шорохи, да вдалеке – низкое, прерывистое гуденье генераторов. И самый воздух такой, какой бывает только после полуночи.
Луис опять задумался о письме – так старик заглядится порой на беззаботно играющего ребенка. Чувство отрешенности не прошло, но стало иным, менее определенным; теперь между ним и письмом Терезы уже не было пропасти, и ему больше не казалось, что он отделился от самого себя и что каждая его мысль с какой-то неестественной точностью укладывается в лежащий перед ним узор. Как старик подчас не меньше ребенка увлечется игрой, не участвуя в ней сам, так Луис мысленно перебирал все подробности того дня, проведенного у Святого Петра… Да, тот день был полон чудес, и Луис ничего не забыл, но ничто теперь словно бы не трогало его. Он прекрасно помнил книгу, благодаря которой они познакомились, и их первую встречу, и хотя много лет прошло с тех пор – целых восемь лет – все это так же ярко и живо в памяти и кажется таким же далеким, как день в гостях у Святого Петра, пять дней тому назад. Странно, Тереза пишет, что за семь лет они встречались всего лишь девять раз… и он надолго задумался над этими годами, припоминая каждую встречу, – но не перебирал их в памяти машинально, а медлил расстаться с иным воспоминанием, и даже улыбался чуть заметно, а при мысли об иной встрече закрывал глаза и морщился точно от боли… Но главное, ему хотелось проверить, неужели было всего лишь девять встреч? Ведь он мог бы поклясться, что больше… но под конец он решил, что Тереза права.
Ее слова о письме от приятеля, работавшего в университете, всколыхнули в Луисе чувства более сложные. Написанное с наилучшими намерениями, дышащее возмущением по адресу университетской процентной нормы, полное заверений, что пишущий еще поговорит с тем-то и с тем-то, так что, возможно, когда-нибудь… а пока что… – это письмо пришло в день отъезда Терезы, за несколько часов до того, как он отвез ее в Лэйми к поезду. Напрасно он упомянул о письме в разговоре с Дэвидом, а впрочем, не упомянуть было невозможно, ведь они собирались вместе преподавать в университете. А все же следовало повременить, нехорошо, что он именно тогда заговорил о письме. И зачем только Дэвид рассказал Терезе! Дэвида письмо огорчило куда больше, чем его самого; а может быть, он, Луис, огорчился больше, чем сам тогда сознавал, а Тереза это заметила и все выведала у Дэвида. Впрочем, теперь это уже неважно. Что скрывать, письмо больно задело его. К тому же за последние годы он успел позабыть, каково это – получать подобные щелчки. Среди людей, с которыми он жил и работал, этого не водилось, во всяком случае, он никогда ничего такого не замечал и не слышал.
Как и многие евреи, Луис давно уже устроил в душе своего рода водосток, по которому подобные обиды и оскорбления, воспринятые глазом или ухом, скатывались, минуя каналы сознания. Давно уже он постиг ту истину, что еврей не имеет возможности реагировать на оскорбление так, как реагирует всякий нормальный человек. Ведь такова сила предрассудков, что еврея оскорбляют на каждом шагу, и не успеешь справиться с одной обидой, как тебя настигают другие. Однако в душе Луиса этот механизм, слишком долго пробыв без употребления, заржавел и не пропустил обиду, нанесенную четыре дня тому назад. Впрочем, сейчас это уже все равно, снова подумалось ему.
Но нет, не все равно, и никогда не было все равно. Недвижным взглядом Луис смотрел прямо перед собой, поверх часов, висящих в ногах постели, на окно, где стоял цветок. И в эту минуту вид цветка опять вызвал из глубины его сознания тот полусон, что привиделся ему рано поутру, когда он заново пережил жгучую обиду, испытанную давным-давно на школьной лужайке. Но утром он еще не совсем проснулся, а теперь бодрствует и вовсе не намерен пережевывать всякие детские обиды. А может быть, это подсознание шутит над ним шутки – и вот вытащило этот случай из прошлого? Так ведь он может припомнить двадцать подобных случаев. С досадой Луис почувствовал, что если потеряет власть над собой и даст волю подсознанию, оно злорадно подкинет ему все эти двадцать старых обид да еще десятка два сверх того и каждую подчеркнет жирной чертой. Беда с подсознанием, как упорно возвращается оно к оценкам и суждениям детских лет; эта таинственная и неясная область души – точно балованный ребенок, откормленный и ленивый, он порою выходит из своего оцепенения и, тыча пальцем и топая ногой, объявляет негодующе: «А король-то голый!» При этом он иной раз прав, но чаще ошибается и никогда не знает сомнений.
А кроме того, сердито думал Луис, этот несносный младенец все облекает в живые образы, да еще под видом детского простодушия пачкает чуть ли не все, чего коснется. Однако простодушие простодушием, но нельзя же злоупотреблять своим правом судить обо всем с дикарской прямотой. Ну и хватит, подумал Луис. У него зачесался уголок рта, и он повернул голову, чтобы потереться ртом о плечо. А ведь так естественно было бы поднять руку и почесать рот пальцем! Невольно мышцы его правой руки слегка напряглись, и на мгновенье он всецело поддался горькому отчаянию: ну, почему же мне отказано даже в такой малости! Он напряг мышцы обеих рук, но руки оставались бесчувственными почти до самых плеч, не стоило даже смотреть, сдвинулись ли они с места. Голова по-прежнему лежала боком на подушке, и он все еще терся щекой о плечо, хотя рот уже не чесался. Так продолжалось еще несколько минут – медленное, безотчетное движение…
Но ведь он ни за что не остался бы здесь! Не остался бы ни ради этого, ни ради чего другого, Тереза должна бы знать это, должна бы чувствовать всем своим существом, кровью и плотью, ведь непреложность их планов передалась ей от него – от тела к телу, от сердца к сердцу. Это было в субботу, всю субботу они строили планы, обдумывали каждую мелочь. Как все чудесно придумывалось! Какой сияющий был этот день!
– Скажи еще раз, – просила она.
– Я люблю тебя.
– Еще раз!
– Я люблю тебя.
– И через месяц мы поженимся.
– Через месяц.
– А как мы назовем нашего первого ребенка?
Он повернул голову и стал смотреть в потолок… Тереза, сказал он, глядя в потолок, ради этого я не разрушил бы наши планы.
И тут он увидел Терезу. Ему представилось, как она сидит в вагоне за столиком и пишет, наклонив голову, волосы падают на щеки, она вся – напряжение, вся – сосредоточенность, она всегда такая, когда чем-нибудь поглощена. Сейчас ее гложет тревога, и ее письмо – попытка сделать это чувство щитом и опорой для него, для нее, для них обоих. «Сколько времени я зову тебя? С того самого дня, как началась война… Кончится наша разлука, и мне уже не надо будет звать тебя».
Да.
Старику, что смотрит издали на ребенка, иной раз хочется протянуть руку и дотронуться до него – только дотронуться, он сам не мог бы объяснить, откуда это желание, но оно неодолимо… Так и Луису вдруг захотелось протянуть руку – так он потянулся бы к Терезе, будь она здесь. Он видел ее – сосредоточенную, встревоженную, таящую в себе столько любви и обещаний, что сердце его разрывалось, хотя и в эту минуту он чувствовал странную отчужденность. Призрак женщины, склонившейся над письмом, бесконечно взволновал его, но и посеял в нем смятение. Это была Тереза, он узнавал каждую прядь ее волос, выбившуюся из прически, каждую мысль, которую он, казалось, мог разглядеть в склоненной голове: и однако… что-то новое в ней? Или чего-то не хватает? Или изменилось что-то? Он лежал совсем тихо и неподвижно, он не хотел двигаться и словно подстерегал, не придет ли объяснение? Оно не приходило, и он попытался поторопить его: быть может, Тереза для него теперь лишь олицетворение и символ всех женщин вообще, отсюда и это смятение, и чувство отчужденности? Какая-то часть сознания подсказывала ему, что это искусственный домысел и ничего он не объясняет; но что-то в нем ухватилось за этот домысел – и вдруг Луиса объял безмерный ужас: Тереза все еще перед ним – сейчас она оглянется – и не узнает его! Оглянется, чтобы сказать ему все то, что написала, отдать ему навеки свое сердце, заговорить с ним, коснуться его – и не узнает! Или взглянет, как играющий ребенок на старика, – скользнет по нему взглядом и тотчас забудет о нем, и ничто, ничто не остановит ее внимания…
Но видение не обернулось, чтобы встретиться с ним взглядом; Тереза сидела все такая же, какой он увидел ее в первую минуту, и страх его рассеялся: если она обернется, говорил он себе, и вглядится в него, ее глаза и губы скажут ему… скажут… Он не знал, что, он не мог больше думать… Скажут… Теперь он уже хотел, чтобы она обернулась, и раза три кряду быстро открыл и закрыл глаза, пытаясь представить себе, что она повернулась и смотрит на него. Но ему не удавалось увидеть ее лицо, – лица не было, оно ускользало – то расплывалось, то словно таяло в тумане. И каждый раз Тереза медленно принимала прежнюю позу: она писала, склонясь над столиком купе, так напряженно и сосредоточенно, словно дело шло о жизни и смерти. Но что она писала – это тоже ускользнуло из его памяти или уже не было важно. Он прекрасно помнил, что именно она писала, но там было так много всего, столько разнообразных замыслов, энергии, деловитости, и так вся эта сумятица жизни утомляла… вот именно утомляла… или, может быть, в этом было слишком много мелких житейских треволнений, далеких от всего, что в жизни по-настоящему важно и значительно? А может быть, это сама жизнь слишком много требовала от него. Да, наверно, все дело в этом, в самой жизни. Несколько минут он вспоминал письмо Терезы, перебирал в памяти то одни строки, то другие, и чем больше вспоминал, тем меньше почему-то все это значило. А потом он просто перестал думать о письме. Ни горечи, ни смятения, только эта странная отрешенность пожирает и сушит все его чувства, и теперь уже ясно: это он не узнает Терезу, если она обернется к нему; или, того хуже, встретит равнодушно все, что скажут ему ее глаза и губы. Старик, от которого ждут чувств, на какие он больше не способен, и понимания того, что им уже позабыто, под конец устает следить за играющим ребенком и отворачивается; так и Луис отвернулся от созданного им образа Терезы, и видение, поблекнув, исчезло. Где-то в дальнем уголке его мозга тихо, неразборчиво звучали какие-то голоса. Но и к этой болтовне он был равнодушен, и к тяжести льда, придавившего ему руки и живот, и ко всем сложным извивам своих недавних мыслей.