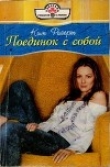Текст книги "Тайна Моря"
Автор книги: Брэм Стокер
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
– Пиши до востребования в почтовое отделение Круден-Бей, – ответил я. – Я сообщу, где меня искать.
На этом мы и распрощались.
– Увидимся утром, – сказал он, уходя.
Глава XVIII. Салюты и Жанна д’Арк
Какое-то время сон не шел. Все происходило так быстро, возникало столько новых событий, фактов и опасностей, что у меня голова шла кругом. Конечно, первое место занимала Марджори, и главное – ее безопасность. Что это за испанский заговор, в чем состоит его суть или цель? Сначала, когда Адамс о нем рассказал, я не переживал: заговор казался слишком далеким, слишком невероятным, и, боюсь, я не придал ему должного значения. Не подумал сразу, что две страны вступили в войну и что как во время войны, так и до нее уже творились отчаянные и вероломные поступки, память о которых не могли стереть даже доблесть и рыцарство более благородных врагов Америки. «Помните „Мэн“!» все еще оставалось лозунгом и боевым кличем. В мире хватало негодяев, особенно поднимающих голову в военное время, от которых жди чего угодно – смертоносного, жестокого, опасного. Возможно, эти злодеи уже действуют! Я вскочил с постели. В этот миг осознания угрозы для Марджори я понял в полной мере, как опасно мое незнание о том, где и в каком положении она находится. Это бессилие просто-таки сводило с ума; теперь я разделял раздражение Адамса от подобного бессилия перед лицом того, что с виду казалось моим упрямством. Однако, как я ни ломал голову, я не мог ничего поделать, пока не увижу Марджори или не получу от нее весточку. С этой мыслью – в данных обстоятельствах снедающей меня еще более, чем можно выразить словами, – я снова лег.
Разбудил меня стук Адамса, который в ответ на мое «войдите» проскользнул в номер и закрыл за собой дверь.
– Пропали!
– Кто? – машинально спросил я, хотя уже хорошо знал.
– Мисс Дрейк и ее спутница. Уехали вчера ночью, сразу после того, как вы вернулись с вокзала. Я-то думал, ты с ними отужинал? – спросил он пытливо и с ноткой подозрительности.
– Я должен был с ними ужинать, – ответил я, – но они не явились.
Он сделал долгую паузу.
– Не понимаю! – воскликнул он наконец.
Я решил, раз мое молчание более не требуется для прикрытия, можно рассказать все; мне хотелось любой ценой избежать стычки с Адамсом и не показаться ему обманщиком. И я начал:
– Теперь я могу рассказать, Сэм. Миссис Джек и мисс Анита – мисс Дрейк – пригласили меня ужинать. Спустившись, я нашел письмо о том, что им пришлось срочно отбыть, с особой просьбой отужинать одному, словно они со мной. Меня просили не говорить ни слова об их отъезде. Прошу, пойми, мой дорогой друг, – и я вынужден просить тебя смириться с этим намеком и не расспрашивать дале: тому, что я вслепую помог мисс Дрейк, есть свои причины. Вчера вечером я говорил, что мои руки связаны; вот одна из веревок. Сегодня я волен кое-что прояснить. Вчера я не мог ничего поделать. Ни предпринять что-либо сам, ни помочь тебе – по той простой причине, что я не знаю, где находится мисс Дрейк. Я знаю, что она проживала – по крайней мере, до недавнего времени – где-то на востоке графства Абердин; но где именно – не имею ни малейшего представления. Впрочем, ожидаю узнать уже скоро и тогда сразу же сообщу тебе – если мне не запретят. Со временем ты поймешь, что я говорю чистую правду, пусть сейчас тебе и трудно понять мои слова. Я как никто другой хочу уберечь Марджори. Когда ты ушел от меня вчера, я осознал смертельную серьезность этого дела и сам себя измучил.
Он просиял.
– Ну что ж, – сказал он, – мы с тобой хотя бы заодно, это уже что-то. Я уж опасался, что ты работаешь или станешь работать против меня. Послушай: я тут пораскинул мозгами и, смею предположить, понял твое положение лучше, чем ты думаешь. Не хочу тебя ограничивать или мешать тебе помогать мисс Дрейк по-своему, но скажу вот что. Я найду ее – по-своему. Меня-то ничто не сдерживает, кроме понятной секретности. За этим исключением я свободен в действиях. И буду сообщать о своих шагах тебе в Круден.
Перед тем как я оделся, меня навестил еще один гость. На сей раз это был Каткарт, предложивший мне помощь со смущением, характерным для англичанина, который хочет сделать доброе дело, но в то же время боится навязываться. Я попытался успокоить его прочувствованной благодарностью.
И тогда он прибавил:
– Судя по тому, что счел нужным рассказать Адамс, – поверь, соблюдая конфиденциальность, – я понял, что ты беспокоишься за близкого человека. Коли так – а я от всего сердца хотел бы ошибаться, – надеюсь, ты помнишь, что я твой друг и не имею привязанностей. Я практически один на белом свете, то есть не имею семьи, и меня никто не остановит. Что там, в расчете на наследство кое-кто был бы только рад видеть меня в могиле. Надеюсь, когда заварится каша, ты об этом не забудешь, старина.
И он ушел – как обычно, с лихим и бесшабашным видом. Вот так просто этот галантный джентльмен предложил мне свою жизнь. Меня это тронуло больше, чем я смог бы передать словами.
Я выехал в Круден следующим же поездом и договорился с почтмейстером, чтобы он немедленно за мной послал, если придет телеграмма, о чем я говорил с Адамсом.
Ближе к вечеру мне принесли письмо. Оно было написано почерком Марджори, а на вопрос, как оно пришло, мне ответили, что его передал конный, который, сделав дело, только сказал: «Ответа не требуется» – и тут же ускакал.
Мечась от надежды к радости, от радости к опасениям, я его открыл. И все эти чувства были подтверждены всего парой слов:
«Встретимся завтра в одиннадцать в Пиркапписе».
Я кое-как вытерпел ночь и встал рано. В десять я взял легкую лодку и сам погреб из Порт-Эрролла через залив. У Скейрс я остановился, делая вид, что рыбачу, а на самом деле высматривая Марджори; отсюда открывался хороший обзор на всю дорогу до Уиннифолда и тропинку у пляжа. Незадолго до одиннадцати я увидел девушку, ехавшую на велосипеде по уиннифолдскому проселку. Собрав удочки, я тихо и без особой спешки – поскольку не знал, кто нас может заметить, – погреб в бухточку за торчащей скалой. Марджори прибыла одновременно со мной, и я с радостью увидел, что ее лик не омрачен тревогой. Пока ничего не стряслось. Мы всего лишь пожали руки, но от ее взгляда у меня екнуло сердце. Последние тридцать шесть часов все мои мысли заслоняла тревога о ней. Я не думал о себе, а значит, и о своей любви к ней; но теперь этот эгоистичный инстинкт пробудился вновь в полную силу. В ее присутствии, в ликовании моего сердца, страх во всех обличьях казался таким же невозможным, как и то, чтобы пылающее над нами солнце вдруг скрылось за снегопадом. С таинственным жестом, призывающим к молчанию, она указала на уходившую в море скалу, увенчанную высокой травой. Мы вместе забрались на утес и пересекли узкий перешеек над ее вершиной. За скалой мы нашли уютное гнездышко. Тут мы были совершенно отделены от мира; нас бы никто не услышал и не увидел, разве что со стороны полного рифов моря. Марджори кротко разделила мою радость:
– Хорошее место, верно? Я нашла его вчера!
На миг я почувствовал себя так, будто она меня ударила. Подумать только: вчера она была здесь, когда я ждал ее всего-то на другом конце залива и не находил себе места. Но без толку оглядываться назад. Теперь она со мной, и мы наедине. Восторг смел все остальные чувства. Премило устроившись поудобнее, словно готовясь к долгому разговору, она начала:
– Полагаю, теперь ты знаешь обо мне больше?
– Что ты имеешь в виду?
– Право, не увиливай. Я видела в Абердине Адамса, и он, конечно же, рассказал обо мне все.
Я перебил:
– Вовсе нет.
Ее рассмешил мой тон. С улыбкой она сказала:
– Значит, кто-нибудь другой да рассказал. Ответь на пару вопросов. Как меня зовут?
– Марджори Анита Дрейк.
– Я бедна?
– Если говорить о деньгах, то нет.
– Верно! Почему я уехала из Америки?
– Чтобы сбежать от салютов и славы Жанны д’Арк.
– И снова верно, но это уж очень похоже на Сэма Адамса. Ну да ничего, теперь мы можем начать. Я хочу рассказать то, чего ты еще не знаешь.
Она замолчала. А я, испытывая и радость, и страх из-за ее серьезного вида, приготовился слушать.
Глава XIX. О смене имени
Марджори начала с улыбкой:
– Ты уверен, что я уехала из-за салютов и славы Жанны д’Арк?
– О да!
– И что это единственная и определяющая причина?
– Ну конечно!
– Тогда ты ошибаешься!
Я взглянул на нее с удивлением и с тайной озабоченностью. Если я ошибался в этом, то почему бы и не в чем-то еще? Если Адамс заблуждался, а я заблуждался, принимая его слова на веру, что за новый секрет сейчас раскроется? До сих пор все так замечательно складывалось для моих устремлений, что любые помехи были нежелательны. Марджори, глядя из-под полуопущенных ресниц, успела меня разгадать. Строгое выражение, что всегда возникало на ее лице, когда она хмурилась в размышлении, растаяло и превратилось в улыбку – отчасти счастливую, отчасти лукавую и целиком девичью.
– Не тревожься раньше времени, Арчи, – сказала она, и о! как же дрогнуло мое сердце, когда она впервые обратилась ко мне по имени. – Не о чем переживать. Я все расскажу, если хочешь.
– Разумеется, хочу, если ты сама не против.
И она продолжила:
– Я не возражала против салюта; вернее сказать, и возражала, и наслаждалась им. Между нами говоря, салютов должно быть ну очень много, чтобы надоесть. Пусть люди говорят что хотят, но только те, кто не вкусил славы, заявляют, что она им не нравится. Не знаю, что чувствовала Жанна д’Арк, но подозреваю, что она не отличалась от других девушек. Если ей нравилось, как ее хвалят и возвеличивают, не меньше, чем мне, неудивительно, что она продолжала игру, сколько могла. А меня замучили посыпавшиеся предложения замужества! Одно дело – предложения от тех, кого знаешь, к кому не испытываешь неприязни. Но когда от предложений каждое утро переполняется бельевая корзина, когда на тебя пялятся сомнительные типы, когда под дверью поджидают самодовольные молодые люди в фетровых шляпах и без подбородков, чтобы зачитать свои стихи, когда твою карету останавливают неопрятные болваны, чтобы припасть на колено на глазах твоих слуг, это уже слишком. Конечно, письма можно сжечь, хотя и среди них хватало добрых и слишком честных, чтобы не относиться к их авторам с уважением. Но старики и эгоисты, мытари и грешники, повесы, что клубятся кругом, как скверные миазмы, их было слишком много, всех видов и пород, их было слишком трудно выносить. Я чувствовала, как начинаю верить, что девушка – или, по меньшей мере, ее характер – ничего не значит, тогда как деньги или слава, пусть даже дурная, значат так много, что я уже вовсе не могла видеть незнакомцев. Грабители, привидения, тигры, змеи и прочее – это чепуха; но уж поверь, ухажеры – это натуральный кошмар. Что там, в конце концов я перестала доверять людям. Среди моих знакомых не осталось неженатого мужчины, кого бы я не заподозрила в каких-нибудь замыслах, а самое смешное, что если они не оправдывали подозрения, то я обижалась. Страшно несправедливо, правда? Но я ничего не могла с собой поделать. Интересно, нет ли какой-то моральной желтухи, от которой начинаешь видеть цвета неправильно? Если есть, то ее я подхватила; и уехала, чтобы попытаться излечиться. Ты и представить себе не можешь, насколько легко я вздохнула, когда за мной перестали гоняться. Конечно, и здесь есть свое разочарование; боюсь, люди слишком быстро привыкают к хорошему! Но в общем и целом было замечательно. Со мной поехала миссис Джек, и я замела следы дома, чтобы никто не волновался. Мы сбежали в Канаду, в Монреале сели на пароход до Ливерпуля. Впрочем, на сушу сошли в Мовилле. Мы взяли вымышленные имена, чтобы нас нельзя было выследить.
Она замолчала, и на ее лице проступила застенчивость. Я ждал, мне казалось, что я только смущу ее, если буду забрасывать вопросами вместо того, чтобы дать рассказать обо всем своим чередом. Застенчивость переросла в розоватый румянец, за которым сквозила та божественная истина, что порою нет-нет да просияет в девичьих глазах.
Теперь Марджори заговорила совсем иначе, нежели раньше, с ласковой просьбой, но и с серьезностью:
– Вот почему я не развеяла твоих заблуждений касательно моего имени. Я бы не выдержала, если бы и ты, так любезно со мной обходившийся, в самом начале нашей… наших отношений разоблачил бы мою ложь. А позже, когда мы лучше узнали друг друга, когда ты доверил мне столько тайн – о Втором Зрении, Гормале и Сокровище, – я уже так угрызалась совестью, что стыдилась признаться.
Она замолкла, и я рискнул взять ее за руку. Затем сказал как можно утешительней:
– Но, дорогая моя, это не обман – по крайней мере, для меня. Ты взяла чужое имя, чтобы избежать неприятностей, задолго до нашей встречи – так как я могу обижаться? К тому же, – добавил я, осмелев, потому что она не забрала руку, – уж мне-то меньше всех на свете подобает возражать против того, чтобы ты сменила имя!
– Почему? – спросила она, поднимая глаза навстречу моим и пронзая меня взглядом.
Чистое кокетство: она не хуже меня знала, что я имею в виду. И все же я ответил:
– Потому что я тоже хочу, чтобы ты его сменила!
Она не сказала ни слова, но потупила взгляд.
Теперь я почувствовал себя увереннее и, не тратя времени на слова, наклонился и поцеловал ее. Она не отстранилась. Ее руки обхватили меня; и вот так я в мгновение ока вознесся на небеса.
Наконец она слегка отодвинулась и сказала:
– Была и другая причина, почему я все это время не признавалась. Теперь я могу сказать.
– Прошу прощения, – перебил я, – но сначала скажи, правильно ли я понял, что это… что сейчас произошло между нами, – утвердительный ответ на мой вопрос?
Отвечая, она сверкнула и улыбкой, и глазами:
– А ты сомневаешься? В моем ответе было что-то непонятно? Если так, лучше понимать его как «нет».
Мой ответ был не словесным, но зато весьма приятным для меня. Затем она продолжила:
– У тебя еще остались сомнения?
– Да, – сказал я, – много, очень много, сотни, тысячи, миллионы, и все требуют немедленного разрешения!
Она ответила очень тихо и кротко, в то же время предостерегающе подняв руку в уже очень хорошо знакомом мне жесте – я не мог не чувствовать, что он будет играть важную роль в моей жизни, хотя и, несомненно, всегда хорошую.
– Если их так много, значит, не стоит и пытаться ответить на все сейчас.
– Ну хорошо, – сказал я, – займемся ими в свое время и по порядку.
Она ничего не ответила, но выглядела счастливой. Я и сам был так счастлив, что даже воздух вокруг нас, и солнечный свет, и море словно радостно пели. Музыка слышалась даже в криках множества чаек над головой, в шуме накатывающих и отступающих волн у наших ног. Я не сводил глаз с Марджори.
Она заговорила:
– О, какая это радость – признаться тебе сейчас, как мне было приятно понимать, что ты, не зная ничего ни обо мне, ни о деньгах, ни о корабле, ни о салютах и славе Жанны д’Арк – мне уже никогда не забыть этой фразы, – увлекся мной из-за меня самой. Как не продлить такое удовольствие. Хотя я без стеснения назвала бы свое настоящее имя, я оттягивала этот момент как можно дольше, чтобы, пока мы не раскроем друг другу самое сокровенное, упиваться знанием о личном чувстве.
Я был так счастлив, что решился перебить.
– Как уклончиво сказано! – воскликнул я. – Правильно ли я понимаю, что ты, хоть и любила меня самую капельку – когда я уже показал, что люблю тебя всей душой, – все равно предпочла водить меня за нос, чтобы мое незнание внешних обстоятельств сдобрило твое удовольствие от моей преданности?
– Тебя послушать – ты как книга с позолоченным обрезом! – сказала она с довольной улыбкой. – А теперь ты наверняка хочешь знать больше о моем окружении, нашем положении и дальнейших планах.
Она словно окатила меня ушатом холодной воды. В приливе счастья я на время позабыл о тревогах за ее сохранность. Мигом нахлынули вопросы, не дававшие мне покоя последние полтора дня. Она заметила эту перемену и поэтически выразила свою тревогу в живописном образе:
– Арчи, что тебя тревожит? Твое лицо стало как пшеничное поле под набежавшей тучей!
– Я волнуюсь за тебя, – ответил я. – От совершенного счастья, что ты мне подарила, я совсем забыл о том, что меня тяготит.
С бесконечной мягкостью – и той нежной лаской, в которой проявляет себя сочувствующая любовь, – она положила свою ладонь на мою и сказала:
– Ответь же, что тебя тревожит. Теперь я имею право знать, правда?
Прежде ответа я поднял руку Марджори и поцеловал; не выпуская ее, я продолжил:
– Вместе с тем, как узнать о тебе, я узнал и кое-что еще, что не дает мне покоя. Ты поможешь развеять тревоги?
– Я сделаю все, что ты пожелаешь. Теперь я вся твоя!
– Спасибо, любимая, спасибо! – Вот и все, что я мог ответить: меня ошеломила ее нежная самоотверженность. – Но я объяснюсь позже; а сейчас расскажи о себе, ведь этого я жду больше всего.
И она заговорила:
– Мы – миссис Джек и я – живем в старом замке в нескольких милях отсюда. Начать с того, что миссис Джек – моя старая няня. Ее муж работал у моего отца в дни освоения Запада. Когда папа заработал себе состояние, он позаботился и о Джеке – звали его Джек Демпси, но мы всегда называли его просто Джек, поэтому его супруга была миссис Джек – и только так я теперь ее и зову. Когда скончалась моя мать, обо мне заботилась миссис Джек, потерявшая мужа незадолго до этого. Затем, когда умер и отец, она взяла на себя все, и с тех пор была мне как мать. Полагаю, ты заметил, что она так и не избавилась от почтительности, привычной ей в пору бедности. Но миссис Джек богатая женщина; если бы кое-кто из моих ухажеров представлял, сколько у нее денег, они бы не оставили ее в покое. Думаю, она перепугалась от того, как со мной стали носиться, и втайне заподозрила, что станет следующей жертвой. Без этого вряд ли бы удалось втянуть ее в безумный план сбежать под вымышленными именами, даже при всей ее любви ко мне. В Лондоне мы встретились кое с кем в банке «Морган»; и джентльмен, ведущий наши дела, дал слово, что будет хранить молчание. Это славный пожилой человек, и я рассказала ему о нашем положении достаточно, чтобы он увидел достойную причину скрыться из виду. Я решила, что Шотландия – подходящее место, чтобы пропасть на время, и земельные агенты подобрали для нас дом, где нас не стали бы искать. Предлагали много, но наконец рассказали о поместье между Эллоном и Питерхедом, в стороне от дороги. Мы нашли его в низине среди множества холмов, где и не заподозришь дом, особенно в таком густом лесу. На деле это старинный замок, возведенный два-три века назад. Его владельцы – по фамилии Барнард, как рассказал нам агент, – давно уехали и много лет пытались сдать дом, но никто им не интересовался. Похоже, о хозяевах агенту известно немногое – он общался только с их поверенным, – но, по его словам, они еще могут приехать и попросить показать им дом. Это любопытное старинное местечко, хоть и ужасно мрачное. Тут тебе и кованые ворота-решетки, и большие дубовые двери, обитые сталью, что грохочут, словно гром, когда их закрываешь. Тут тебе и сводчатые потолки, и окна в толщах стен – такие, что на их подоконниках можно сидеть, но снаружи видны только щелочки. О! Просто-таки чудная старина, иначе не скажешь. Обязательно приезжай! Я тебе все покажу, вернее, все, что могу, поскольку часть комнат заперта.
– Но когда? – спросил я.
– Что ж, я как раз думала, – ответила она, – как было бы замечательно, если бы ты прокатился со мной на велосипеде сегодня же.
– Готов в любой момент! Кстати говоря, как он называется?
– Замок Кром. По названию маленькой деревушки, хоть до нее оттуда и пара миль.
Перед ответом я недолго пораздумал. Затем, решившись, заявил:
– До поездки мне бы хотелось потолковать о том, что, хоть может показаться тебе незначительным, меня изрядно тревожит. Но позволь сперва просить, чтобы ты не выпытывала у меня имя моего осведомителя или что угодно, кроме того, что я сам сочту нужным рассказать.
Посерьезнев, она сказала:
– Ты меня пугаешь! Но, Арчи, дорогой, я тебе верю. Я тебе верю, и ты можешь говорить без обиняков. Я все пойму.
Глава XX. Товарищество
– Мне нужно, чтобы ты обещала, что не будешь скрываться там, где я тебя не найду. На то у меня есть весомая причина. Еще мне нужно, чтобы о твоем местонахождении, если ты не против, знал кое-кто еще.
Поначалу в выражении ее лица – в движении губ, в том, как раздулись ноздри, – чувствовалось возмущение. Затем ее лоб нахмурился в размышлениях; все это немало говорило о ее характере, чего я не преминул заметить. Однако внутренняя война шла недолго: разум какими бы то ни было средствами возобладал над порывом. И я видел логику, что привела к озвученному выводу:
– Ты хочешь докладывать обо мне Дяде Сэму.
– Почти! – ответил я и поспешил объясниться прежде, чем настрою ее против. – Помни, моя дорогая: твоя страна вступила в войну, и, хоть в настоящий момент ты в безопасности – в стране, дружественной к обеим сторонам, – везде хватает злоумышленников, которые воспользуются чем угодно необычным к своей выгоде. Благодаря изумительному подарку родине ты стала всенародной любимицей и завоевала миллионы друзей – и предложений, – но обрела и сонмы врагов. Ведь ты подарила не больничный корабль или карету скорой помощи. Твой дар относится непосредственно к военным действиям и разжигает ненависть; вне всяких сомнений, некие люди уже сплотились, чтобы причинить тебе вред. Этого допустить нельзя. Твои друзья, твоя страна в целом предпримут что угодно, лишь бы этому помешать, но они будут бессильны, если ты скроешься там, где они тебя не найдут.
Пока я говорил, Марджори пристально наблюдала за мной – без враждебности, а с искренним интересом. Когда я закончил, она тихо сказала:
– Все это очень хорошо; но теперь ответь, милый… – И как меня взбудоражило это слово! Впервые она назвала меня так. – Это Сэм Адамс внушил тебе все эти доводы – или они твои собственные? Не подумай, что я придираюсь; я хочу понимать, что происходит. Поверь, я готова на все, что ты пожелаешь, если этого желаешь ты, и я благодарна за заботу. Но не хочу, чтобы ты только пересказывал слова политиков моей родины.
– Что ты имеешь в виду?
– Дорогой мой, откуда тебе знать об американской политике, чтобы понимать, что кое-кто не погнушается использовать любое преимущество. Все, к чему проявляет интерес общественность, может послужить орудием в их беспринципных руках. Что ж, если б приспешники партии войны желали устроить настоящее представление, они могли бы собрать моих ухажеров в новый батальон.
– Но ты же не считаешь таким все свое правительство поголовно? – возразил я.
В ответ она улыбнулась.
– О нем я мало знаю. Партии всюду одинаковы. Но, конечно, в Вашингтоне люди не действуют так же, как мелкие политики. И еще одно. Не подумай, будто я причисляю Сэма Адамса к их братии. Он служит стране и следует указаниям своего начальника. Как он или кто угодно в его положении может знать изнанку ситуации, не считая того, что он узнаёт из весточек с родины или подмечает в происходящем, если достает смекалки?
Мне показалось, она склоняет меня не доверяться американскому посольству, поэтому я прервал ее раньше, чем она закончила. Раз я был не вправе раскрыть Марджори свой источник информации, приходилось убеждать ее другими аргументами:
– Дражайшая моя, оставь в покое политику, хоть американскую, хоть любую другую. При чем тут политика?
Она удивленно распахнула глаза, она соображала лучше меня.
– Конечно же, при всем! – с уверенным видом заявила она. – Если мне и желают зла, то из-за политики. Не верю, что в мире найдется человек, желающий мне вреда по личным причинам. О, дорогой, не хочу об этом говорить, даже с тобой, но я всю жизнь старалась помогать людям незаметно. Мои опекуны расскажут, сколько денег я просила у них для благотворительности; я и лично делала все, что в силах женщины. Я побывала в самых разных больницах и богадельнях; в моем собственном доме проводятся уроки для девочек, чтобы они росли счастливыми и грамотными. Арчи, не подумай обо мне плохо, словно я хвастаюсь, но я не перенесу, если ты решишь, будто я не чувствую ответственности за свое богатство. Я всегда считала его своей миссией и надеюсь, дорогой мой, со временем это бремя и доверие разделишь и ты!
До сих пор я думал, что не могу полюбить ее еще больше. Но, услышав ее слова, распознав за ними высокую цель, увидев, с каким нежным смущением она это рассказывает, я понял, как ошибался.
Она с любовью посмотрела на меня и, взяв мою руку в свои, продолжила:
– А значит, кто может желать мне зла, как не политики? Я бы поняла, если бы мне хотели отомстить испанцы, – ведь я сделала, что могла, чтобы помешать им губить и пытать своих жертв. И я бы поняла, если бы наши бессовестные политики пытались воспользоваться моим именем в своих целях, хотя и не навредить. Я хочу держаться подальше от политики и честно тебе говорю, что так и будет, если у меня получится.
– Но, дорогая Марджори, я считаю, что могут быть – что есть – испанцы, желающие тебе зла. Будь ты в Америке, тебе бы ничего не грозило, ведь во время войны там каждый иностранец взят на заметку. Здесь же, на нейтральной земле, иностранцы свободны в действиях; за ними не следят, ни в чем не подозревают. Если бы такие злодеи были – а мне сказали, что они есть, – они бы могли причинить тебе вред раньше, чем кто-нибудь раскроет их замысел или успеет их остановить.
В ответе Марджори во всей красе предстала врожденная независимость ее народа и характера:
– Мой дорогой Арчи, я происхожу из рода людей, которые сами куют свою судьбу от колыбели до могилы. Мой отец, мой дед и мой прадед были первопоселенцами в Иллинойсе, в Кентукки, в Скалистых горах и в Калифорнии. Они каждый час своей жизни знали, что рядом рыщут коварные враги, но ничего не боялись. И я не боюсь. В моих жилах бежит их кровь и громко дает о себе знать, когда заходит речь о страхе. Они оберегали свои жизни собственной смекалкой, собственными руками; моя смекалка ничем не хуже. Я не боюсь никаких врагов, тайных или явных. Больше того: при мысли о тайном враге во мне пробуждается азарт моего народа – и я хочу дать бой. А тайный бой в наш век доступен для женщин. Если враги плетут заговор, я сплету контрзаговор; если они следят за каждым моим шагом, чтобы застать врасплох, я всегда буду настороже. В наши дни женщина, за редким исключением, не может сражаться открыто, как Жанна д’Арк или Агустина из Сарагосы[34]34
Агустина де Арагон (1786–1857) – испанская героиня войны за независимость в период оккупации Испании Наполеоном. Прославилась доблестью во время осады Сарагосы (поэтому также известна как Агустина из Сарагосы). В дальнейшем стала предводительницей одного из партизанских отрядов. Пережила войну и умерла в возрасте семидесяти одного года.
[Закрыть], но может сражаться по-своему, согласно духу времени. Не понимаю почему, если мне что-то угрожает, я не должна сражаться, как сражались мои предки. Да! Дай я скажу то, что откладывала на потом. Ты знаешь, из какого рода я происхожу? Говорит ли тебе что-нибудь мое имя? Если нет, то скажет это! – Она сняла с шеи скрытое за кружевным воротником золотое украшение – то самое, что я спас со дна. Пока я рассматривал его, взяв в руку, она продолжала: – Это досталось мне от отца, ему – от его отца, ему – от его, и так до тех пор, пока наша история – пусть и только устная, поскольку документов не сохранилось, – не теряется в легенде о том, что это сокровище Армады, которое привезли в Америку два кузена, оба – выходцы из семейства великого сэра Фрэнсиса Дрейка. До недавнего времени ни я, ни кто-либо из моей родни не знал, когда в нашей семье появились владельцы броши или как они заполучили такое сокровище. Но ты дал ответ своим переводом повести дона де Эскобана. Это миниатюрная копия носовой фигуры галеаса папы, и обе создал Бенвенуто Челлини. Папа вручил ее Бернардино де Эскобану, а тот передал адмиралу Педро де Вальдесу. С той нашей встречи я копалась в истории и разузнала, что адмирала де Вальдеса взял в плен в бою с Армадой сэр Фрэнсис Дрейк и держал в заложниках дома у Ричарда Дрейка, родственника сэра Фрэнсиса. Как брошь перешла семье Дрейков, я не знаю, но, во всяком случае, не верю, что ее украли. В мирной жизни они добрые люди – все, кого я знала, хотя в бою всегда бились как черти. А старые испанские доны были щедры на подарки, и, думаю, когда Педро де Вальдеса выкупили, он сделал лучший подарок, какой мог, тем, кто любезно с ним обращался. Так я это себе представляю.
Она говорила, а у меня в голове теснились мысли. Действительно, вот недостающее звено в цепочке, объединяющей Марджори и спрятанный клад; и вот начало исполнения пророчества Гормалы, как я его понимал. Мойры уже взялись за нас. Клото пряла нить, связавшую меня и Марджори со старым пророчеством о Тайне Моря и его итогом.
И вновь меня охватило бессилие. Все мы были словно бадминтонные воланчики: мотались туда-сюда, неспособные изменить свой курс. С этой мыслью пришла и доля смирения – вечного лекарства от отчаяния.
Словно в цепенящем трансе я внимал голосу Марджори:
– А потому, мой дорогой Арчи, я надеюсь, что ты мне поможешь. Наша дружба не ослабнет никогда, как бы ни казалось, что ее затмевают другие узы, теснее и дороже.
Я не мог ответить на эту речь; разве что прижать Марджори к груди и поцеловать. Я понимал, как и она, что мои поцелуи означают капитуляцию перед ее пожеланиями.
Чуть позже я сказал:
– Но одно я сделать должен. Долг чести велит мне сообщить моему осведомителю, что я не могу передать твой адрес американскому посольству и участвовать в чем угодно, на что ты не дала согласия. Но ах! – дорогая, боюсь, мы идем по тонкому льду. Мы умышленно остаемся в потемках, когда есть свет, и весь этот свет нам еще понадобится. – Затем меня осенило, и я добавил: – Кстати, полагаю, я вправе сообщать что угодно, если это не будет компрометировать или касаться тебя?
Перед ответом она надолго задумалась. Я видел, что она взвешивает все за и против, рассматривает ситуацию со всех сторон.
Затем она, вложив свои руки в мои, ответила:
– Я знаю, Арчи, что в этом, как и во всем, могу довериться тебе. Нас слишком многое связывает, чтобы я переживала о такой мелочи!