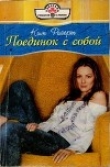Текст книги "Тайна Моря"
Автор книги: Брэм Стокер
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Глава IV. Потоп Ламмаса
Когда я добрался до Крудена, уже совсем стемнело. По дороге я мешкал, раздумывая о Гормале Макнил и той причудливой тайне, к которой она меня подталкивала. Чем больше я ломал голову, тем меньше брал в толк; а самым странным казалось, что я понимаю частичку этой тайны. К примеру, я несколько ближе ознакомился с выводами Ясновидицы из ее наблюдения за Лохлейном Маклаудом. Конечно, из ее слов в нашей первой беседе я знал, что она благодаря манифестации своего Второго Зрения распознала в нем обреченного на смерть; но знал я и то, чего как будто не знала она, – что это в самом деле златой муж. В том мимолетном проблеске, что посетил меня во время необычного транса – или что это на меня нашло тогда на пирсе, – я словно узнал, что он из золота, причем высшей пробы. Не только то, что его волосы – рыже-золотого цвета или что такими же можно с полным правом назвать его глаза, но что лишь этим словом можно передать самую его суть; и потому, когда Гормала прочитала те старые строки, они тут же показались важными для понимания тех трех сил, которые требовалось объединить, дабы постичь Тайну Моря. Итак, я решил подробнее поговорить с Ясновидицей и попросить ее все растолковать. Меня удивил мой собственный интеллектуальный подход. Я не был скептичен, я не уверовал; но, думаю, мой разум явно был готов ко всему. Я очевидно склонялся к таинственной стороне благодаря некоему пониманию внутренней природы вещей – скорее чувственному или ненамеренному, нежели сознательному.
Всю ту ночь я видел сны: мой разум нескончаемо трудился над узнанным за день – передо мной проносились сотни разных взаимодействий между Гормалой, Лохлейном Маклаудом, Ламмастидом, луной и секретами морей. Заснул я только серым утром, под редкое чириканье ранних пташек.
Как порой случается после ночи беспокойных размышлений на тревожную тему, утро принесло с собой и забвение. Уже хорошо после полудня я внезапно вспомнил о существовании ведьмы – а именно ведьмой я начал считать Гормалу. Эта мысль сопровождалась гнетущим чувством – не страха, но явно беспокойства. Возможно ли, что она каким-то образом или в какой-то степени меня загипнотизировала? Я вспоминал с легким трепетом, как предыдущим вечером остановился на дороге, покорный ее воле, и как в ее присутствии перестал замечать все вокруг. Вдруг в голову пришла некая мысль; я подошел к окну и выглянул. На миг сердце замерло.
Напротив неподвижно стояла Гормала. Я тут же вышел к ней, и мы инстинктивно повернули к дюнам. По дороге я спросил:
– Куда ты пропала вчера вечером?
– Делать то, что должно! – Она решительно сжала губы; я понял, что расспрашивать далее бесполезно, и справился о другом:
– Что ты хотела сказать теми стихами?
Ее ответ прозвучал мрачно и торжественно:
– Ответить могут только те, кто их сочинил, – когда пробьет час!
– Кто их сочинил?
– Теперь уж никто не знает. Они древние, как сами каменные основания островов.
– Тогда откуда ты их узнала?
В ее ответе отчетливо слышалась гордость. Такой тон можно ожидать от принца, рассказывающего о своих предках.
– Они дошли до меня через века. От матери к дочери и снова от матери к дочери, без единого перерыва. Знай же, молодой господин, что я из рода Ясновидиц. Меня назвали в честь той Гормалы с Уиста, что за долгие годы напророчила многие смерти. Той Гормалы, кого знают и страшатся по всем островам запада; той Гормалы, мать чьей матери, и ее мать, и так до начала времен, когда моллюски выползли к закату из моря и уже в него не вернулись, держали судьбы мужей и жен в своих руках и правили Тайнами Моря.
Поскольку было очевидно, что у Гормалы есть свое понимание смысла пророчества – или заклинания, или как это еще назвать, – я спросил вновь:
– Но ты же должна понимать смысл стихов, иначе бы не придавала им такое значение?
– Я не знаю ничего сверх того, что явлено моим een – и тому внутреннему e’e[11]11
Глаз, око (шотл.).
[Закрыть], что рассказывает об увиденном самой душе!
– Тогда зачем ты предупредила меня, что Ламмастид близок?
Отвечая, угрюмая женщина вдруг улыбнулась:
– Так ты не внял словам о потопе Ламмаса, что привлекут Силы, правящие Заклинанием?
– Дело в том, что я ничего не знаю об этом «Ламмастиде»! Мы не справляем его в англиканской церкви, – добавил я запоздало, объясняя свое невежество.
Гормале хватило смекалки воспользоваться моим смущением и поворотить разговор в удобную ей сторону:
– Что ты увидал, когда Лохлейн Маклауд предстал в твоих een малым и затем снова girt[12]12
Большим (шотл.).
[Закрыть]?
– Лишь то, что он вдруг стал маленьким на фоне зрелых колосьев.
Только тут я осознал, что еще не говорил об увиденном ни ей, ни кому бы то ни было. Так откуда ей было знать? В раздражении я так и спросил. Отвечала она с укором:
– Откуда знать мне, Ясновидице из рода Ясновидиц?! Разве мои дневные een так слепы иль близоруки, что мне не прочитать мысли в людских een? Или я не видела, как твои een вдруг вперились вдаль и тут же вернулись быстро, как мысль? Но что ты видал потом, когда даже повел взглядом из стороны в сторону, словно оглядывая кого-то лежащего?
Я рассердился пуще прежнего и отвечал ей как в тумане:
– Я видел, как он лежит на камне, а рядом бежит быстрая волна; а на водах – ломаную дорожку золотой луны.
Она издала возглас, и я снова пришел в себя и взглянул на нее. Она так и горела. Выпрямилась в полный рост с властным, восторженным выражением на лице; сияние ее глаз было нечеловеческим, когда она заговорила:
– Мертв, как я сама видала его в пене набегающего прилива! И злато, всегда злато вокруг него в een этого великого Ясновидца. Златые колосья, и златая луна, и златое море! Да! А теперь я, слепая черная птица[13]13
Летучая мышь на шотландском диалекте.
[Закрыть], и сама уж вижу: и впрямь златой муж, со златыми een, и златыми волосами, и всей истиной его златой жизни!
Затем, повернувшись ко мне, она напористо добавила:
– Почему я предупредила тебя о Ламмастиде? Спроси тех, кто ценит месяцы и дни Ламмаса, когда он и что для них значит. Узри их; узнай о пришествии луны и о грядущих волнах!
Больше не прибавив ни слова, она развернулась и ушла.
Я тут же вернулся в гостиницу, намереваясь поближе ознакомиться с Ламмастидом – его определением и сущностью, верованиями и традициями, которые с ним связаны. А еще – узнать часы приливов и фазу луны во время Ламмастида. Несомненно, я мог бы разузнать все необходимое у священников в Круденских храмах; но я не спешил раскрывать другим тайну, что сгущалась вокруг меня. Отчасти меня останавливал страх перед насмешкой, а отчасти – горячее нежелание затрагивать тему с теми, кто воспринял бы ее не так серьезно, как мне бы хотелось. Теперь я понял, что происходящее уже неразрывно сплетается с моей жизнью.
Возможно, так начала проявляться и находить пути выражения какая-то моя черта, или склонность, или способность. В глубине души я не только верил, но и знал, что мои мысли странным образом направляет некое чутье. Во мне нарастало, заявляло о своих правах ощущение оккультной способности, столь важной для прорицания, а с нею – равно горячая страсть к секретности. Ясновидец во мне, дремавший столь долго, вошел в силу и не желал ею делиться.
В то время, когда росли эти сила и осознание, они словно по той же причине не могли расправить крылья во всю ширь. Мало-помалу я уловил, что для полного проявления каких бы то ни было способностей требуется некое отстранение или отказ от своего «я». Это показали даже несколько часов нового опыта; ведь теперь, когда мой разум сосредоточился на явлении Второго Зрения, весь живой мир вокруг стал подлинной диорамой возможностей. Всего за два дня после случая на пирсе я пережил больше оккультного опыта, чем человеку, как правило, выпадает за жизнь. Оглядываясь назад, я чувствую, будто мне предстали все силы жизни и природы. Тысяча мелочей, какие я до сих пор простодушно принимал за факты, наполнились новыми смыслами. Я начал понимать, что и земля, и море, и воздух – все то, что обычно видят человеческие существа, – есть лишь пленка, короста, под которыми скрываются куда более глубокие силы или стихии. С этим осознанием начал я понимать и великие догадки пантеистов, как языческих, так и христианских, которые благодаря своей духовной, нервной и интеллектуальной чуткости осознали, что у вселенского действия есть некие цель и причина. У того действия, что в конкретном случае казалось проявлением разума природы в целом и множества предметов в ее космогонии.
Скоро я узнал, что день Ламмаса – первое августа, и он так часто сопровождается ненастьем, что почти каждый год происходят разливы Ламмаса. Канун этого дня окружен разнообразными суевериями.
Это разожгло во мне еще больший аппетит к знанию, и благодаря помощи друга я нашел в Абердине ученого профессора, с ходу давшего мне все, что я искал. Он так много знал об астрономии, что мне время от времени приходилось его прерывать, чтобы прояснить какую-нибудь тонкость, понятную знакомым с терминологией, но моему несведущему разуму представлявшуюся отдельной тайной. Признаться, я и до сих пор чувствую родство с теми, кому слово «сизигия» ни о чем не говорит.
Впрочем, я усвоил азы – и понял, что в ночь на 31 июля, в канун Ламмастида, луна выйдет в полночь полной. Узнал я и то, что по некоторым астрономическим причинам прилив начинается в полночь, секунда в секунду. Поскольку главным образом это меня и интересовало, я расстался с профессором с новым чувством благоговения. Казалось, сами небеса, сама земля стремятся к воплощению или соблюдению древнего пророчества. На тот момент мысли о моей собственной связи с тайной или о ее непосредственном влиянии на меня даже не приходили в голову. Меня устраивало положение послушного винтика в общем порядке вещей.
Шло 28 июля, а значит, развязка, коли она выпадала на Ламмастид нынешнего года, должна была наступить вот-вот. Оставалось только одно условие пророчества. Погода стояла необычно сухая, а значит, и потоп Ламмаса мог вовсе не состояться. Впрочем, в этот день небо заволокло тучами. С запада наплывали огромные черные облака, колыхаясь, словно паруса неуправляемой лодки, несущейся вместе с течением. Навалилась духота, дышалось с трудом. Широкий открытый простор словно бил озноб. Небо все темнело и темнело, покуда не стало как ночное, и даже птицы в низких лесках или редких кустарниках замолчали. Овечье блеянье и коровье мычание раскатывалось по неподвижному воздуху гулко, будто издалека. Невыносимое затишье, предшествующее грозе, до того угнетало, что меня, необычно чувствительного к переменам природы, пробирало до крика.
И вдруг грянула буря. Молния полыхнула так ярко, что озарила весь край до самых гор, окружающих Бремор. С невероятной скоростью последовали лютый грохот и всеохватный раскат грома. А потом ручьями хлынул жаркий, тяжелый летний ливень.
Весь тот день лило, лишь с небольшими перерывами сияющего солнца. Казалось, без передышки лило и всю ночь: когда бы я ни проснулся – а я часто вскакивал из-за предчувствия чего-то грядущего, – слышался быстрый и тяжелый стук дождя по крыше, шум и клокотание в переполненных желобах.
Следующий день был днем кромешного мрака. Дождь шел без конца. Ветра почти не было – не больше, чем чтобы гнать на северо-восток огромные махины тяжелых от дождя туч, которые Гольфстрим громоздил у зазубренных гор западного побережья и тамошних скалистых островов. Два дня такого ливня – и уже не осталось сомнений в силе нынешнего потопа Ламмаса. Когда лучи солнечного света упали на широкие нагорья Бьюкена, они все блестели от ручьев. И Уотер-оф-Круден, и Бэк-Берн поднялись выше берегов. Со всех сторон шли вести, что этот потоп Ламмаса грозит стать сильнейшим на памяти.
Все это время в душе и разуме неуклонно нарастала тревога. Детали пророчества воплощались с поразительной точностью. Выражаясь театральным языком, «сцена была готова» для действия, каким бы оно ни было. Часы шли, мое волнение несколько изменилось, опаска превратилась в любопытную смесь суеверия и восторга. Теперь мне уже не терпелось увидеть час пророчества.
Во вторую половину 31 июля развиднелось. Ярко воссияло солнце; воздух стал сухим и для этого времени года зябким. Казалось, ненастная пора подошла к концу и в свои права снова входит жаркий август. Впрочем, последствия грозы были налицо. Не только все реки, речушки и ручьи Севера, но и горные болота до того переполнились, что должно было пройти еще немало дней, прежде чем они перестали бы питать потоки сверх меры. Горные долины превратились в миниатюрные озера. Куда ни пойди, всюду в ушах шептала или рокотала вода. Думаю, в моем случае отчасти и потому, что меня тревожил потоп Ламмаса, раз уж природа так тщательно к нему готовилась. Шум бегущей воды во всех ее обличьях до того преследовал меня, что я никак не мог выкинуть его из головы. В тот день я отправился на долгую прогулку по еще мокрым дорогам, где было бы тяжело проехать на велосипеде. К ужину я вернулся, валясь с ног от усталости, и отправился в постель пораньше.
Глава V. Тайна Моря
Не помню, что меня разбудило. Осталось смутное впечатление, что это был голос, но снаружи дома или внутри меня самого – того я не ведаю.
Мои часы показывали одиннадцать, когда я покинул «Килмарнок Армс» и направился в сторону Хоуклоу, дерзко выделявшегося в сиянии лунного света. Я шел обманчивыми овечьими тропами среди дюн, заросших сырой метлицей, время от времени запинаясь о кроличьи норы, в те дни испещрявшие дюны Круден-Бей. Наконец я вышел к Хоуклоу и, вскарабкавшись на крутой край террасы у моря, сел на вершине, чтобы перевести дух после подъема.
Передо мной был вид изумительной красоты. Его обычную прелесть усиливал мягкий желтый свет полной луны, заливавший словно и небеса, и землю. К юго-востоку отчетливо и черно, словно бархат на фоне неба, торчал мрачный мыс Уиннифолда, а рифы Скейрс рассыпались черными точками по дрожащему золотому морю. Я встал и продолжил свой путь. Вода стояла далеко, и, пока я брел по грубой тропинке над россыпью валунов, меня вдруг охватило чувство, что я опаздываю. Тогда я ускорил шаг, перешел ручеек: обычно он журчал вдоль зигзага рыбацкой тропинки позади Уиннифолда, а теперь бурно шумел – вновь этот шум бегущей воды, глас потопа Ламмаса, – и свернул на гужевой проселок, что шел вдоль утеса и к месту, смотревшему прямиком на Скейрс.
Достигнув самой кромки утеса, где под ногами расстилались пышным ковром длинная трава и глубокий клевер, я без удивления увидел Гормалу: она сидела и смотрела в море. Поперек самого дальнего рифа Скейрс легла широкая дорожка лунного света и, стекая по острым скалам, которые клыками вырастали из пучин, когда море без волн отливало и по ним струилась белая вода, доходила до нас, омывая меня и Ясновидицу светом. Течения видно не было – вода лишь безмолвно поднималась и опадала в вечном движении моря. Услышав меня за своей спиной, Гормала повернулась – от терпеливого спокойствия на ее лице не осталось и следа. Она вскочила и показала на далекую лодку, что шла с юга и теперь поравнялась с нами, правя как можно ближе к берегу, у самого-самого края Скейрс.
– Гляди! – сказала она. – Лохлейн Маклауд идет своим путем. Вокруг скалы, его Рок уж близок!
Пока не видно было никакой опасности: ветер был ласковым, вода между своими накатами и откатами – неподвижной, а гладкость поверхности за рифами обозначала большую глубину.
И вдруг лодка словно встала на месте – мы находились слишком далеко, чтобы даже в такую спокойную ночь услышать хоть звук. Мачта согнулась и переломилась у основания, паруса вяло свесились в воду, а люгерный встопорщился большим треугольником, аки плавник исполинской акулы. Спустя считаные секунды по воде, будоража ее, двинулось темное пятнышко; стало ясно, что это пловец направляется к суше. Я бы кинулся ему на помощь, будь от этого хоть какая-то польза: увы, дальний риф находился в полумиле от меня.
И все же, хоть и зная, что это тщетно, я готов был плыть ему навстречу, но голос Гормалы остановил меня:
– Неужто ты не видишь, что, ежели и встретишь его среди тех рифов, проку от тебя, когда набежит прилив, не будет никакого. А ежели он пробьется, ты больше поможешь ему, дождавшись здесь.
Совет был верным, и я остался стоять. Пловец, очевидно, понимал угрозу, поскольку неистово греб, чтобы успеть в укрытие раньше, чем начнется прилив. Но скалы Скейрс смертоносно круты; они повсюду растут из воды отвесно, и взбираться по ним из моря – дело безнадежное. Раз за разом пловец пытался найти хотя бы щелку, чтобы зацепиться, – и всякий раз снова соскальзывал в море. Больше того, я увидел, что он ранен: его левая рука висела плетью. Похоже, он понял безысходность своего положения и, повернув, отчаянно поплыл к нам. Теперь он находился в самом гиблом месте Скейрс. Всюду там большая глубина, а игольные пики скал растут почти до самой поверхности. Видно их разве что при волнении в отлив, когда их оголяют волны; но на поверхности в спокойную погоду скал не разглядишь, поскольку завихрение волн вокруг невидимо. И здесь же, где течение огибает рифы и разбивается о каменистые массы, прилив бежит с невообразимой скоростью. Слишком часто я это видел – с мыса, где строился мой дом, – чтобы не понимать всей опасности. Я крикнул во все горло, но почему-то он меня не услышал. Мгновения до прилива растянулись, как вечность; и все же меня потрясло, когда донесся клекот набегающей воды, а следом – шлеп, шлеп, шлеп, все быстрее с каждой секундой. Где-то на суше часы пробили двенадцать.
Начинался прилив.
Спустя секунды пловец ощутил его воздействие на себе, хотя как будто еще и не заметил. Потом его понесло на север. Тут же раздался приглушенный крик, словно бы не сразу долетевший до нашего места: на миг пловца перевернуло в воде. Не приходилось гадать, что стряслось: он ушиб руку о подводный риф. Так началась бешеная борьба за жизнь, он плыл без помощи обеих рук в смертельном течении, становившемся все быстрее и быстрее с каждой секундой. Теперь он выбился из дыхания, его голова подчас пропадала под водой; и все же он не сдавался. Наконец, на очередной волне, влекомый собственной силой и силой течения, он ударился о подводные скалы головой. На миг он вскинул ее – и я увидел, как она алеет в сиянии луны.
Затем он ушел под воду; с высоты я видел, как тело вновь и вновь перекатывается в свирепом течении, несущемся к самой дальней точке мыса, на северо-востоке. Я побежал со всех ног, а Гормала – следом. Добравшись до скалистых террас, я нырнул, и в несколько взмахов мне повезло наткнуться на подкатившее навстречу тело. Отчаянным усилием я вытянул его на сушу.
Поднимая тело из воды и вынося на скалу, я выбился из сил, и, когда достиг вершины утеса, мне пришлось ненадолго остановиться, чтобы отдышаться. С тех пор как началась борьба несчастного за жизнь, я и не вспоминал о пророчестве. Но теперь, стоило охватить взглядом тело, безвольно простертое передо мной с неестественно выгнутыми руками и вывернутой головой, и залитое лунным сиянием море, и огромную золотую сферу, чья дорожка морщилась от набегающего прилива, как пророчество обрушилось на меня в полную силу, и я ощутил чуть ли не духовное преображение. Воздух наполнился шумом бьющихся крыльев; море и суша дышали такой жизнью, какой я доселе и не воображал. Я впал в некий духовный транс. И все же на меня смотрели открытые глаза; я боялся, что пловец уже мертв, но, будучи истинным британцем, не мог сдаться без попытки что-то сделать. И я поднял обмякшее тело на плечи, решив доставить его так скоро, как только смогу, в Уиннифолд, где его еще могли бы вернуть к жизни огонь и добрые руки. Но стоило уложить тело на плечи, взяв обе его руки в мою правую, чтобы левой придерживать его за одежду, как я поймал на себе взгляд Гормалы. Она ни разу не помогла, как бы отчаянно я ее ни звал.
И теперь я в гневе произнес:
– Прочь, женщина! Постыдилась бы стоять столбом в такой момент!
И двинулся в путь сам. В то время я не внял ее ответу, произнесенному не без упрека, но еще вспомню его потом:
– Мне ли трудиться против воли Судеб, когда Они сказали свое слово! Мертвые мертвы, коль в их ушах прошепчет Глас!
И тут, когда я взял руки мертвеца в свои – поистине руки оболочки человека, уже покинутой душой, пусть в венах еще и бежала теплая кровь, – случилось странное. Передо мной словно обрели форму духи земли, моря и воздуха, а множество звуков ночи – разумный смысл речи. Пока я пыхтел и брел, пока от усилий борьбы как с весом, так и с новым духовным опытом в голове не оставалось ничего, кроме чувства и памяти, я видел, как рядом размеренно шагает Гормала. Ее глаза гневно горели от лютого разочарования; ни разу она не отвела от меня строгого пронзительного взора, словно бы заглядывая в самую душу.
Недолгое время я чувствовал на нее обиду; но незаметно это сошло на убыль, и я думать не думал о ней, если только она не привлекала внимание. Я понемногу погружался в осознание могучих сил вокруг.
Там, где дорога с утеса вливается в Уиннифолд, есть крутая тропинка, сбегающая зигзагом на каменистый пляж далеко внизу, где рыбаки держат лодки, поскольку это место защищает почти от любых волнений большой черный риф – Кодман, – который заполнял небольшую бухту посередине и оставлял по сторонам от себя глубокие каналы. Когда я достиг этого места, вдруг оборвались все звуки ночи. Застыл сам воздух, и уже не качалась, не шуршала трава, прекратили свой бег в угрюмом молчании воды бурного прилива. Все застыло даже для моего внутреннего чувства – еще столь нового для меня, что я мгновенно замечал все подвластные ему перемены. Словно сами духи земли, воздуха и воды затаили дыхание перед каким-то редким происшествием. Что там: окинув глазами морскую гладь, я заметил, что и лунная дорожка уже не подернута рябью, а лежит широкой блистающей полосой.
Казалось, живой на всем свете была только Гормала, которая следила за мной из-под опущенных век, не дыша, с непреклонной и нескончаемой строгостью.
Тут словно остановилось само мое сердце, слившись с угрюмым молчанием затаившихся стихий мира. Я не испугался – даже не изумился. Все настолько отвечало господствующему требованию мгновения, что я не почувствовал ни толики удивления.
По крутой тропинке поднималась безмолвная процессия призрачных фигур со столь туманными очертаниями, что за этими серо-зелеными фантомами проглядывали скалы и лунное море и даже бархатная чернота скальных теней не теряла своей глубины. И все же фигуры виделись так четко, что можно было разобрать каждую черточку лица, каждый предмет одежды или снаряжения. Сам блеск их глаз в той мрачной пелене призрачной серости напоминал лучистые блики фосфорного света на пене воды, рассекаемой носом быстрой лодки. Мне не пришлось догадываться об их природе по виду их одежды или к чему-то прислушиваться – я сердцем знал, что это привидения всех тех, кто утонул в водах у Круденских Скейрс.
Эти мгновения, пока они шли – и много, много их было в той веренице пугающей длины, – преподали мне урок о масштабе человеческой истории. Сперва шли облаченные в шкуры дикари с косматыми и спутанными волосами; затем – другие, в грубых и примитивных одеяниях. И далее в историческом порядке мужчины и – да, тут и там – женщины, из разных краев, в платьях всевозможного покроя и материалов. Рыжие викинги и черноволосые кельты с финикийцами, светловолосые саксы и смуглые мавры в колышущихся балахонах. Поначалу этих фигур варваров было не так уж много; но по мере движения печальной процессии я видел, что каждый новый год нес свою растущую летопись утрат и бедствий, обильнее и проворнее пополнял угрюмый урожай моря. Прошло уже огромное число фантомов, прежде чем мое внимание вдруг привлек один большой отряд. Все как на подбор были смуглы и гордо держались в кирасах и кольчуге либо в форме военных моряков. Испанцы, понял я по их платьям; причем испанцы, бывшие здесь три века назад. На миг сердце екнуло: то были воины Великой армады, поднявшиеся с какого-то затонувшего галеона или паташа, чтобы вновь повидать проблеск луны. Вида они были благородного, с крупными орлиными чертами лица и надменными взглядами. Проходя мимо, один оглянулся на меня. Когда его глаза вспыхнули, я увидел в них чувство, ибо они были полны жизни, переживания, ненависти и страха.
До сих пор я чувствовал потрясение, благоговение перед равнодушием скользящих мимо призраков. Они смотрели в никуда, лишь шли своей дорогой спокойным, неслышным, размеренным шагом. Но когда этот испанец оглянулся, меня пробрало до самого нутра от взгляда из мира духов.
Но миновал и он. Я стоял в начале петляющей тропинки, все еще держа на плечах мертвеца и глядя с упавшим сердцем на несчастных жертв Круденских Скейрс. Я заметил, что теперь большинство составляли моряки, хоть тут и там встречались береговые работники и изредка – женщины. Рыбаков много было, и все без исключения – в высоких сапогах. Так я сколько мог терпеливо ждал конца.
Наконец показался крупный тусклый силуэт с обвисшими руками. Кровь из раны на челе стекла на его золотую бороду, золотые глаза смотрели прочь. С содроганием я понял, что это призрак того, чье тело, уже остывающее, лежит на моих плечах; и теперь знал безо всяких сомнений, что Лохлейн Маклауд мертв. С облегчением я видел, что он даже не взглянул на меня; хотя, когда я последовал за процессией, шел рядом, останавливаясь и снова трогаясь с места одновременно со мною.
Тишина смерти опустилась на деревушку Уиннифолд. Там не было ни единого признака жизни; ни один пес не гавкнул, пока угрюмая процессия шествовала по крутой дороге или переходила бегущий ручей, направляясь по тропинке к Крудену. Гормала по-прежнему пристально наблюдала за мной; и, пока одна минута сменяла другую, я наконец вернулся к реальному окружению, поскольку видел по ее лицу, что она пытается угадать по моему, что я вижу. Вот она забормотала догадки горячим шепотом, видимо надеясь что-нибудь понять по моему согласию или отрицанию. Ее живой голос рассек призрачное молчание подобно грубому пению коростеля; рассек ночную тишь зазубренным лезвием.
Возможно, это и к лучшему: оглядываясь на тот страшный опыт, я знаю, что никому не передать, что переживает разум, когда идешь один в окружении Мертвых. О том, как нервы во мне натянулись, свидетельствует уж то, что я не чувствовал тяжкого груза на плечах. Я от природы одарен большой силой, а спортивная подготовка времен юности немало ее развила. Но вес и обычного человека нелегко удерживать даже недолгое время, а я нес подлинного великана.
Путь через перешеек мыса, на конце которого и находится Скейрс, плоский, тут и там попадаются глубокие расщелины – как миниатюрные овраги, где во время половодья в море бежит вода с нагорий. Сейчас все ручьи бежали в полную силу, но я не слышал ни шума воды, ни падения белеющих брызг с края утеса на скалы внизу. Призрачная процессия не задерживалась у ручьев, а бесстрастно переходила в том направлении, где тропинка спускается на пески Круден-Бей. Гормала проследила за моим взглядом, окинувшим долгую вереницу, чтобы увидеть всех сразу.
По ее словам стало ясно, что она о чем-то догадывалась:
– Так их великое множество; его глаза окинули их вширь!
Я вздрогнул, и она поняла, что не ошиблась. И словно всего одна догадка сказала ей все, что только можно знать; она, очевидно, что-то понимала о мире духов, хоть и не могла видеть все его тайны.
Следующие ее слова просветили меня:
– Это духи людей; они идут по тропинке, протоптанной людьми!
И в самом деле. Процессия не парила над полем или песком, а мучительно верно следовала зигзагу утеса и каменистой тропинке мимо валунов. Когда первые из них ступили на песок, то двинулись вдоль гряды тем же путем, которым каждый воскресный вечер возвращались к своим лодкам в Питерхеде рыбаки Уиннифолда и Коллистона.
Поход по пескам был долгим и изнуряющим. Хоть я часто бывал здесь в дождь или шторм, когда ветер сбивал меня с ног, а песок с покрытых травой дюн едва не резал щеки и уши, никогда я не чувствовал, чтобы эта тропинка была такой долгой или тяжелой. Я не заметил этого сразу, но теперь начинал сказываться груз мертвеца. На другой стороне залива я видел редкие огни деревни Порт-Эрролл, сколько в этот час ночи можно было разглядеть; а далеко над водой поднимался холодный серый свет, что есть скорее первый признак окончания ночи, чем наступления утра.
Когда мы вышли к Хоуклоу, голова процессии свернула через дюны в сторону суши. Гормала, следя за моими глазами, это увидела, и в ней произошла удивительная перемена. На миг ее словно громом поразило, и она вросла в землю.
Затем изумленно всплеснула руками и произнесла почтительным шепотом:
– Священный колодец! Они идут к Колодцу святого Олафа! Потоп Ламмаса сослужит им добрую службу.
Поддавшись инстинкту любопытства, я поспешил опередить процессию. На ухабистой тропинке среди дюн я почувствовал, что бремя давит на плечи все тяжелее и тяжелее, а ноги волочатся, словно в кошмаре. На ходу я машинально оглянулся и увидел, что тень Лохлейна Маклауда уже не догоняет меня, а осталась на своем месте в процессии. Гормала не спускала с меня своего дурного глаза, но дьявольской смекалкой разгадала, почему я обернулся. Она шла рядом – не со мной в шаг, а прежней походкой, словно ей нравилось или хотелось оставаться противовесом тени мертвеца, исполнять какое-то свое назначение.
Я спешил, а тени вокруг меня всё тускнели и тускнели; наконец я не мог разглядеть ничего, кроме марева или дымки. У Колодца святого Олафа – не более чем пруда у подножия высокогорья, поднимавшегося от Хоуклоу, – призрачный туман уходил в воду. Я с трудом остановился рядом: вес на плечах уже был невыносим. Я едва стоял на ногах, но решительно настроился выдержать, сколько смогу, и досмотреть, что случится дальше. А мертвец остывал с каждой секундой! Я не знал, то ли причиной было развеивание теней, то ли отдаление от духа Маклауда; возможно, и то и другое, потому что, как только немая печальная процессия нагнала меня, я разглядел их лучше. А когда привидение испанца обернулось и взглянуло на меня, я вновь словно увидел живые глаза живого человека. Затем – томительное ожидание, пока остальные миновали меня и в пугающей тишине погружались на дно колодца. Вес на плечах давил все сильней. Наконец я не выдержал и, согнувшись, дал телу соскользнуть на землю, придерживая лишь за руки, чтобы смягчить падение. Гормала же стояла напротив и, увидев, что я сделал, подскочила ко мне с громким возгласом. На один тусклый миг призрак застыл над своей бренной оболочкой; а затем видение пропало.