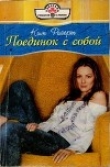Текст книги "Тайна Моря"
Автор книги: Брэм Стокер
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Глава XXXVIII. Обязанность жены
Перед самым выходом Марджори сказала мне – отчасти в шутку, но полностью – всерьез:
– Интересно, что нынче сталось с Гормалой? Если бы она знала о последних двух ночах, совершенно бы отчаялась – кто знает, что бы она тогда напророчила!
Как ни странно, я и сам вспомнил о Ведьме. Пожалуй, ее чары были навеяны находкой клада и нависшей над нами смертью. С мыслью о ней пришло и то странное чувство, что я уже испытывал ранее: ощущение ее присутствия. Попросив жестом погасить свет, я подкрался к окну. Тяжелые шторы, когда я скользнул за них, скрыли от улицы проблеск огня в камине. Ко мне присоединилась Марджори, и мы выглянули вместе. По небу бежали облака, и поэтому на улице чередовались свет и тень. В одно из просветлений я и заметил темную массу на краю высокой травы, венчающей скалу у самого начала мыса Уитсеннан. Если это была женщина, то наверняка Гормала, а если Гормала, то она наверняка следила за мной, поскольку, конечно, не могла знать о присутствии Марджори. Я решился по возможности разузнать побольше, а Марджори попросил улизнуть через заднюю дверь, пока сам направляюсь к мысу. Встретиться мы условились в верхней деревне старого Уиннифолда.
Заперев за собой дверь и выведя велосипед, я тихо отправился к утесу. Чуть ниже края, уложив на него голову, спала Гормала. Поначалу, зная коварную натуру старухи, я принял это за притворство, но, приглядевшись, понял, что ее сон неподделен. Выглядела она уставшей, и я решил, что последних сил ее лишила вторая ночь в дозоре. И хорошо, что она уснула, иначе бы неизбежно увидела нас. Выбранная ею позиция открывала вид на тропинки как налево, так и направо от дома; только перебравшись через холм, оставляя между нами и нею дом, мы смогли бы избежать ее пытливого взгляда. И все равно, будь достаточно светло, она бы увидела нас на дороге, если бы мы направились в глубь суши, к Уиннифолду. Я почувствовал жалость: такой старой и немощной она выглядела – и все же сколько было целеустремленности в ее сильном суровом лице. Теперь я мог себе позволить сострадание: моя жизнь вошла в счастливую колею. Мне досталась Марджори, а нам обоим – сокровища!
Я не стал тревожить старуху; накинул бы на нее какое-нибудь покрывало, но боялся, что тем самым разбужу ее и сам раскрою наши планы. И мне трудно было бы объяснить, почему я не сплю и блуждаю в такое время ночи – или утра: я толком и не знал, как назвать эту пору. Не легче, чем самой Гормале объяснить, как она попала сюда.
Воссоединившись, мы с Марджори как можно скорее покатили к Крому: торопились водворить ее в замок до наступления дня. С некой примесью страха, поскольку опыт прошлой ночи еще не выветрился из памяти, следил я, как Марджори спускается в пещеру после того, как мы откатили камень. И ее саму не обошли мрачные предчувствия – это я понял по интонации, с которой она просила не бояться за нее. Благополучно добравшись, она обещала подать знак с крыши взмахом белого платка.
Глядя поверх монумента на замок, я ждал с тревогой, которой не мог скрыть от себя. Серый рассвет все бледнел и бледнел, небо прояснялось на глазах. В окрестностях тут и там раздавался одинокий щебет проснувшейся птицы. Для меня же существовала только крыша замка, голая и холодная за морем древесных крон. Вскоре – и гораздо скорее, чем я мог ожидать, – я увидел, как на крыше вспорхнул белый платок. У меня екнуло сердце: Марджори в безопасности. Я помахал своим платком – она ответила, после чего новых знаков не последовало. Я ушел удовлетворенным и стремглав покатил обратно в Круден. В Уиннифолд я въехал еще совсем рано. Мне не повстречалось ни души, и я тайком прокрался сзади своего дома.
Осторожно взглянув в переднее окно, в растущем утреннем свете я увидел Гормалу – все еще на краю утеса, неподвижную и явно спящую.
Ненадолго прилег и я и дремал, пока не стало совсем светло. Затем, после холодной ванны и чашки горячего чая, я отправился в Кром, подгадывая свое прибытие к раннему завтраку.
Меня встретила миссис Джек, лучась улыбкой. Так она была добродушна, так откровенно рада меня видеть, что я не удержался и поцеловал ее. Это ничуть ее не смутило – казалось, мой поступок ее тронул и вызвал улыбку. Затем вошла сияющая Марджори. Она приветствовала меня улыбкой и тоже приязненно поцеловала миссис Джек. Затем удостоила поцелуем и меня, и от радости в ее глазах мое сердце запело.
После завтрака она села на подоконнике с миссис Джек, а я подошел к камину закурить сигарету. Стоя спиной к огню, я любовался Марджори: каким же удовольствием было видеть ее.
Наконец она сказала миссис Джек:
– Вы не испугались, когда я не вернулась позапрошлой ночью?
Пожилая дама кротко улыбнулась и ответила:
– Ничуть, дорогая моя!
Марджори поразили ее слова.
– Почему же?
Добрая старушка посмотрела на нее нежно и серьезно:
– Потому что я знала, что ты со своим мужем – а для юной леди нет ничего надежнее. И – о! – дорогая моя, я не могла этому нарадоваться; а то я уже начала тревожиться и чуть ли не печалиться из-за тебя. Негоже, неестественно двум молодым людям, как вы с мужем, жить порознь.
Отвечая, она взяла руку Марджори в свои и с любовью ее поглаживала. Марджори отвернулась от нее, а бросив на меня взгляд из-под ресниц, и от меня тоже. Миссис Джек продолжала свою серьезную и нежную нотацию для девушки, которую так любила и которую вырастила. Так не мать поучает дитя – так пожилая женщина дает совет молодой:
– О! Марджори, дорогая моя, когда женщина берет себе мужа, она отдает себя. Это и правильно, и к лучшему для нас, женщин. Как нам приглядывать за мужчинами, если все время думать о себе! А пригляд за ними нужен, уж поверь моему опыту. Ведь они всего лишь мужчины, голубчики наши! Твое воспитание, дитя мое, не привило тебе потребности в них. Но ты бы сама все поняла, если бы в детстве побывала на равнинах и в горах, как я, если бы утром, провожая папу, или брата, или мужа, не знала, увидишь ли их вечером снова – или увидишь только, как их принесут. А потом, когда окончена работа, или стычка, или что бы то ни было, и смотришь, как они возвращаются домой грязные, потрепанные и голодные, а то и больные, и раненые – в мое время индейцы наделали много бед со своими старыми добрыми луками и новыми скверными ружьями, – где еще нам быть? Или что за женщины мы были бы, если б не приготовили все к их возвращению! Моя дорогая, полагаю, ты уже знаешь, что мужчина – это дело очень хорошее. Пускай он бывает сердитым, или властным, или неприятным, если на него вдруг что найдет, но все-таки он мужчина, за что мы их и любим. Я уже гадала, есть ли в тебе женские чувства, когда наблюдала, как ты день за днем отпускаешь от себя мужа и не пытаешься удержать, не идешь за ним, как делали в мое время. Уж поверь, странной показалась бы девушка в Аризоне, что, обручившись в церкви, отпускала бы вот так своего мужчину. Право, дорогая моя, я полночи не сплю в молитвах за вас обоих, благодаря Бога, что Он послал тебе такое счастье, как истинная любовь, когда тебе могли бы пустить пыль в глаза и воспользоваться твоей слабостью те, кто гонялся за твоим наследством. И когда в полумраке рассвета я заглянула к тебе и увидела, что ты не пришла, – право, я только вернулась на цыпочках к себе в постель и заснула счастливой. И была счастлива весь день напролет, зная, что счастлива и ты. А вчера ночью я просто сразу легла и уж не утруждалась тем, чтобы слушать, идешь ты или нет; я уже отлично знала, что дома тебя не будет. Ах! Дорогая моя, ты поступила правильно. Мало того, что теперь желания мужа – твои желания, раз вас стало двое. Но женщина обретает истинное счастье, лишь когда расстается со всеми своими желаниями и думает только о муже. И помни, дитя мое: разве ж это жертва – уж мы в мое время точно так не думали, – если женщина угождает любимому мужу, разделив с ним его дом.
Я слушал пожилую леди, переполняясь сильным чувством. Каждое ее слово казалось истиной в последней инстанции, и невозможно было усомниться в ее глубокой, искренней любви и в доброте ее намерений. Мне было страшновато взглянуть на Марджори, чтобы ненароком не смутить ее; я тихо отвернулся к камину, облокотившись на полку, и тайком смотрел в старое овальное зеркало над нею. Марджори сидела, не отнимая руки у миссис Джек. Ее голова была склонена, и шею и руки заливала краска, говорившая громче слов. Я чувствовал, что она молча плачет – или очень к этому близка, – и ком встал у меня в горле. Настал один из переломов в ее жизни. Так я почувствовал, и знал, что это правда. Все мы, как говорят шотландцы, dree our own weird[47]47
Выдерживаем свою судьбу (шотл.).
[Закрыть], и эту битву с собственной душой Марджори должна была выдержать одна. Мудрые слова пожилой женщины звучали словно трубный призыв долга. Марджори столкнулась с ним лицом к лицу и теперь должна была рассудить все для себя сама. Я не мог ей помочь даже со всей своей любовью. Я молча стоял, боясь вздохнуть, чтобы не потревожить и не отвлечь ее. Я пытался вовсе стушеваться и несколько минут не глядел даже в зеркало. Пожилая дама тоже знала цену молчанию и сидела неподвижно: ее платье – и то не шуршало. Наконец я услышал вздох Марджори и взглянул в зеркало. Ее положение не изменилось, она разве что подняла голову – и по ее гордой стати я видел, что она снова владеет собой. Лицо она все еще прятала; и в ее прелестном голосе еще звенели слезы, когда она нежно обратилась к миссис Джек:
– Спасибо, дорогая. Я так рада, что вы говорили со мной с такой открытостью и любовью.
Я видел по движению ее рук и по побелевшим костяшкам, что она стискивает пальцы компаньонки. Затем, немного погодя, она молча поднялась и, по-прежнему пряча взгляд, тихо выскользнула из комнаты в своей изящной манере. Я же не шелохнулся: я чувствовал, что больше ее порадую, храня молчание.
Но – о! – за ней отправилось мое сердце.
Глава XXXIX. Нежданный гость
Желая прикрыть уход Марджори, я несколько минут беседовал с миссис Джек о пустяках с той беспечностью, какую только мог на себя напустить. Не имею ни малейшего представления, о чем мы говорили, – только знаю, что славная старушка сидела и улыбалась мне, задумчиво поджав губы, и продолжала вязать. Что бы я ни сказал, она со всем соглашалась. Больше всего меня подмывало пойти за Марджори и утешить ее. Я видел, что она в смятении, хотя и не знал его силы. Но я терпеливо ждал, не сомневаясь, что, когда пожелает, она либо придет сама, либо пошлет за мной.
Вернулась она, должно быть, очень тихо, чуть ли не на цыпочках, поскольку я не слышал ни звука, когда увидел ее в дверях. Она поманила меня, но так, чтобы этого не заметила миссис Джек. Я уже хотел было тихо последовать за ней, но она предостерегающе подняла пять пальцев, и я понял, что сперва должен выждать пять минут.
Я тихо ушел, гордый тем, что миссис Джек не заметила моего ухода, но, задумавшись потом, пришел к выводу, что тихая пожилая дама знала намного больше о том, что творится вокруг, чем казалось. Не раз я с тех пор вспоминал ее наставление Марджори об обязанностях жены.
Марджори я нашел, как и следовало ожидать, в женской комнате. Когда я вошел, она смотрела в окно. На миг я заключил ее в объятья, и она положила голову мне на плечо. Затем отстранилась и жестом пригласила сесть в большое мягкое кресло. Когда я устроился, сама она взяла небольшой табурет и села у моих ног. Так мне пришлось смотреть на нее сверху вниз, а ей на меня – снизу вверх. Часто, часто потом я вспоминал, что за картину она собой являла во всей своей нежной и изящной простоте. Хорошо это помню, ибо потом многими мучительными часами каждый пустяк того дня, даже самый мелкий, гравировался в моей памяти. Марджори облокотилась одной рукой на мой подлокотник, а вторую руку вложила в мою нежным доверчивым жестом, растрогавшим меня до глубины души. После того как мы попали в беду двумя ночами ранее, она была со мной очень, очень добра. В моем отношении к ней не осталось ничего эгоистического, лишь настолько чистая любовь, насколько это возможно мужчине. Ей хотелось поговорить: я видел, как тяжело ей это дается, как вздымается ее грудь, словно ныряльщик делает глубокие вдохи перед погружением.
Затем она взяла себя в руки и с бесконечной грацией и нежностью заговорила:
– Боюсь, я была очень эгоистична и нечутка. О! Да, так и есть, – прервала она мои возражения. – Теперь я это знаю. Миссис Джек права. Мне и в голову не приходило, как грубо я себя веду, а ты был со мной так любезен, так терпелив. Что ж, дорогой, с этим кончено! Хочу, не сходя с этого места, сказать, что если ты пожелаешь, то я уйду с тобой хоть завтра – сегодня же, если скажешь, – и мы всему миру объявим о нашем браке и заживем вместе.
Она замолчала, и мы сидели, держась за руки и сплетя пальцы. Я хранил молчание со спокойствием, самого меня поразившим, ведь мысли мои пребывали в смятении. Но откуда-то ко мне – как, очевидно, и к ней – пришло чувство долга. Как мог я принять такую нежную жертву? Сама серьезность того, как она готовилась к этим откровениям, показывала, что ей претит покидать избранный курс. В том, что она меня любит, я и так не сомневался: разве не ради меня она была готова пожертвовать всем? И тогда я ясно увидел перед собой путь.
Поддавшись чувствам, я вскочил и заговорил, зная, что, каким бы большим и сильным мужчиной я ни был, правит мной эта самоотверженная красавица – ведь она для меня больше моих собственных пожеланий, моих надежд, моей души:
– Марджори, ты помнишь, как воссела на трон в пещере и посвятила меня в рыцари? – Она утвердительно склонила голову; ее глаза потупились, лицо и уши залило розовой краской. – Что ж, когда ты нарекла меня своим рыцарем, а я произнес клятву, я не шутил! Для меня то, как ты коснулась моего плеча, значит больше, чем посвящение от самой королевы со всей ее славной тысячелетней родословной. О, дорогая моя, я говорил искренне тогда, как говорю искренне теперь. Я был и есть твой верный рыцарь! Ты – моя дама сердца; рыцарю надлежит служить и делать все, чтобы поступь дамы была легка и не отягощена ничем! Какой соблазн – взять то, что ты мне предложила, и разом уйти в рай нашей новой жизни. Но, дорогая! Дорогая! Соблазн делает меня эгоистом, а мне нельзя думать только о своих желаниях. С тех пор как я увидел твое лицо, я живу мечтой, что настанет время, когда ты, перед кем расстилается весь мир, придешь ко мне по собственной воле. Когда не оглянешься с сожалением ни на что сделанное или несделанное. Я хочу, чтобы ты была счастлива, смотрела только вперед – разве что, оглядываясь, ты и позади себя видишь счастье. Так вот, если ты откажешься от собственных целей и пойдешь со мной с чувством, будто всего лишь сделала выбор, тогда сожаление обо всем упущенном, о вожделенных возможностях, будет только расти и расти, пока… пока не разрастется в несчастье. Позволь процитировать. «Вспоминайте жену Лотову»[48]48
Евангелие от Луки 17: 3.
[Закрыть] – это не просто предупреждение об одном случае, это великая аллегория. Мы с тобой молоды, мы оба счастливы, перед нами весь мир и неисчислимо поводов благодарить Господа. Я хочу, чтобы ты наслаждалась всем этим без остатка; и, дорогая моя, я не встану на пути любых твоих желаний. Будь свободна, Марджори, будь вполне свободна! Я хочу, чтобы девушка, которая хранит мой очаг, была той, кто не променяет его больше ни на что во всем белом свете. Разве не стоит этого желать, разве не стоит этого ждать? Возможно, это эгоизм превыше всех эгоизмов – пожалуй, так и есть. Но все же это моя мечта, и я люблю тебя так истинно и неколебимо, что не боюсь ждать!
Во время моей речи Марджори смотрела на меня со все большим и большим обожанием. И вдруг она не выдержала и заплакала так, точно вот-вот разорвется ее сердце. Это тотчас лишило меня всякого самообладания – я принял ее в объятья и пытался утешить. На нее дождем обрушились поцелуи и добрые слова. Наконец она успокоилась и, мягко отстранившись, сказала:
– Ты и сам не знаешь, как хорошо сказал. Я, как никогда в жизни, близка к тому, чтобы отказаться от своих планов. Подожди еще немного, любовь моя. Всего чуть-чуть – быть может, меньше, чем ты думаешь. Но выслушай для своего утешения сейчас и для памяти – на годы вперед: за всю жизнь, что бы ни случилось, я никогда не забуду твоей доброты, твоего великодушия, твоей любви, твоего понимания… твоего!.. Но да, ты и в самом деле мой рыцарь, и я люблю тебя сердцем и душой! – И с этими словами она снова бросилась в мои объятья.
Когда я выехал из Крома после обеда, погода изменилась. В воздухе чувствовался холод, подчеркивающий шуршание сухой листвы, носимой частыми порывами ветра. Нависало предчувствие чего-то мрачного – беды, горя, – хотя я не знал почему. Расставаться с Марджори не хотелось, но мы оба сочли необходимым, чтобы я ушел. Я не забирал почту вот уже три дня, к тому же предстояло позаботиться о тысяче мелочей в уиннифолдском доме. Более того, мы вспомнили о сокровище, перенесенная часть которого – самоцветы – лежала почти на виду в столовой. Мне не хотелось тревожить Марджори собственными смутными страхами: я знал, что ее нынешнее приподнятое настроение и без того неизбежно омрачится. В тиши ночи еще нахлынет воспоминание об испытаниях и переживаниях прошлых дней. Впрочем, новым взором супружеской любви она сама разглядела, что я о чем-то волнуюсь.
Верно угадав, что это касается ее, она тихо произнесла:
– Не тревожься обо мне, любимый. Я обещаю, что ни ногой не ступлю из дома до твоего приезда. Но и ты приезжай завтра как можно раньше, непременно. Почему-то мне не нравится, что ты теперь покидаешь меня. Прежде я не возражала, но сегодня словно все изменилось. Мы уже не те, что прежде, верно же, – с тех пор как нас затопила вода во тьме. Однако я буду послушной. Мне предстоит много своих дел и писем, и время до возвращения моего мужа не будет ползти так мучительно, не покажется долгим.
О! Видеть нежное выражение в ее глазах, видеть любовь, что в них сияла, слышать деликатную воркующую музыку ее голоса. Я уходил, а сердце словно летело обратно к ней и с каждым шагом все сильнее и сильнее натягивало свою привязь – на разрыв. Когда я оглянулся на повороте дороги, петляющей между елей, последнее, что видели мои увлажнившиеся глаза, – взмах ее руки и блеск ее глаз, сливающиеся в один блик белого света.
В своих комнатах в гостинице я нашел множество деловых писем, кое-что – от друзей. Но одно погрузило меня в размышления. Оно было написано рукой Адамса, без указания даты и места, и гласило следующее:
«Людям в Кроме лучше поберечься своих слуг! Один лакей часто выходит в темноте и возвращается незадолго до утра. Возможно, он с врагами заодно. Во всяком случае, как и где выходит и заходит он, могут выходить и заходить и другие. Verb. sap.[49]49
Сокращение от verbum sapienti sat est – «умному достаточно» (лат.).
[Закрыть] А.».
Значит, за нами следили, причем сыщики Секретной службы. Я порадовался, что Марджори обещалась не выходить до моего возвращения. Если ее видели «люди Мака», могли видеть и другие, а глаза других могли оказаться проницательнее, или их логика – вернее. Так или иначе, я счел благоразумным послать ей весточку с предупреждением. Я переписал письмо Адамса, добавив от себя всего пару слов о любви. Как же я поразился, обнаружив, что у меня вышло несколько страниц! Мальчик в гостинице повез его на тележке, запряженной пони, с указанием доставить ответ на Уиннифолд. Для безопасности я адресовал конверт миссис Джек. Затем, написав несколько заметок и телеграмм, я поехал на велосипеде в свой дом на утесе.
День стоял мрачный, и все было серо – как небо, так и море, и даже сами скалы с их венцами из черных водорослей под пеной бьющихся волн. В доме ничего не изменилось, но без огня и с раскрытыми шторами было так мрачно, что я запалил поленья и задернул окна. Стоя в эркере и глядя на тревожное море и прислушиваясь к свисту крепнущего ветра, я ощутил, как меня охватывает великая меланхолия, и затерялся в сумрачном тумане. Сколько помню, мои мысли были о времени, когда я увидел, как из моря за Скейрс поднимается процессия мертвых, и об испанце со свирепым взглядом – единственном в их рядах, взглянувшем на меня живыми глазами. Должно быть, я с головой ушел в свои мысли и не замечал ничего вокруг, поскольку, хоть я никого и не увидел на дороге, вдруг вздрогнул от стука в дверь. Стучали кулаком. Я решил, что это не иначе как мальчик, вернувшийся из Крома, поскольку больше никого не ждал, и немедленно открыл дверь. И отшатнулся в полном изумлении. Там, исполненный серьезности и внутреннего достоинства, самим воплощением слова «джентльмен» высился дон Бернардино. Его глаза, хоть безмятежные и даже ласковые, были глазами того мертвеца из моря. В нескольких футах позади него стояла Гормала Макнил с нетерпеливым выражением лица, плохо прикрытым такой ухмылкой, что я почувствовал себя в ловушке или в чем-то виноватым.
Испанец тут же заговорил:
– Сэр, приношу свои извинения! Я бы очень хотел потолковать с вами наедине, и как можно скорее. Простите, что тревожу вас, но это дело такой важности – по крайней мере, для меня, – что я решился на подобное вторжение. В гостинице я узнал, что вы удалились сюда, и с этой доброй дамой в провожатых, немало мне рассказавшей, нашел вас. – Говоря о Гормале, он встал в полуобороте и указал на нее. Она ловила каждое наше движение с кошачьим любопытством, но, как только разговор зашел о ней, на ее лице сгустились тучи и она двинулась прочь. Испанец продолжил: – То, что я имею сказать, – секрет, и я хотел бы остаться с вами наедине. Можно ли мне войти к вам или вам – ко мне? Я имею в виду не свой замок Кром, а дом в Эллоне, где я остановился, покуда не изволят съехать сеньора Джек и ее достославная патриотка.
Его манеры были серьезны и учтивы, а вид столь благороден, что я нашел почти невозможным ему не доверять, хоть в моей памяти и промелькнул его мрачный огнеглазый лик в Кроме, так явно напомнивший покойного испанца с живым взглядом ненависти в процессии привидений из вод Скейрс. Так или иначе, решил я, не повредит его выслушать; в конце концов, «предупрежден – значит вооружен» – золотая апофегма, когда имеешь дело с врагом. Я жестом пригласил его в дом – он сурово поклонился и вошел. Закрывая за нами дверь, я заметил, как к дому споро подкрадывается Гормала с нетерпением на лице. Очевидно, ей хотелось быть поближе, чтобы увидеть – и по возможности услышать – как можно больше.
Когда я открывал перед доном Бернардино дверь кабинета, внезапный взгляд внутрь в тусклом свете, падающем сквозь щели в ставнях, изменил мои планы. Эту комнату я превратил в гардеробную Марджори, и повсюду на спинках стульев сушилась одежда, в которой она спускалась в пещеру. Были на столе и ее туалетные принадлежности. Я почувствовал, что пускать туда незнакомца нетактично по отношению к моей жене, к тому же в какой-то мере это даст врагу подсказку о нашем секрете. Со спешным извинением я закрыл дверь и пригласил гостя в столовую в другом конце коридора. Предложив сесть, я подошел к окну и раздвинул шторы, чтобы пролить свет. Отчего-то на свету я чувствовал себя спокойнее – и думал, что он позволит узнать больше, чем тусклые сумерки зашторенной комнаты.
Повернувшись, я увидел, что испанец все еще стоит лицом ко мне. Он словно сознательно держался неподвижно, но я видел, как его глаза под длинными черными ресницами так и рыщут по комнате. Я машинально проследил за его взглядом и увидел пугающий беспорядок. Большой камин набит выгоревшим пеплом, стол заставлен немытыми чашками да тарелками, поскольку мы не прибрали за собой после ночи в пещере. На полу неопрятно свалены ковры и подушки, и в душной атмосфере давали о себе знать застоявшиеся объедки на столе. Я двинулся было, чтобы раскрыть окно и проветрить, как вспомнил, что у стены снаружи наверняка дежурит Гормала, у которой ушки на макушке, и ловит каждое наше слово. И вместо этого я извинился за беспорядок, сказав, что сидел здесь взаперти несколько дней, работая над книгой, – этим же я оправдывал периоды своего одиночества в гостинице.
Испанец с торжественной любезностью поклонился и уверил, что в извинениях нет нужды. Если что-то и неладно – хотя он этого не видит, – то все недостатки унесла и проглотила та волна благородства, захлестнувшая его, когда я разрешил войти в дом, и все в таком духе.
Затем он посерьезнел и перешел непосредственно к делу.