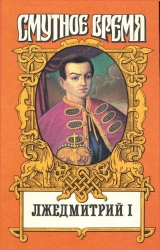
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
– Ай деньги нет, так какого ляда прешь?
И взашей Варлаама.
Мужик голос подал:
– Пусти его. Эй, святая душа, садись с нами.
Варлаам скуфейку долой, подсел к мужикам. Вытащил из накинутого поверх власяницы тулупчика ложку, облизнул.
– Во, скорый, – рассмеялись мужики. – Ты из какого монастыря-то такой шустрый?
Варлаам подморгнул.
– На Белоозере ноги морожу, в Киев-граде, в лавре Печерской, поклоны бью, в московских обителях с игуменами споры веду, по миру псалмы пою, а увиденное при себе держу!
Мужик в стороне в разговоры не вступал. Услышал Варлаамов ответ, подморгнул:
– Люблю бродяг духовного сана. Коли негде голову преклонить, не откажу.
Зачерпнув щей из миски, Варлаам спросил:
– Где сыскать тебя, мил человек?
– Мельник я, а мельница моя на Неглинке. Знать, видал напротив Кутафьей башни Кремля? Приходи, живи до лета, только чур при завозе помогать, а на досуге байки мне сказывать будешь, где хаживал, чего повидал.
* * *
Еще царь Иван Грозный учредил стрелецкое войско. С той поры, если возникали воинская нужда, дети боярские и дворяне собирались в поместное ополчение, а пожизненную службу несли лишь стрельцы с пушкарями да казаки.
В стрельцы набирали из посадского люда. Селились стрельцы отдельными слободами, и платили им жалованье: в Москве – денежное и хлебное, в малых городах – земельное. Хлеба и денег стрельцам доставалось не всегда и не вдосталь, потому и дозволялось им промышлять торговлей и ремеслами.
От отца к сыну передавалась стрелецкая служба, и была она особенно хлопотной в южных, порубежных городках, где стрельцы и казаки закрывали дорогу на Русь крымской орде.
Московские же стрельцы государева опора, его охрана, так исстари повелось, иного они не признавали.
* * *
Всеми делами государевыми на Руси ведали приказы: военный – Разрядный; служилых людей наделял поместьями приказ Поместный; были приказы Посольский и Оружейный, Пушкарный и Челобитный… А был еще приказ особый, Разбойный: он воров и иных государевых преступников искоренял.
В то утро боярин Татев явился в Большой приказ поздно. За столиками-аналоями, согнувшись, стояли дьяки и подьячие, скрипели перьями. Старший над ними дьяк Любим засеменил за боярином.
У Татева взгляд ершистый, колючий.
– Чего увязался, Любимка?
– Стрелецкий наряд полковника Гришки Микулииа числом в семь душ, из Кремля в слободу ворочаясь, поносил государя. «Он, – сказывал, – вор и расстрига, наши деньги шляхте и немцам дарит. Пригрел иноземцев, нас, стрельцов, не признает…» Ябедник Щур донос притащил. Он тех стрельцов пофамильно назвал.
– К чему донос взял? На то приказ Разбойный!
– Послежу, боярин.
– И ладно, Любимка. Я же к государю сей часец.
* * *
В государевой книжной хоромине книг множество. Каждая книга, каждый свиток свою премудрость таят. Любил Отрепьев порыться в них.
Однажды на глаза попался лист пергамента. На нем карта нарисована. Вот Москва с городами иными; на дальнем севере, у самого Студеного моря, прилепился городок Архангельск; на юге, где начинается степь, городки Воронеж, Борисов… А это Киев, Чернигов, Путивль, Тула… Его, Отрепьева, дорога, какой шел на Москву…
Водил Григорий пальцем по пергаменту, разглядывал. Добрался до рубежей государства Российского, за ними Речь Посполитая. Перевел глаза наверх – на землю Свейскую наткнулся; вниз опустил – Крым ордынский. А за морем Оттоманская Порта…
Григорий головой тряхнул, спросил стоявшего за спиной Голицына:
– Кем, князь Василий, сия карта рисована?
– Федором Годуновым, государь.
Отрепьев свернул пергамент, положил на полку.
– Отменно выписал. Разве только с Киевом наврал. Искони русскую землю к Речи Посполитой отнес. Хоть она нынче в самом деле у ляхов, но наступит час, когда вернет ее Русь!
Помолчал. Голицын тоже ни слова. Вышел Отрепьев из книжной хоромины, на ходу сказал Голицыну:
– Карту эту надо беречь, умна. И в ней труда много.
Увидел боярина Татева, спросил:
– С дурными вестями, боярин?
– Угадал, государь, – вздохнул Татев.
– Я от тебя иного не жду. Ну, сказывай.
– Сызнова о речах непотребных.
Вошел Басманов. Григорий Отрепьев к нему повернулся:
– Аль в Разбойном приказе приставов нет и палачи перевелись?
Татев Басманова опередил:
– Всего, государь, достаточно, и ябедников и палачей скорых, да болтают не кто-нибудь, а стрельцы. Люди полка Микулина языки развязали.
– Эвона? – прищурился Григорий и уставился на Басманова. – Что делать, Петр?
– Казнить! – жестко ответил Басманов.
– Слыхал, боярин? – повернулся Отрепьев к Татеву. – Тех стрельцов в железо возьми, и пусть они свое сполна получат.
…Стрелецкая слобода гудела потревоженным муравейником. Семерых стрельцов в Разбойном приказе держат.
Об этом полковому голове Григорию Микулину Шерефединов рассказал.
В толк не возьмет Микулин: в чем провинились его стрельцы?
Собрался Шерефединов уходить, как в дом к Микулину шумно ввалился Гаврила Пушкин, сапоги в грязи, с шубы вода потоками.
– Ну, хозяин, погода заненастилась. Апрель!
Увидел Шерефединова, обрадовался:
– И ты здесь? Велено вам к государю поспешать…
Отрепьев с Басмановым уже в подземелье наведались, посмотрели, как стрельцов пытают, ответы их послушали.
Помыл Григорий Отрепьев руки в серебряном тазике, а у Басманова полотенце наготове.
– Может, отпустим стрельцов, Петр? Чать, они с дури злословили?
Басманов плечами пожал:
– Воля твоя, государь! Однако этих пощадишь – другим повадно будет. Нет уж, казни.
Заглянул Голицын:
– К тебе, государь, стрелецкий голова Микулин и дьяк Шерефединов.
– Допусти!
Грозно встретил Отрепьев Микулина и Шерефединова:
– Стрельцы на государя хулу кладут!
– Государь, – Микулин изогнулся в поклоне. – В том нет на нас вины.
– Знаю, оттого и не у палача ты. Однако нагляделся я на твоих молодцов, храбры до дыбы. Ступайте оба в пыточную, дозволю вам муки их укоротить.
А народ про Микулина и Шерефединова страхи рассказывал: они в пыточной стрельцов саблями порубили.
В печали Стрелецкая слобода. Такое здесь впервые. Голосили по мужьям жены убитых, стрельцы Микулина проклинали, грозили. А у того ворота на запорах и собаки с цепей спущены – попробуй сунься.
Микулин и Шерефединов медовухи упились, друг друга подбадривают, сами себя оправдывают:
– Бабы, они и есть бабы, повоют, уймутся!
– Стрелецкая служба – государева, не позорь стрелецкого звания!
* * *
С терского рубежа воевода доносил: казак Илейко, назвавшись царем Петром, с ватагой гулящего люда Каспием уплыл в низовья Волги-реки.
Из Разбойного приказа от царского имени отписано астраханскому воеводе, дабы он того лжецаревича Петра изловил и в Москву, как государева злодея, доставил.
На том и успокоились.
А Илейко вскорости о себе знать дал.
По весне добрались в Москву два бухарских купца – не челобитной в царские палаты. Упали Отрепьеву в ноги, лопочут по-своему.
Покликали из Посольского приказа толмача, тот перевел. Гости бухарские на царя Петра жалуются, он их караван у Астрахани-города пограбил.
Купцам на обратную дорогу денег из казны выдали, а к астраханскому воеводе с суровым государевым письмом послали Наума Плещеева. И в той царской грамоте говорилось: «…разбойники у тебя, воевода, под носом озоруют, бесчинствуют… И коли ты воров извести не можешь, не смей воеводой именоваться».
* * *
Баню истопили.
Холопки хмель и мяту, с весны сушенную, в углу подвесили, и оттого по парной дух сладкий, до головокружения. Особенно когда на полке лежишь.
Государь с Басмановым парились, березовыми веничками друг дружку стегали усердно. Знатно!
Отрепьев уселся на скамью, принялся растирать больную ногу. Басманов кивнул:
– Давно ль?
Григорий догадался, о чем спрашивает.
– Когда от Годунова прятали, тогда и повредили.
У Басманова в бороде ухмылка хитрая. Горазд врать самозванец. Эко байки сказывает. Подумал: «Неужли сам-то верит, что царского корня? Кто внушил ему такое?»
Отрепьев разговор переменил, сказал раздраженно:
– Седни от Афоньки Власьева письмецо. Воевода с рыцарями плетутся с промедлением. По городам неделями бражничают. Этак они мне невесту к лету бы привезли. Наказал дьяку так и отписать Мнишеку.
Басманов заметил:
– Да ты, государь, без бабы не истоскуешься!
Отрепьев голову поднял, посмотрел на Басманова строго. Тот как ни в чем не бывало веничком по бокам себя хлещет, наслаждается. Григорий, однако, не рассердился, только и проворчал:
– Будя болтать, Петр, распустил язык. Говаривал как-то, люблю тебя, за то и прощаю.
Повернулся спиной к Басманову, сполоснул в бадейке голову, сказал:
– Вытри мне спину, Петр, одеваться пора. Что-то оголодал я и пить страсть охота.
* * *
Каменные годуновские хоромы в Вязьме ожили. Челядь полы выскоблила, паутину со стен обмела, а на постели новое чистое белье постелила. Покуда Мнишек с Вишневецким и с послами короля в Москву к царю отправились, царская невеста в годуновских хоромах жила.
В хоромах печи гудели весело. В просторной палате жарко горели в камине березовые поленья. Марина ноги к огню протянула, на пламя уставилась. Почти до Москвы доехала, а первый камин на Руси увидела здесь.
Позади Марины молчаливо замер Ясь, верный ее рыцарь, влюбленный в свою госпожу.
Марина вскинула голову. Смеются большие карие глаза.
– Мой коханый пан Ясь, не надо страдать. Але я гоню тебя?
Шляхтич преклонил колено. Марина положила ему руку на голову, потрепала волосы.
– Добже. У пана Яся еще будут утехи. Я обещаю оставить его моим рыцарем, даже когда сделаюсь царицей Московии.
Ясь покраснел, а Марине потешно. У нее нет любви ни к Димитрию, ни к Ясю, но шляхтич красив и статен, не то что царь московитов. Ясь для Марины забава, и она играет им, когда того захочет.
Городок Вязьма маленький и тихий. Над ним возвышается шатровая церковь, построенная при Годунове. Посадский люд кто чем промышляет: одни кожи мнут, другие горшечники либо кузнецы, а иные плотницким ремеслом занимаются.
Торг в Вязьме редкий, по воскресеньям, и то утром, на зорьке.
Как приехала Марина в город, бояре поднесли ей подарки, и больше царская невеста не пожелала их видеть. Скучно с русскими боярами, музыка им грех, танцы – непотребство бесовское.
Марина зевнула:
– Пан Ясь позовет своей госпоже музыкантов?
Ввалились шляхтичи со скрипками и бубнами, литаврами и трубами. Заиграли, и вмиг во всех хоромах сделалось весело, шумно. Свистели паны, ногами притопывали.
Мужик внес охапку дров, сложил у камина и, пятясь, вышел. За дверью вздохнул, перекрестился:
– О Господи, срамно и непотребно живет государева невеста.
* * *
Лед еще с вечера посинел, стал ноздреватым, рыхлым, а к рассвету тронулся. Начался на реке треск необычный, будто из пищалей стрельцы пальбу подняли.
Варлаам власяницу натянул, накинул поверх шубейку, выскочил вслед за мельником. Из изб и хором бежал к Москве-реке люд. Каждому охота увидеть, как пошла вода.
Задвигалось ледяное поле, гудит, грохочет. Полезла глыба на глыбу. Народ собрался, крик, гомон. Какой-то мужичонка со льдины на льдину козлом запрыгал.
– Эй, Лукашка, нырнешь!
– Он купель принять желает!
На берегу немцы и ляхи появились, посмотрели, как московиты ледоходу радуются. Им не понять, отчего русские веселятся. Постояли недолго, озябли, ушли.
Мельник крикнул Варлааму:
– Теперь урожаю бы! Ино ладно заживем…
На реке разводы образовались, на глазах ширились.
Шустрый малый уже лодку с берега тянул, орал:
– Перево-оз!
Агриппина стояла а легком зипунишке, продрогла. Варлаам шубейку с себя снял, ей на плечи накинул.
– Инок, инок, – засмеялся мельник, – а за девкой ухаживаешь!
Зазвонили к заутрене, затеяли колокола перекличку по всей Москве. С реки народ расходился. Варлаам в собор Покровский заглянул – богомольцев не густо. На торгу тоже малолюдно, лавки редко какие открыты. В мясном ряду туши висят, кровавеют, птица битая. Пирожницы и сбитенщики на разнос торговали, зазывали. Сердобольная баба протянула Варлааму кусок хлеба. Съел монах, сытней брюху.
Два сбитенщика меж собой разговор затеяли:
– Аль не знаешь, государева невеста завтра прибудет?
– Ужо поглядим, что за птица латинянка.
– Да нам какое дело, чать, не тебе в женки. А вот слух имею, будто государь ради такого случая повелел насытить люд из царской поварни.
– Может, так, как при Борисе Годунове: один ест, десять в рот заглядывают. Поди, голодные лета еще не запамятовали!
– Не мели! Учует ябедник аль пристав, палачу ответствовать будешь.
Не стал Варлаам дослушивать сбитенщиков, с мыслью сладкой в голове – авось завтра удастся поесть – выбрался из торговых рядов, почесал ухо да и направился в Кузнецкую слободу.
* * *
Не забывала Агриппина Артамошку, жалела: в самые лютые холода из дому подался невесть куда. Где обогревается, где приют найдет?
С уходом Артамошки редко стучал молот в кузнице. Много ли Агриппине одной надо?
Зимними ночами не раз думала она об Артамошке: разлука с ним страшила ее.
Весна наступила дружная. Подул ветер с юга, и сразу пахнуло теплом. Снег стал сырым, рыхлым, начал подтаивать, и из-под осевших как-то враз сугробов потекли по улицам звонкие ручьи.
Сходила Агриппина полюбоваться на ледоход, вернулась – на душе холодно. Открыла кузницу, разожгла в горне угли, мехи покачала, раздула огонь и положила в него лемешок. На прошлой неделе упросил знакомый крестьянин починить соху – время пахать.
У кузницы кони заржали. Глянула Агриппина и обмерла: гайдуки с толстым, как бочка, гетманом уже спешились, в кузницу направились.
– Пан гетман, – закричал молодой гайдук, – це не кузнец, це баба!
Переваливаясь на кривых ногах, гетман Дворжицкий втиснулся в кузницу и, подергивая сивые усы, двинулся на Агриппину. Говорил, путая русские слова с польскими. Поняла Агриппина, этот толстый пан хочет, чтобы она подковала их коней. Не успела ответить, а гетман-бочка под смех гайдуков обнял ее, целует. Вырвалась Агриппина, тут гайдуки подскочили, руки к ней тянут, щиплют больно, хохочут.
Тем часом к кузнице Варлаам подходил. Еще издали учуял беду, заспешил Агриппине на подмогу. Вбежал в кузницу, поднял посох:
– Господи, прости!
И ударил что было силы. Хрястнуло дерево. Гайдуки от Агриппины отскочили, на монаха накинулись.
– Собачий сын! – закричал гетман Дворжицкий.
Повалили гайдуки инока, долго били, топтали. Потом, бранясь, сели на коней, ускакали.
Подняла Агриппина Варлаама. Тот охал, трогал пальцем синяки, крутил головой.
– Ох, ох, за грехи мои караешь меня, Господи! Разбойное войско привел царевич Димитрий в Москву… – Подобрав посох, сказал, сожалея: – Полсвета с тобой исхожено, а поломал в Москве, о панскую голову.
– Не печалься, Варлаам, я тебе железный посох сделаю, – улыбнулась Агриппина.
* * *
Едва раскрылись кремлевские ворота, как, толкая друг друга, ринулся к царским хоромам нищий люд. Осадили царскую поварню, галдят. Варлаам на цыпочках приподнялся, тянет шею, заглядывает, не проворонить бы, когда кормить начнут. У инока Варлаама миски нет, да и то не беда, к кому-нибудь пристроится.
Из поварни голоса стряпух доносились, вареным пахло, дразнило голодный народ. Из царских хором показался Голицын. За спиной князя стрельцы стеной. Надвинулись на толпу.
– Прочь! – заверещал Голицын. – Не тревожьте государев сон! Кто еду сулил, тот и подаст!
И загуляли бердыши по нищему люду.
* * *
– Эй, люди добрые, царская невеста едет! – Приставы стучали палками по воротам, барабанили в двери. – Встречать!
Марина Мнишек от Москвы еще верстах в двадцати была, а в городе уже тьма народу. Кто не пожелал, того приставы силком погнали.
Агриппине недомогалось, однако пристав нашумел на нее:
– Глупая баба, и хвори твои не ко времени! Царя указ – и ничего иного не ведаю.
День, хоть и май, сырой да пасмурный. Дождь то припускал, то переставал. Народ вдоль дороги теснился. Агриппина забилась в середину толпы, все теплей.
По другую сторону дороги – царское войско: стрельцы пешие, казаки и гайдуки конно. На стрельцах и казаках кафтаны красного сукна, белые перевязи через грудь.
За войском золотой царский шатер, на карауле немцы капитана Кнутсена. У царского шатра бояре и паны вельможные собрались. Тут же музыканты, поляки и литвины. Народ плевался:
– Не попами невесту встречают, а бесовским хороводом.
Едва невестин поезд завиднелся, ударили бубны, зазвенели литавры. Бояре и паны навстречу невесте тронулись. Идут по дорогим коврам, как по луговой траве ступают. Братья Ракитины и выборные от ремесленного люда всех опередили, уже преподнесли Марине сотню соболей и пояс золотой.
Ввели бояре невесту в золотой шатер, сказал князь Мстиславский:
– Вся земля русская бьет тебе челом.
Толмач слова князя перевел Марине, она заулыбалась. Усадили Марину в царскую карету и под музыку въехали в Москву. Впереди гайдуки дорогу расчищали от любопытного люда, а за каретой царской невесты кареты вельможных панов и бояр. Шляхтичи конно, отряд за отрядом, при оружии. В народе голоса раздавались:
– Никак, на рать собрались!
– Ого, целое войско Мнишеки в Москву привели!
– Выкуп за невесту заломят изрядный!
– Поди, русской землицей самозванец рассчитаться пожелает!
– Эй, кто там языком болтает?
Приставы в толпу кинулись выискивать, а народ над ними насмехается, будто невзначай толкает.
Смотрит Марина в оконце по сторонам. Издали увидела Кремль, и дух захватило. Стоит на холме, красуется зубчатыми стенами, башнями стрельчатыми. А из-за стен позолоченные главы церквей высятся, крестами резными украшены.
Звонко застучали копыта коней по вымощенной булыжником площади. Гайдуки народ по пути разгоняли, плетками хлестали. У кремлевских ворот музыканты дожидались. Заиграли трубы веселую плясовую, под нее и в Кремль въехали. Свернули к монастырю, остановились.
Подбежали бояре, засуетились, помогли Марине выйти. Мстиславский знак подал, и повели бояре Марину в монастырь на поклон к инокине Марфе.
* * *
Патриарх Игнатий, крепкотелый, цыгановатый, кровь греческая выдает, вышел из патриарших хором, остановился, дохнул широкой грудью. Накануне дни были ненастные, а вчера и сегодня небо очистилось и солнце припекает вовсю.
Переливались колокола, зазывая люд к обедне. В стройном звоне чуткое ухо патриарха уловило «камаринскую». Откинул волосы Игнатий, вслушался. Так и есть, на колокольне Покровского храма звонарь наяривал плясовую.
– Ах, богохульник, – покрутил головой патриарх, и не поймешь, гневался или восхищался он лихостью звонаря.
Опираясь на высокий посох, медленно двинулся к царским хоромам.
Попы уши прожужжали патриарху Игнатию: «Можно ли, чтоб невеста православного царя в вере латинской на Москве пребывала?»
Не столько для себя, сколько для этих попов и отправился Игнатий к царю.
От патриарших хором до царских рукой подать. Идет Игнатий, на первую зелень заглядывается. Вон травка пробилась, а на ветках клейкие почки лопнули, распустились.
Позади патриарха два чернеца следуют. У Красного крыльца взяли Игнатия под локотки. Он отстранил их:
– Без вас взойду!
В сенях чернецы на лавку уселись, а патриарх в Крестовую палату вошел. Басманов уже здесь был, встал:
– Благослови, владыко!
Патриарх перекрестил боярина, уселся в его кресло и, положив крупные руки на посох, проговорил, отдуваясь:
– Жениться пора, боярин Петр, аз тебе велю.
– И, владыко, еще невесты не сыскал.
– Знаю тебя, все проделки твои мне ведомы.
– Винюсь, владыко. Сними грехи с моей души.
– Аз прощу. Зри! – Игнатий приподнял посох, погрозил. Потом к Отрепьеву повернулся. – В грехе зачат человек, во блуде тело губит.
– Ты это к чему, отче? – спросил Григорий и вскинул брови.
– Боярину Петру в науку аз реку.
– Только ли с этим ко мне пожаловал, отче? Говаривай до конца, – прервал патриарха Отрепьев.
Игнатий вздохнул:
– Государь, попы ропщут. Уж лучше бы сидеть мне в своей митрополии, чем слышать их вой.
– Что им, скудоумным, надо? – нахмурился Отрепьев.
– Они, государь, желают, чтоб невеста твоя веру латинскую сменила.
– Отче, попы православные хотят видеть Марину в вере православной, а епископ Александр, папский легат, вчера меня уламывал не принуждать Марину менять веру. Каких же попов ублажать, посоветуй? То-то! По мне, отче, все едино, какой веры человек, какому Богу молится. Так и передай попам, кои на тебя насели. Я же Марину неволить не стану, какую изберет себе веру, в той ей и быть.
– Аз, сыне, согласен, – весело промолвил патриарх. – В думе царицы на Руси николи не сиживали, а на супружеском ложе один бес кому лежать – православной ли, католичке. О Господи, грешен аз, – перекрестился Игнатий.
Отрепьев смеялся долго, до слез.
– Ах, отче, ах, молодец! – приговаривал Григорий. – Вот за это и люб ты мне.
Отер глаза, посерьезнел.
– Тут меня, отче, иное волнует. И тебе, патриарх, знать надобно. С Мнишеками послы короля заявились. Догадываюсь, какие речи они поведут, сызнова будут Смоленск требовать. Вот и думаю я, отче, как и Сигизмунда не обидеть, и землю русскую удержать? Об этом и рядимся с боярином Петром.
– Мирские заботы, Господи, – Игнатий подхватился. – Кесарю кесарево, сыне… Ты государь. Пойду, ее буду мешать вам.
* * *
Назначил государь думу. Позвали на прием воеводу Мнишека и послов короля.
А накануне собрались у патриарха ростовский митрополит Филарет и коломенский Алексий, да случаем оказался здесь архимандрит Пафнутий. Сначала все мирно переговаривались, а потом у Алексия с Игнатием перебранка началась. Они издавна не мирились, еще с той поры, как Игнатий архимандритом в Рязани был.
Филарет поначалу к их спору не прислушивался, о своем размышлял. Сегодня видел он инока Варлаама. Не встречал с той поры, как тот из Ростова убежал. Окликнул, но бродяга монах так дернул от Филарета, словно за ним стая псов гналась.
А свара в патриарших покоях усиливалась. Митрополит Алексий и патриарх Игнатий друг друга уже непотребными словами обзывали, петухами один на другого наскакивали. Алексий мал, тщедушен и голоском козлиным блеет, а Игнатий широкоплечий, высокий, говорит басом;
– Замолкни!
– Вишь, чего взалкал!
– Не доводи до греха, Алексий! – гремит Игнатий.
– Тебе ли, Игнатий, греха опасаться? Ты и на патриаршество обманом, хитростью пролез! Не желаю признавать тебя! – визжал Алексий.
Игнатий ухватил его за грудь.
– На святом соборе сана лишу…
– Созывай, созывай собор, сатана, иуда. Докажу, ты иезуитам служишь!
Игнатий посох занес, острием в самый глаз митрополиту целит. Архимандрит Пафнутий вокруг бегает, ладошками всплескивает.
– Ахти Господи, убьет.
– Стыдоба! – подал голос Филарет.
Подскочили чернецы, отвели Игнатия от митрополита. Алексий рясу одернул, клобук напялил.
– Изыди! – сплюнул патриарх. – Не могу аз зрить тебя!
– Не признаю, не признаю тебя, Игнатий, патриархом! – погрозил кулачком Алексий и засеменил из патриарших хором.
На думе митрополит все бубнил себе в бороденку, косился на патриарха, сидевшего в кресле сбоку престола.
Явился Отрепьев, быстрый, молодой, уселся на престоле. Озорно повел очами по боярам. Афанасий Власьев склонился к нему, шепнул что-то. Отрепьев выслушал, нахмурился. Объявили о приходе послов, и бояре стихли. Паны вельможные важные, гонористые: воевода Юрко со Стадницким, князь Адам и королевские послы Олесницкий с Госевским. У престола остановились, на поклоны самозванцу поскупились. Стадницкий на Мнишека указал:
– Воевода сандомирский пан Юрко отдает тебе в жены свою дочь.
Отрепьев подался вперед, перебил:
– Сей брак ли удивление? Либо есть в нем зазорное? Прадед мой женился на дочери великого литовского князя Витовта, а дед, Василий, на княжне Елене Глинской. И от нее отец мой Иван Васильевич. И разве крови царской есть в сиих браках помеха иль нашим, странам во вред? Нет, вижу в них связь между нашими; народами, близкими по языку и духу. Довольно! Своей враждой мы тешим неверных.
Отрепьев замолчал, откинулся в кресле. Пан Олесницкий протянул королевскую грамоту. Афанасий Власьев к нему шагнул, тихо прочитал Отрепьеву и тут же вернул Олесницкому.
– Она не государю нашему, царю Димитрию, писана, а какому-то князю, и таку грамоту мы не приемлем.
Зашумели паны:
– Королю и нам посрамление!
Олесницкий грубо выкрикнул:
– Але заслужили мы того? Але не у Речи Посполитой ты, Димитрий, нашел приют? Ты отвергаешь письмо с трона, на который сел по милости короля Снгизмунда и Речи Посполитой!
Бояре зашикали, завопили, стучат ногами по полу, ударили посохами. Поднял Григорий руку, призывая бояр успокоиться, потом посмотрел на панов.
– Вельможные паны, приняли бы вы письмо на свое имя, коли б в нем не означалось ваше шляхетское звание?
– Шляхетство наше испокон веков, – снова сорвался Олесницкий, – а князья московские николи не именовались цесарями!
– Ты, пан Олесницкий, – Отрепьев поднял палец, – видно, забыл ближнюю гишторию, не говоря уж, дальнюю. А отец наш Иван Васильевич не на твоей ли памяти на царство венчался?
– И впредь так будет! – подхватил Мстиславский.
Филарет на Отрепьева посмотрел, подумал: не прост самозванец. Разумом наделен он. Многие цари не имели такого.
И Филарет покрутил головой: «Пора убирать Гришку, покуда не укоренился…»
Из Грановитой палаты выпроводили вельможных панов. Бояре облегченно вздохнули – теперь и по домам. Утомились, эвона какое посольское дело справили! Зевали до скуловорота. Отрепьев на бояр поглядел сердито:
– Невмоготу иным боярам! Аль разум не желаете применить с пользой? Либо не имеете оного? Раскричались, раскудахтались, а к чему? Так ли на думе поступать должно? Нет! – Помолчав, добавил, сокрушаясь: – Вам бы, бояре, науки изучать, да куда, отяжелели вы…
Боярам его слова обидны, а попробуй возрази.
После думы хотел Филарет поговорить с Шуйским и Голицыным, да те вперед подались, а к Филарету вдобавок митрополит Алексий привязался. До Чудова монастыря не отстал.
Шуйский же с Голицыным шли вечерними улицами, переговаривались. Город уже готовился к ночи, было тихо, безлюдно, редкий прохожий встречался.
– Как Гришка бояр на думе отчитал! – протянул Голицын. – Срам и слушать было.
– Бояр! – Шуйский сморкнулся в льняной утиральник. – Он над нами всеми ровно как над мальцами-неуками глумится. Не могу боле! И не оттого, князь Василий, что угодничать разучился, сам, чать, знаешь, Шуйские верными рабами у Грозного и у сына его Федора хаживали. Даже Бориске и тому я служил, все же он рода хоть и неименитого, но боярского. А вот Гришке Отрепьеву устал гнуться. Начинать надобно… И мнится мне, должны мы, князь Василий, холопов своих из ближних деревень согнать в Москву, будто на царский праздник поглядеть, Гришке это в удовольствие, да невдомек, что холопы-то наши! И коли челядь и холопов напоить, кинутся, на кого укажем.
– Боязно, ну как вывернется Гришка? Голов лишимся. Басманов вона, псом за Отрепьевым бродит. Чует… Глазаст.
– Думаешь, я спокоен? Ох, зело опасаюсь. Но уж коли сами Отрепьева на царство посадили, нам его и скидать. А может, ты, князь Василий Васильевич, нынче доволен, царь из рода холопского тебе по душе?
Голицын возразил сердито:
– Что мелешь, князь Василий Иванович?
Шуйский сказал миролюбиво:
– Не суди, разве я тебе в укор? Самого дрожь пробирает. Иной раз как придет на ум, чем все обернуться может, медвежья хворобь пробирает. Чать, не забылось, как на плахе по Гришкиной милости стоял.
– Эх-хе, понавел Отрепьев ляхов и немцев на Москву. Вона их сколь, да все приоружно.
– Люд московский на иноземцев озлился, бесчинствует шляхта, на постое хозяйское едят-пьют да женок хозяйских насилуют.
– Неспокойно, неспокойно на Москве. Стрелецким головам открыться бы, ась? Шерефедину и Микулину?
– Сказывают, стрелецкие полки Гришка велел из Москвы убрать.
– Вернуть бы! Да ко всему правду сказываешь, князь Василь Иванович. Челядь, коли ее атукнуть, аки стая псов на волков, кинется. Ударили б набатные колокола, а уж потом ничто не сдержит люд. Ярятся, что и говорить.
– То-то свадьбу Гришке устроим, когда ляхи и немцы пировать будут, – сказал Шуйский довольно.
Голицын нос отворотил, дурно пахнет у Шуйекого изо рта. Сказал:
– Не проведал бы о нашей затее Отрепьев либо Басманов, ино изопьем мук на дыбе.
– До поры о замысле никому ни слова. То же и стрелецким головам. Кто ведает, что они вытворят? Когда час пробьет, тогда и откроемся. Чую, недолго ждать осталось. Помоги, Господи!
– Удачи бы, – сказал Голицын. – Нет покоя на этом свете, то Бориска, теперь Гришка.
– Своего, боярского царя изберем.
– Ох, только бы не свести нам знакомство с палачами, – снова вздыхает Голицын.
– Не нагоняй страху, князь Василь Василич, – просит Шуйский. – Единой злобой держусь.
* * *
Зреет боярская крамола, вот-вот вспыхнет пламенем.
На Москве иноземцы хозяйничают, чинят народу обиды. Копит гнев московский люд, однако Отрепьев того не замечает. Басманов ему не раз говаривал:
– Ох, государь, нет у меня веры ни Шуйскому, ни Голицыну, ни многим иным боярам. Знаю я их, коварны. Седни у них одно на уме, завтра другое.
– Не посмеют злоумышлять против меня, своего государя, – отмахивался Отрепьев. – А в Голицыне сомнений не держу, он меня в малолетстве от Годунова спас и ныне слуга верный. Да и Шуйский пластом стелется.
* * *
За Сретенскими воротами, где конец городу, мастеровые поставили деревянную крепостицу. Невелика она, для забавы, но бревенчатые стены и башни, ров и палисады – все как настоящее.
Вздумал Отрепьев после свадьбы потешить гостей, панов вельможных и своих бояр, перед молодой женой побахвалиться, каков он в ратном деле.
На стенах крепостицы пушки. Медными зевами глядели они на Москву. Со всего города побывал люд у Сретенских ворот, на крепостицу глядел. Пополз слух: «Самозванец Москву стрелять намерился. На радость иноземцам, народ русский извести…»
* * *
От татарского ига не случалось на Руси, чтоб иноземцы над верой православной глумились.
В арбатской церкви пьяные шляхтичи сквернословили, шапок не снимали, а когда дьяк их выдворять принялся, они к нему с саблями, а старого попа за бороду оттаскали. Пожаловался он патриарху. Игнатий царю рассказал. Но Отрепьев виновных не искал, посмеялся:
– Веселые шляхтичи!
* * *
Позвал Григорий Отрепьев Басманова к Марине. Ее до свадьбы в монастыре поселили. Явились в обитель под вечер, с ними князь Адам Вишневецкий. Он государю и Марине на скрипке играл, песни пел. От того греховного срама монахини по своим кельям попрятались, словно сурки по норам.
Присел Басманов на край лавки, осмотрелся. Свечи горят, пахнет в келье топленым воском. В углу киот, лампада тлеет. Марина под образами сидит в креслице, в темных глазах огоньки бесовские, на устах улыбка. На одноногом столике узорчатая шкатулка, перламутром отделанная. Крышка откинута, и в ней золотые рубли тускло отливают. Пятьдесят тысяч подарил сегодня невесте Отрепьев. Он без стыда Марину голубит, бахвалится:







