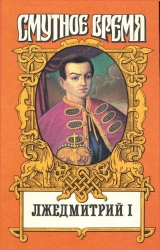
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
Глава 11
Войску московскому смотр государев. «Кой ты царь?» Артамошка Акинфиев снова бежит на юго-западный рубеж. Митрополит Филарет и архимандрит Пафнутий. Боярин Власьев обручается за царя. Войсковая потеха. Из Черкасска на Русь за хлебом. Мнишеки покидают Речь Посполитую. Илейко – Петр.
Бояре толпились в хоромах, дожидались государева выхода. Шуйский хоть и не зван, тоже приехал. Стоял рядышком с Голицыным, бороденку ногтями скоблил, с любопытством, слушал, о чем князь Василий Васильевич нашептывал.
– Григорий-то этой ночью в опочивальне не спал, с Молчановым по девкам шастали. И-их! А такое через ночь случается, коли не чаще…
– Зело беспутный кобель! – крутнул головой Шуйский.
Вошел, шурша шелковой рясой, патриарх Игнатий. Черные волосы прикрыты парчовым клобуком, под ухоженной смоляной бородой, поверх рясы, на толстой золотой цепи золотой крест. Повел по палате темными очами патриарх.
Шуйский первым Игнатия заметил, поклонился, попросил:
– Благослови, владыко!
Появился Петр Басманов. Широкие брови насупил, стукнул кованым посохом о мозаику пола. Звякнуло железо о камень. Басовито выкрикнул:
– Царь Димитрий Иванович порешил назначить на той неделе смотр всему воинству. И вам, бояре, надлежит не уклоняться, явиться в Александрову слободу, как и подобает, со своими дружинами при доспехах и оружно! А у государя покуда к вам больше дела нет. – И направился к выходу.
* * *
Дорога проторенная, морозцем высушенная, петляет мимо соснового и березового леса, мимо крестьянских озимей. Зеленя ржи в инее, просят снега.
Горячий конь под государем идет широкой иноходью, переходит в намет, потом на рысь.
На Отрепьеве польский кунтуш, расшитый золотой нитью, мягкая бархатная шапочка с собольей опушкой. Лицо у царя раскраснелось на ветру.
За ним Басманов поспевает. Петр на коне сидит влито, не гнется. Крупный Басманов, и конь у него крупный. Петр Федорович сдерживает его твердой рукой, не дает своему коню вырваться наперед.
Солнце на чистом небе уже четвертинку описало, как Отрепьеву с Басмановым открылась Александрова слобода: хоромы царские запущенные и службы, избы ремесленного люда и холопов.
Со времени Грозного слобода Александрова Богом и людьми проклята. Тут царь Иван Васильевич со своими опричниками виновный и безвинный люд казнил: роды боярские и княжеские древние со чадами и домочадцами изводил под корень…
Воинство под белыми стенами Успенского монастыря выстроилось. Встречать государя вышли монахи всем причтом, сытые, красномордые. Игумен Отрепьева и воинов крестом осенил.
При появлении государя разом грянули пушки огневого наряда. Заволокло пушкарей дымом, потянуло пороховую гарь по полю. Тревожно кричали над лесом и озимью напуганные пальбой птицы. Развернулись и затрепетали по ветру стяги и хоругви.
Стрельцы по приказам разбрелись, казаки, дворяне по полкам. Отрепьев объехал войско. Стрельцы в теплых кафтанах, шапках-колпаках, сапогах яловых. Им зима не страшна. Увидели государя, замерли. Бердыши не шелохнутся. Пищальники тяжелые самопалы в руках зажали.
Царь доволен стрельцами, похвалил стрелецких голов. Ненадолго задержался перед войском гетмана Дворжицкого. Шляхтичи поротно разобрались. Вельможные паны верхоконно красуются, вырядились.
Ляхи и литва встретили государя музыкой: звенели литавры, дудели трубы. Шляхтичи кричали ретиво:
– Виват!
За панами стояли пешие иноземцы, служившие на Москве по ряду. Впереди маленький, кругленький, что розовый поросенок, пивовар из Риги. При виде государя Кнутсен надулся от важности, глаза выпучил. А Отрепьев уже у боярского ополчения коня придержал. Бояре выстроились особняком. Каждый, со своей дружиной место занял, по родовитости.
Конное боярское ополчение подпирало небо старинными копьями. Под шубами панцири поблескивали.
Хитрили бояре, в первые ряды выставили тех дружинников, у каких и оружие, и кони получше. А в задних не воины – мужики на клячах вислобрюхих.
До государева прибытия бояре друг другу плакались: холопы-де одни разбежались, другие в моровые лета вымерли.
Но князь Шуйский не как все, постарался. С ним отряд и числом полным, и приоружно, и кони на подбор: молодец к молодцу челядь у князя Василия Ивановича! И у Александровой слободы он раньше других бояр заявился. Голицын от удивления даже рот открыл, вот те и Шуйский!
Объехал Отрепьев боярское войско, головой покрутил:
– Нуте! – и поманил Басманова. – Не я ль говаривал, что бояре наши нерадивы?
Нахмурился Басманов. А Отрепьев бояр попрекал с издевкой:
– Так-то вы, бояре, службу царскую несете? Дружины ваши не сполна и одеты не лучше тех нищих, что на папертях ютятся. А оружие у ваших дружинников, поди, еще от времени деда моего, великого князя Василия Ивановича? Вам бы, бояре, поучиться радению у князя Шуйского! Вон как он свою дружину холит!.. Устыдитесь, бояре! Как мне с таким воинством султана воевать? То-то! Вдругорядь с каждого боярина аль князя спрошу. На бедность свою не пеняйте. А за сегодняшнее вам, бояре, с вашими дружинами следовать в Москву наипоследними. У ордынцев Чингисхана и Батыя правило имелось: за одного труса десяток в ответе, за десяток – сотня, за сотню – тысяча… На том дисциплина и порядок держались. Хоть у нас и нет на Руси такого указа, одначе, когда люд над вами позубоскалит, что вы пыль стрелецкую глотаете, может, поумнеете. А наперед пустим шляхтичей и немцев… Ты же, князь Шуйский, с дружиной при мне нынче будешь. Пускай зрят все: царь Димитрий справедлив. Спасибо тебе, князь Василий Иванович!
* * *
На Арбате дьяка Тимоху Осипова из собственного дома выгнали…
Крепко жил дьяк: дом рубленый, о двух ярусах, сараи и клети добрые.
Понравилось подворье дьяку Кнутсену, явился он со своими солдатами, Тимоха с иноком Варлаамом в ту обеденную пору щи хлебали, и не знал Осипов, что немец на его хозяйство уже глаз положил.
Щи жирные, наваристые, с говяжьим потрохом. Большая глиняная миска до краев наполнена. Ели степенно, не торопясь. Иноку Варлааму за сколько дней горячее перепало! Разговор вели неторопливо – куда спешить, до вечерни успеется. Опорожнили миску до дна, дьяконша еще подлила… Речь все больше вертелась вокруг неустройства на Руси… Димитрия, царевича, помянули. Варлаам поделился, как уводил царевича из Чудова монастыря в Литву, а Тимоха подморгнул: «Аль веришь, что он царевич истинный?»
Инок в спор не вступал, сам в толк не мог взять, кто он, нынешний царь, может, и вправду монах беглый? Вон об этом и сам митрополит Филарет сказывал.
Тут на подворье к дьяку солдаты нагрянули. Кнутсен со своими немцами в хоромы ввалился, как в собственных хозяйничает. Тимоха с Варлаамом рукава ряс засучили, в драку кинулись, только немцев больше десятка, дьяк с иноком опомниться не успели, как за воротами очутились.
Сунулся Тимоха в ворота, а два солдата копья выставили, гогочут.
Поднял дьяк полы кафтана, припустил в приказ с жалобой. У Боровицких ворот на ляхов наскочил. Те со своим толстым гетманом, вина опившись, куролесили, дьяку вслед засвистели, заулюлюкали…
И подумал дьяк: «Немцы-то у царя Димитрия в службе. Понесу-ка на них жалобу государю».
Кинулся Осипов к царским хоромам, а Отрепьев с боярами тем часом как раз из дворца выходили. Стрельцы и глазом моргнуть не успели, как дьяк, топая сапогами, подскочил. Остановились Отрепьев с боярами, на Тимоху смотрят недоуменно.
– Государь, – завопил дьяк, – спаси! На немцев жалобу принес, из собственного дома выгнан! Самоуправствуют!
Бояре на Осипова зашикали, а Отрепьев рассердился:
– Ты, дьяк, во хмелю! Погляди на себя!
Опустил глаза Тимоха: Боже, солдаты его изрядно отделали, кафтан изорван, щами залит. За голову схватился, волосы взлохмачены.
– Управы жду от тебя, государь, защиты! – снова закричал дьяк.
– По-пустому государя тревожишь, пес! – зашумели бояре.
Басманов Тимоху за шиворот ухватил, а дьяк упирается, орет:
– Кой ты царь? Русского человека немцу в обиду даешь! Видать, истину про тебя сказывают, вор ты и самозванец!
Тут караульные стрельцы подоспели, Осипову рот заткнули, поволокли в темницу. Отер Григорий пот широким рукавом кафтана, выбранился:
– На немцев пеняет дьяк, а сам на государя замахнулся! А, каково? За то и ответствовать будет!
* * *
Ян Бучинский – шпион Речи Посполитой. Об этом лишь королю и канцлеру известно.
Посылая его в Москву, Сигизмунд и Сапега наказывали: «Уведомляй, что в Московии творится, Ян…»
Бучинский наукам и коварству в иезуитском монастыре обучился. В Россию он добрался, когда самозванец уже в Москве на царстве сидел. Гетман Дворжицкий Бучинского к государю привел, похвалил: знает-де шляхтич грамоту предостаточно и расторопен, а уж верен будет и слуга надежный.
Отрепьеву Ян Бучинский понравился, взял в секретари.
С той поры что ни задумает Отрепьев, Бучинский немедля гетману доносит, а тот тайно гонцов к королю и Сапеге наряжает.
Сообщал Бучинский: в Московии смуте конец приходит, а новый царь своенравен, к боярскому голосу на думе не прислушивается. Тех же, кто ему перечит, карает сурово.
* * *
Великий секретарь и казначей государев Афанасий Власьев за дорогу совсем извелся. Утомился – ладно, тут иное гложет: исполнить бы государеву волю, не опозориться. Видано ли, за царя Димитрия с царской невестой обручиться и в Москву ее доставить.
Не король и вельможные паны страшат Власьева, их думный дьяк перевидал за свою жизнь немало, а то, что с самой будущей царицей, как с обычной дворянкой, плечо к плечу стоять…
Посольский поезд на версту растянулся.
Москву покинули осенью, а когда до рубежа добрались, зима началась. И хотя еще не выпал снег, морозы взялись крепкие. Заиндевелая земля покрылась мучнистым налетом, на замерзших ухабах возки и телеги кидало. За дорогу бессчетно раз сворачивали к кузницам. Особенно часто ломались колеса на груженых телегах.
На какой-то малой речке под последней телегой лед не выдержал, провалился, едва коней и поклажу спасли.
Осталась позади, разоренная Русь. Сколько ни смотрел Власьев, всюду запустение и нищета.
На польско-литовском рубеже ночевали в старой корчме. Власьеву комнатку под самой крышей отвели, а дьяки с подьячими и челядь кто где примостились.
Холодно. Великий секретарь и казначей до самого утра не мог согреться, и клопы, что собаки, грызли. А ко всему проклятый корчмарь накормил перекисшей капустой и тертой редькой, всю ночь Власьев на месте не мог улежать: животом страждал и отрыжка извела.
Едва рассвело, всколготился он, на челядь наорал, а пока ездовые коней закладывали, успел с корчмарем вдосталь поругаться, душу отвести.
Старая корчмарша притащила ему глиняную кринку молока и краюху заплесневелого хлеба. Власьев от хлеба отказался, брезгливо вытер край кринки, приложился губами, пил мелкими глотками.
Корчмарь с русского посла за постой столько заломил, что тот ахнул. Не дав и половины, Власьев поднес к носу корчмаря кулак:
– А этого не хошь?
Афанасий Власьев хоть дородностью и выдал, а на речи скуп. Умащиваясь в возок, в который раз ругнул царя:
– Язви тебя! Не высмотрел себе жены средь русских княжон аль боярышен, в этакой дали сыскал. Ужо поглядим, что за пава эта пани Марина.
Сморкнулся громко в кулак, захрипел:
– Гони!
И затарахтели колеса, зацокали копыта. Пододвинув к ногам горшочек с тлеющими углями, Власьев простер над ним ладони. Тепло поползло по рукам. Уткнув нос в высокий ворот бобровой шубы, Власьев закрыл глаза, вздремнул малость.
Сон был чуткий, слышал перебранку ездовых, звонкое хлопанье бичей и разговоры ехавшей обочь дороги небольшой посольской дружины.
Царь Димитрий Афанасию Власьеву наказывал: «Без пани Марины в Москву не заявляйся».
Едет Власьев в Краков не впервой, до этого по посольским делам не раз в Крыму бывал, в Смоленск и Новгород гоняли. Повидал свет Афанасий Власьев. Нынче постарел, кости покоя просят.
Устал. Дома бы баньку принять, на полке поваляться, а потом корчагу медовухи пропустить, холодной, чтоб в зубах заломило, хрустящими грибочками закусить да, повременив малость, когда приятная истома по крови разольется, съесть миску щей наваристых с огня, и ладно. Эх, жизнь!
Власьев от воспоминаний сладких едва оторвался, засопел, потер нос. Открыв дверцу, позвал дьяка Любима:
– Ночью в корчме надежно ли охрану несли?
– Не изволь беспокоиться, – весело ответил молодой дьяк. – Самолично все проверил.
Вез Афанасий с собой три воза серебра и рухляди разной, дары богатые и королю, и невесте царской, и воеводе Мнишеку. Подумал недовольно: «Чать, не своим щедр царевич, из казны государственной тянет».
Раздвинув шторки, Власьев выглянул. К самой дороге прилепилось село. Как и на Руси, бедно живут холопы в Речи Посполитой: крытые соломой, рубленые избы топятся по-черному, сараи в землю вросли, голыми стропилами в небо глядят, копенки почерневшего сена.
Скрипят на ветру стылые деревья. Уныло.
За Брестом, на той стороне Буга, где дорога повела на Седлец, встретил Власьева князь Адам Вишневецкий с вельможными панами. Вылезли паны и Власьев с дьяками и подьячими из возков и карет, поклонами обменялись. Князь Вишневецкий Власьева принялся уговаривать завернуть к нему в замок, а великий секретарь и казначей на царскую службу пенял, отнекивался, однако не устоял.
Древний у князя Адама замок, из камня темного, серые стены поросли мхом. Власьеву с дьяками и подьячими баню истопили. Насладился окольничий вдосталь, а потом за стол уселся.
Потчевал Вишневецкий великого секретаря и казначея, а у самого любопытство необыкновенное: как нынче в Московии, унялись аль нет холопы?
Власьев все отмалчивался, а Вишневецкий вопросами донимал. Надоело послу. Поднялся, вышел из-за стола, сказал в сердцах:
– Поотстал бы ты от меня, князь Адам! Не поручал мне царь в такие речи вдаваться. И тебя не касаемо, что у нас на Руси творится!
И стал собираться в дорогу. Вишневецкий засуетился, принялись вельможные паны уговаривать великого секретаря и казначея побыть еще, но Власьев отрезал:
– Не просите! Я царю своему слуга и с его важным делом послан. Никак не гоже мне дни терять. Об одном прошу тебя, князь Адам, будь милостив, уведомь своего тестя, воеводу Мнишека, что я буду ждать его и пани Марину в Кракове.
* * *
Недолго зубоскалили в Кузнецкой слободе над Агриппиной и Артамошкой, унялись.
Прослышал Отрепьев, что в Москве баба кузнечным ремеслом промышляет. Любопытствуя, приехал в слободу. Один, без бояр и челяди, в одежде шляхтича. У кузницы с коня слез, привязал к дереву.
Морозно, но широкая дверь в кузнице нараспашку. Заглянул – никакая не женщина, мужик-кузнец стоит у горна. Одной рукой мехи качает, другой щипцами в горне железку ворочает.
Отрепьев на кузнеца быстрый взгляд метнул, сел на опрокинутую бадейку.
– Женка-то где? О ней наслышавши, приехал.
– Аль работа есть? – Артамошка вытащил раскаленную железку, положил на наковальню, мелко застучал молотком.
Сыпались искры, железка плющилась, все больше напоминала подкову. Когда остыла, Артамон снова сунул ее в огонь и только после того руки о кожаный фартук вытер, перевел глаза на Отрепьева. Тот спросил насмешливо:
– Под одеждой кузнеца хоронишься, атаман?
Артамон мрачно усмехнулся:
– Я тебя тоже признал, хоть ты и в шляхтича обрядился.
– Небось и доныне обиду на меня держишь, холоп? На своего-то государя!
– Так ли уж? – Артамошка неожиданно рассмеялся.
– Как? – нахмурился Григорий. – И ты сомневаешься во мне? Ответствуй честно, веришь ли, что я есть сын царя Ивана Васильевича Грозного?
Отвел очи Артамон, а Отрепьев торопил с ответом:
– Почто молчишь, либо смелости недостает?
– Ох, не пытай ты меня. Откуда знать мне роду твоему начало, но, коль хочешь от меня слова честного услышать, воля твоя. Я о твоем царском происхождении еще в Сандомире сомнение поимел, однако надеждой тешился, что мужикам послабление выйдет. Да как вишь, ошибся! А тут ты меня за виноватого гетмана высечь велел… Я и не стерпел, войско твое покинул и мужиков увел. Теперь вот как хошь суди меня.
– Вон ты каков! – Отрепьев поднялся. – Хорошая у меня сегодня встреча случилась! – И от порога сказал резко: – Палач по тебе, холоп, соскучился.
И, вскочив в седло, погнал коня. А Артамон кузницу закрыл, в избу направился. Агриппине сказал:
– Зажился я в Москве, пора и честь знать. Только что царь наведывался, палачом грозился. Так ты уж не вини, Агриппина, ухожу я из Москвы.
* * *
Был у Шуйского молодой конь вороной масти; статный и широкогрудый иноходец. Равных ему в беге не имелось по всей Москве. А уж на ходу – загляденье.
Старый лошадник Богдан Бельский и так и этак уламывал Шуйского продать ему иноходца, деньги сулил немалые, за них не то что одного коня, табун купить можно было, но князь Василий ни в какую.
И к тому у него были причины.
На Рождество подарил Шуйский коня Отрепьеву. Дарил прилюдно, чтоб все видели. Два дюжих челядинца подвели иноходца к Красному крыльцу, да под седлом, отделанным золотом, а по узде и попоне камни дорогие. Не стоит конь на месте, сечет булыжник копытом, прядет ушами.
Князь Василий знал, чем угодить Отрепьеву. Тот был рад подарку, обиды старые враз забыл, позвал Шуйского на обед. За столом самолично потчевал князя. Бельский не преминул слово ехидное ввернуть: «Вона как Василий на вороном в царские хоромы въехал. Хите-ер!»
…Увезли Ксению Годунову в монастырь.
Из царских хором да в келью. Все Ксения снесла безропотно: и позор, и обиды. Что ране случилось – и смерть отца, убийство матери и брата. Недавно было, а кажется, давным-давно…
За это время Ксения успела все слезы выплакать, лицом почернела, у губ суровые складки пролегли. Однако и в печали царевна оставалась красивой.
Со всем смирилась Ксения. Глумление – и то простила самозванцу. За смерть брата и матери с себя вину он снимал, на бояр перекладывал. Его-де, царевича Димитрия, тогда и в Москве еще не было.
Одному Басманову до конца дней не могла простить царевна. Изменил Годуновым, сдал войско самозванцу – тому, может, и найдет он оправдание, но когда предал ее, спасая себя, отдал на поругание – кто снимет с него эту вину?..
А Басманова совесть сильно не мучила. Вон как Отрепьев его приблизил.
Только и тревожился Басманов, когда видел, как зреет на Москве недовольство иноземцами. Пригрел, ох пригрел царь вельможных панов и шляхту. А скоро их еще прибудет вместе с царской невестой.
Зима в Москве установилась. Дни погожие, солнце и мороз. В один из таких дней объезжал Григорий коня, подаренного Шуйским, позвал с собой Басманова. В дороге разговорились. Отрепьев промолвил с усмешкой, что по городу вон разговоры не утихают, кое-кто не желает верить в его царское происхождение. И припомнил, как встретил в кузнице холопского атамана и тот не побоялся сказать об этом ему в глаза.
– А до него сколь по Москве таких пустомель изловили и к палачам отправили! – сказал Отрепьев.
Они ехали от Таганки берегом Москвы-реки вдвоем, без бояр и челяди. Ветер мел снег, гнал по льду, ставил у заборов сугробы.
– Молчишь? – недовольно спросил Григорий.
Басманов, шуба нараспашку – жарко, глянул в глаза Отрепьеву. Они у него – не поймешь какие, ни голубые, ни серые. Сказал:
– Какого ответа ждешь ты, государь? Ты, чать, мое слыхивал. Аль запамятовал? Тогда у меня, сидючи на крыльце, не я ли разговоры злоязыкие предрекал? Ты же, государь, моим словам веры не дал, не по нраву они тебе пришлись. Обсела тебя, государь, шляхта, не к добру это!
– Полно! – перебил Басманова Отрепьев. – Дерзок ты! Однако я тебе прощаю. Ты меня винишь, а разве могу я избавиться от панов? Они со мной от Сандомира до Москвы шли, слышишь, Петр?
– Твоя воля, государь, но люд ропщет. И что еще будет, когда твоя невеста со своими рыцарями явится?
– Изведем крикунов, Петр, на Москве палачей предостаточно. Те же из бояр, кто на меня недовольство таит, смирятся, как Шуйский.
– Добро б так! Но вот ты князю Василию, государь, веришь, а я нет. Коварен он.
Отрепьев рассмеялся:
– Шуйский ныне хвостом виляет, как побитый пес.
– Как бы этот пес, государь, исподтишка не укусил.
На льду мальчишки в снежки дрались. Отрепьев коня осадил, долго глядел. Сказал:
– Слышь, Петр, надобно нам снежную крепость сделать и потешный бой устроить. А?
* * *
В трапезной Чудова монастыря и в ясный день свет едва брезжит через маленькие, под самым потолком, оконца.
Отобедали монахи, разошлись, а митрополит Филарет еще долго сидел в одиночестве за длинным сосновым столом. Подпер кулаком черную, с седыми нитями бороду, брови насупил.
Наезжая из Ростова Великого в Москву, находил Филарет приют не в своей вотчине, а в келье монастыря. Москва болезненно напоминала ему пору, когда был он боярином Романовым.
Никакие годы не властны над чувствами. Там, в Антониево-Сийском монастыре, инок Филарет копил гнев на Годунова. В лютой ненависти к Борису на задний план отступила тоска по жене и детям. Но иногда бессонными ночами вдруг одолевала печаль, и тогда Филарет мысленно разговаривал с женой, а особенно ласкал сына Михаила. Когда Михаила увезли в ссылку, он совсем малолеток был.
Вернувшись из Антониево-Сийского монастыря в Москву, Филарет хотел съездить проведать семью, однако не вышло. Жене он отписал, чтобы до лучших времен в Москву не заявлялась.
Скрипнула дверь. Тихо ступая, вошел архимандрит Пафнутий, сел напротив. Положил крупные руки на край стола, пожаловался:
– Гневается царь на наш монастырь с того дня, как инок Никодим его на паперти уличил.
– Мне ведомо, брат Пафнутий. Многострадальна обитель твоя.
– Много знать – мало говорить, – вздохнул Пафнутий. – Господь терпел и нам велел.
– А надобно ль? – поднял брови Филарет. – Мне ли не известно, кто нынче на Руси царствует? – И, помолчав, добавил: – Кто ведал, что монах твой, брат Пафнутий, разумом таким наделен?
– Его келья рядом с моей была, и я его за светлый ум любил.
– Кабы знали это, иного царевича назвали, – перебил архимандрита Филарет. – На думе вижу, как высокоумничает Гришка Отрепьев, гордыней обуян. Бояр унижает, сам того не замечая, озлобляет против себя.
– Из иноков да в цари! Воистину, человек предполагает, Господь располагает, – скорбно покачал головой архимандрит.
– Надолго ли царство его? – усмехнулся Филарет.
– Ох, – засуетился Пафнутий, – молчи, брат! Такие времена, ненароком прознают, не миновать пыточной.
– Не бойсь, чать, мы с тобой вдвоем. Да царь тебя простит, коли и донес бы кто. Он, поди, не запамятовал, как ты его в монашестве уму-разуму наставлял. – Потеребил Филарет бороду, снова сказал: – Архимандрит Пафнутий, ведь ты Господу служишь, а ложь тебе не простится. Коли спросят, кто есть царь Димитрий, не таи, сказывай истину. Вишь, как паны вельможные на Руси себя вольготно чувствуют, а ксендзы их над нашей верой православной глумятся. Папа Павел самозванца на унию склоняет, а Сигизмунд Смоленска и иных городов русских жаждет.
– Не доведи Бог! – воскликнул Пафнутий.
– И я тако же говорю. Народ русский не допустит иноземного засилья. Лиха беда начало, а начинать нам, боярам. Как ударит набатный колокол, так и плеснет гнев через край!
– Патриарх Игнатий за самозванца горой, – заметил архимандрит.
– Иов у Годунова Бориски во псах ходил, Игнатий – у самозванца. Будет новый царь – будет и новый патриарх, – махнул рукой Филарет.
– Скорей бы! Ты прости, брат Филарет, может, не так речь вел. – Пафнутий встал.
– Отчего? Спасибо, не утаил от меня, чем терзаешься. Одни у нас хлопоты, одно желание.
* * *
Третью неделю Власьев в Кракове.
Ноябрь сырой: снег, какой выпадет, туманы и дожди враз съедали. А в гостином дворе, где остановилось московское посольство, печи жгли редко, на каменных стенах влажные капли бисером блестели. Власьев шубы не снимал – в кафтане окоченеешь.
На другой день, как приехали в Краков, московских послов представили королю, и тут чуть не случилось у Афанасия Власьева скандала.
Вручил он, как подобает, царские дары и письмо королю, стал чинно. За спиной его дьяки и подьячие, а по обе руки от короля вельможные паны толпились. Сигизмунд в кресле сидел важно. Дары московские принял, письмо канцлеру Сапеге передал. Тот грамоту царскую развернул, принялся читать вслух. Видит Власьев, как удивленно поднимаются брови у короля, когда канцлер дошел до слов: «…и мы царствуем Божьей милостью и врагов своих одолели, а настанет пора – и повоюем Оттоманскую Порту… Величать же надлежит меня, Димитрия, не великим князем, как того хотелось бы иным правителям, а царем и непобедимым…»
Едва Сапега письмо свернул, как паны вельможные развеселились, чем не на шутку озлили великого секретаря и казначея Афанасия Власьева. Забыв, что перед ним король, он в сердцах пристукнул посохом, крикнул: «Я посол царя и потехи над своим государем не стерплю!»
Воевода Познанский взвизгнул: «О езус Мария, какая гордыня!»
Не миновать бы здесь перебранки между московитами и панами, но вмешался Сигизмунд: «Але тебе, великий секретарь и казначей, не ведомо, что короли никогда не величали московских князей царями, а великими князьями их звали?»
Тут в разговор вмешался велеречивый дьяк Абрам. Отвесив поклон королю, заговорил: «Да будет известно королю и панам вельможным, со времени, когда великий князь московский и всея Руси Иван Васильевич, прадед нашего царя Димитрия, женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора, царство Москве завещано… А отец царя Димитрия Иван Васильевич на царство был повенчан…»
Затихли паны, нахмурился Сигизмунд. Долго щипал свой тонкий ус. Наконец поднял глаза на Власьева: – «Я, король Речи Посполитой, грамоту к великому князю московскому с послами своими отправлю, а ты, посол, с дьяками жди приезда пани Марины. За этим вы приехали в Речь Посполитую, а не убеждать нас, кто есть Димитрий…»
* * *
В громоздком скрипучем рыдване сидели рядом воевода и папский нунций Рангони. Вконец раскисшими дорогами добирались из Сандомира в Краков. Позади рыдвана приуставшие кони с трудом тащили карету пани Марины.
Воевода Мнишек хотя и был уведомлен зятем Адамом Вишневецким о посольстве Афанасия Власьева, в Краков не поехал, покуда король не прислал за ним гонца. Он явился в лице нунция Рангони.
Рыдван резко накренился, видать, колесо попало в глубокую яму. Воевода ругнулся:
– Сто чертей его матке!
– Пана воеводу не радует, что его дочь скоро станет московской царицей? – весело спросил нунций.
– О! – только и воскликнул Мнишек.
Замолчали. Но вот воевода не выдержал, сказал в сердцах:
– Але московские послы не ведают, где Сандомир? Почему они сидят в Кракове? Паны вельможные зубоскалить будут: «Мнишек сам навязал свою дочь царю московскому! Не к нему послы приезжали, а он к ним дочь отвез». Сто чертей его матке!
– У пана воеводы превратные мысли, – покачал головой Рангони. – Нет и нет! Пана воеводу и дочь его король зовет в Краков. Так королю угодно, и никто из панов не посмеет дурного слова молвить! Сам король будет на обручении, и, – папский нунций повернулся к Мнишеку, встретился с ним глазами, – пусть же московские послы увидят, как их будущая царица преклонит голову перед королем Речи Посполитой.
Мнишек кашлянул в кулак, отвернулся. Рангони приоткрыл дверцу рыдвана, велел ездовым остановиться. Вылез. Дождь крупными каплями хлестнул в лицо. Накинув капюшон, епископ осторожно направился к карете. Ноги по щиколотку тонули в грязи. Окликнул:
– Паненка Марина! Впустите пастыря своего, укройте в ненастье!
Уже в карете, усевшись напротив и откинув капюшон, сказал, вытирая лицо:
– Ах, какой ливень!
Но Марина, будто не расслышав, спросила неуверенно:
– Верите ли вы, святой отец, в мое счастье?
Рангони взял ее руку, погладил, заговорил тихо, успокаивающе:
– Дочь моя, в чем счастье человека? – И ответил – Счастье в служении Богу. Ты же, дочь моя, став московской царицей и оставаясь верной католичкой, должна воздействовать на супруга своего. И не сразу – постепенно – обрати его в веру нашу. Знай: вода по капле разрушает горы, а через твои слова Димитрий услышит глас Божий. Помни, при жизни супруга твоего мы должны иметь унию. Такова воля Господа и папы. Амен!
– Амен! – прошептала Марина.
* * *
В поисках лучшей доли уходил Артамон Акинфиев знакомыми ему тайными тропами на юг Руси.
Пробирался он заснеженными городками и селами, минуя частые стрелецкие заставы, в землю казацкую, на ту окрайну Русского государства, где, не пройдет и года, заполыхает огонь крестьянской войны, подожженный много повидавшим беглым холопом Иваном Исаевичем Болотниковым. Ярко разгорится пламя, и опалит оно жаром царскую феодально-крепостническую Русь, коснется самой Москвы.
* * *
Государь с Басмановым гуляли в Красном селе у купцов Ракитиных. С ними Наум Плещеев и Гаврила Пушкин.
Начали бражничать с вечера, а к полуночи братья Ракитины уже царя обнимали, кричали на всю палату.
– Люб ты нам, государь! – орал старший. – Борис Годунов англицких и ганзейских гостей привечал, нас не миловал!
– На нас надежду имей, государь! – стучал в грудь меньшой брат.
Басманов хмуро улыбался. Наум и Гаврила купцов от государя насилу оттащили.
У Отрепьева ни в одном глазу хмельного, не то что купцы Ракитины, языками едва ворочают. Трезв Григорий.
За столом жена старшего брата хозяйничала, купчиха статная, красивая. Улучив, когда она в сени вышла, – за ней следом.
В сенях дверь на улицу открыта, морозно. Купчиха свечу на кадку с капустой поставила, повернулась к Отрепьеву. Григорий купчиху обнял, рванул на себя, но купчиха сильна оказалась. Отрепьеву что есть мочи в зубы кулаком. Григорий через порог – и в сугроб.
Опомнилась купчиха, испугалась. Мыслимо ли, на государя руку подняла!
Отрепьев встал, рукавом отер губы, бросил беззлобно:
– Дура! Аль убавилось бы?
И, поддев горсть снега, приложил к губам.
– Прости, государь!
– Теперь прости, а о чем, замахиваясь, думала? – И позвал: – Эй, Басманов!
Тот выскочил в сени, за ним Плещеев и Пушкин.
– Шубу и по коням! – сплевывая кровь, приказал Отрепьев. – Ах, пустая твоя голова! – И неожиданно расхохотался. – Крепок у тебя, купчиха, кулак, любого остудит.
* * *
Великий секретарь и казначей с дьяками и подьячими собрался на обручение. Еще с утра проворная челядь нарядила посла в новый, шитый золотом кафтан, острыми ножницами подровняли отросшую за дорогу бороду. Перед тем как выйти, Власьев протер заморскими пахучими мазями лицо и руки.
В королевском дворце толпы вельможных панов, на торжество приехали. Посреди зала король в кресле восседал, от него по одну руку стоял королевич Владислав, весь в отца и обличьем и чванством, на вошедшее московское посольство глядел надменно; по другую – папский нунций Рангони.
А за московским послом один за другим выстроились дьяки и подьячие, держат на вытянутых руках подарки от царя Димитрия невесте. Зашушукались паны, глаза от жадности блестят. Драгоценны царские подарки, и в таком обилии, что у дьяков и подьячих руки их не держат. Жемчуга да рубинов три пуда; звери разные, птицы из золота отлитые; золотой кораблик, усыпанный алмазами и бриллиантами; часы работы дивной, с музыкой; соболей более полутысячи и кипы парчи и бархата, атласа и сукна всякого – всего не перечесть, что внесли московиты в королевский дворец.







