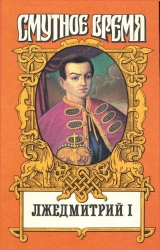
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Федор положил руки на колени, сник. Годунову стало жаль сына.
– Не печалься. Я об этом сказываю на всяк случай. Может, и обманчивы мои тревоги. – Поднялся тяжело. Как в детстве, погладил сына по голове. – Нам умирать не след. Нашему годуновскому роду укорениться надобно, вора Гришку Отрепьева уничтожить и тех бояр извести, какие к нам, Годуновым, неприязнь таят.
Федор в глаза отцу заглянул. Борис усмехнулся:
– Вот и поговорили. А теперь выйдем вдвоем в Крестовую палату к боярам. Они, чать, заждались нас.
* * *
Сны редко навещали Марину Мнишек. Тому причина молодость. Но этой ночью приснилось ей, будто плывет она вместе с царевичем Димитрием в легкой лодке и вода в реке замерла, не колышется. Хорошо Марине. Куда правит лодочку царевич? Иногда он поворачивается к ней лицом, и Марина думает, что Димитрий хочет сказать ей о чем-то, но царевич молчит. Тут подул ветер, поднялись волны, и лодку начало швырять из стороны в сторону. Марина тянет руки к Димитрию, но он неожиданно исчезает. Она в ужасе пробуждается, и страх еще долго не покидает ее. Матерь Божья, к чему такой сон?
Откинув одеяло, в ночной сорочке Марина прошлепала босыми ногами к оконцу. Оно высоко, и Марина поднялась на носки, разглядела краешек неба. День обещал быть теплым и ясным, как вчерашний.
В замке вдруг поднялся шум, крики. Марина услышала голос Яся Замойского:
– Пани Марина!
Марина и опомниться не успела, как Замойский, радостно-возбужденный, ворвался в опочивальню:
– Виктория, пани!
И замолк, попятился, увидев раздетую Марину. Тонкие брови Марины поднялись удивленно, спросила насмешливо:
– Над кем одержал победу пан Ясь?
– Там гонец от царевича Димитрия с письмом.
– Где оно? Почему ты не принес его? – начала злиться Марина. – О Пресвятая Мать Божья!
Вбежали холопки, принялись одевать госпожу. Вскорости и Замойский с письмом воротился. Марина сорвала печать, развернула свиток.
«Моя кохана, – писал Отрепьев. – Всевышний милостив ко мне. Скоро я вступлю в Москву и сяду на отцовский трон, коварно захваченный в мое малолетство Годуновым. Исполнится твоя мечта, кохана моя, ты будешь русской царицей…»
В опочивальню торопливо вошел воевода Юрко. Марина, сияющая, кинулась к нему:
– Отец, слушай, о чем уведомляет нас царевич!
Она прочитала письмо вслух.
– Сто чертей его матке! – радостно воскликнул Мнишек и притопнул ногой, будто собираясь пуститься в пляс, но тут же подбоченился: – Але я не царев тесть?
Марина звонко рассмеялась. Шаловливо погрозив Замойскому пальчиком, спросила:
– Пан Ясь желает в Москву?
* * *
Хотя всем известно, что Смоленск и Киев исконно русские города, но короли польские и великие князья литовские давно вели за них борьбу с московскими князьями.
В четырнадцатом и пятнадцатом веках им удалось овладеть этими городами, но в 1514 году Речь Посполитая не удержала Смоленска. Русские войска царя Василия Третьего освободили город, и все последующие попытки Королевства Польского и Великого княжества Литовского вернуть Смоленск не принесли успеха. Русские прочно закрепились на смоленском рубеже.
Став королем Речи Посполитой, Сигизмунд тоже вынашивал план отнять Смоленск у Руси. С появлением самозванца эта мысль обрела реальную уверенность. Король рассчитывал на смуту в русской земле, и первые успехи Отрепьева его обнадежили.
За победами Отрепьева последовало его поражение, и тогда Сигизмунд засомневался в затее с самозванцем. Он уже начал подумывать, не засылать ли посольство в Москву, к царю Борису, обвинял князя Вишневецкого и воеводу Мнишека, но тут пришло новое известие: воинство Отрепьева снова двинулось на Москву, а стрелецкие полки отходят без боя. Сигизмунд воспрянул духом, Речь Посполитая расширит свои границы за счет Смоленска и Новгорода, Пскова и иных русских земель, обещанных самозванцем королю. А весной из Рима в Краков возвратился епископ Рангони и имел тайную беседу с королем Сигизмундом.
* * *
С полудня затопили баньку. Отрепьев мылся не один, вместе с князем Татевым. Вдосталь нахлестались березовыми веничками, разомлели на пару, тело огнем горело. Царевич на полок взобрался, стонал от удовольствия. Татев, тонконог, брюхат, плеснул на раскаленные камни корчагу хлебного кваса. Зашипело, паром затянуло баньку. Услужливо склонился над Григорием:
– Дай-ко, государь, спинку те помну.
И щипками пальцев принялся оттягивать ему кожу.
Пар рассеялся. Отрепьев то один бок подставит Татеву, то другой.
– Еще чуток, князь. Поясницу не забудь. Хорошо!
Татев усердствовал. Пот в обилии выступил на лице. Капли бисерились на бороде, зацепились в волосатой груди.
– Белотел ты, государь.
– Каким уродился. Ох, ох, старайся, князь Иван Андреич.
– Хлебни, государь, кваску. Аль медка хмельного желаешь?
– Ты, князь, отца моего и матушку знавал, как мыслишь, в кого я удался?
Отрепьев оторвал от полка голову, испытующе впился в Татева взглядом. Князь разжарился, красный, не видно, смущен ли он вопросом либо нет. Ответил нагло:
– По всему видать, в матушку ты, государь.
– И я тако же соображаю, – согласился с ним Отрепьев и тут же снова спросил: – А не доводилось ли тебе, князь Иван Андреич, видывать меня в мальстве?
– Чего нет, государь, того нет, – ответил Татев. – В милости ты у Бога, чудом спасся. А слухов-то, слухов сколь хаживало! Погиб царевич, зарезался! – И будто ненароком полюбопытствовал: – Кто те доброхоты, какие смерть от тебя отвели?
Отрепьев нахмурился:
– Любопытен. Однако ныне не укажу на них, от Бориски поберегу.
– Прости, государь, за вопрос.
– Ну-тко, окати меня холодной водицей. Бр-р!
Григорий слез с полка, вышел в предбанник, долго растирал грудь льняным полотенцем, потом протянул его Татеву:
– Оботри!
И подставил спину.
Надев рубаху и порты, вдруг заглянул Татеву в глаза:
– А что, князь, коли Годунов вывернется и насядет на меня, ты вмиг к нему переметнешься, изменишь мне?
На губах у Отрепьева усмешка, не разберешь, шутит аль вправду говорит. Татев заюлил, глаза в сторону отвел:
– Зачем, государь, сказываешь такое? Либо чем заслужил я твою немилость?
Натянув сапоги, Григорий проговорил примирительно:
– Ладно, князь Иван Андреич, без умысла я. Говариваю такое, зная вас, бояр. Сколь вас в рань пору от меня отреклись, к Годунову подались.
– Тебе, государь, видней, – смиренно промолвил Татев и угодливо распахнул перед Отрепьевым дверцу баньки.
* * *
Хоть срок в три года мал, да для мятущейся, исстрадавшейся Руси ох как длинен.
В три голодных лета вымерло на Руси люда – никаким счетчикам не учесть. Да и какой подушной переписью измеришь людскую боль и страдание?
В ненастную пору, что в Великом переселении, стронулся народ с насиженных мест. Бурьян и цепкий кустарник вольготно рос по пустынным деревням и селам.
Со времени ордынского разорения не видела подобного русская земля!
К моровым летам смута прибавилась. Но наступил тысяча шестьсот пятый год. К концу марта выпали обильные дожди, а потом наступило враз ведро и засулило добрым урожаем. Потянулись крестьяне в родные края, однако смуте все еще не было видно конца.
Поджидая растянувшееся войско, Григорий Отрепьев остановился в Туле, а Москва тем часом собирала против самозванца новые силы.
* * *
Отдыхал Артамошка, блаженствовал. Домашняя жизнь, не изведанная ранее, размягчила душу, действовала умиротворяюще.
С легкой Агриппининой руки не переводилась у них работа, была и еда. Отдалялось пережитое, напоминало оно тяжелый сон, оборвавшийся враз. Реже вспоминались ватажники.
Ночами, когда, намаявшись от дневных забот, Артамошка умащивался на полатях, нет-нет да придет ему на ум Хлопко Косолап с товарищами. А днем в звоне кузнечного молота, в гудении огненного горна ночные видения забывались. Когда же завернувшие в кузницу мужики заводили разговоры о царевиче Димитрии, Артамошка помалкивал. И не потому, что доноса остерегался, нет. Просто знал, что мужика, уверовавшего в царевича, не переубедить. Вот когда им, как ему, Артамошке, аль комарицким ватажникам, самолично доведется увидеть, на что горазд царевич Димитрий, защищая бояр и панов, тогда поймут.
* * *
В апрельскую распутицу и бездорожье из Москвы тронулось новое ополчение. Поговаривали, что государь воеводой поставит Басманова. Бояре в кулак шептались: «Не опомнились, как Петр над нами, родовитыми, возвысился…» Ан когда настала пора вести полки, Годунов не Басманову воеводство вверил, а князьям Голицыным, Василию Васильевичу и Ивану Васильевичу.
Честь Голицыным хоть и великая, да князь Василий в душе недоволен, не та пора, чтоб наперед высовываться. В самый раз повременить, еще неизвестно, чем смута на Руси закончится.
Так думал князь Василий Васильевич, но государю перечить не осмелился.
Глава 8
Смерть Бориса Годунова. Присяга царю Федору Борисовичу. Самозванец в Туле. Княжеская измена. Смерть царя Федора. Москва царевичу Димитрию кланяется.
Кто знает, кто ведает, когда человеку его последний смертный час отведен?
День царя Бориса начался как обычно. С утра в Трапезной палате толкались бояре, ждали государева выхода, но Годунов, облачившись, уединился с сыном. О чем говорили в Тронной до обеда, им двоим лишь известно.
Боярам скучно, судачили об одном – самозванец с языка не сходил.
«Слыхано ль, самозванец Тулой овладел и на саму Москву прет. По всему государево воинство бессильно совладеть с ним…»
Имена бояр и дворян изменников поминали шепотом. С появлением государя смолкли.
Борис вышел из Тронной, опершись на плечо Федора, повел по палате взглядом. Бояре склонили в поклоне головы. Годунов догадался, о чем речь до него вели, сделался пасмурным.
– Аль вести дурные есть?
Туговатый на ухо старый князь Катырев-Ростовский приложил ладонь к уху. Бояре на вопрос Бориса ни слова. Царь промолвил:
– Почто рты не открываете, либо меня жалеете? Так я в том не нуждаюсь, – И поманил пальцем Басманова: – Что, боярин Петр Федорович, и ты от меня чего утаиваешь?
Боярин подался вперед, ответил коротко:
– Нет, государь. Ни Шуйский с Мстиславским, ни Голицыны никаких вестей не подают.
– Так, так! – Годунов передернулся. – Стыд! Самозванца с его ворьем никак не усмирим. Эко страху нагнал. Доколь расстрига Русь мутить будет, нашему царству, престижу нашему урон наносить? От смуты торговля с аглицким и голландским королевствами совсем зачахла. Архангельск-порт захирел. Ганзейские купцы, на что тороваты и отчаянны, а и те дорогу к нам позабыли. В добрые годы Новгород кишел ими, а теперь?
– Кабы самозванец у короля Сигизмунда поддержки не имел… – вставил князь Катырев-Ростовский.
Бояре ни слова не проронили.
– Значит, король Сигизмунд со своими шляхетскими полками до Тулы дошел, так, спрашиваю? – пристукнул посохом Годунов.
– Нет, государь, – подал голос Басманов. – Не ляхи и литвины у самозванца силу составляют, а казаки и холопы. Будь у него только шляхтичи, давно бы про вора забыли. Самозванец русским мужиком силен. Да кто этого не знает? – Басманов махнул рукой. – Аль запамятовали, как мужицкая рать Косолапа до самой Москвы достала? Насилу одолели. А рать самозванца раз побили, два, ан к нему новые силы валят. Что же до Сигизмунда и панов, так их вина, что они вора и самозванца выпестовали и на Русь наслали.
– А ныне? – вставил князь Телятевский.
– Они вора с превеликой радостью поддерживают, истинно, – усмехнулся Борис. – Но что самозванец – их детище, порожден ими, не верю. Мыслю, иные силы его выпустили. – И замолчал.
– Я с боярином Петром в согласии, – поддержал Басманова Семен Никитич Годунов. – Мало казнили мы, устращали холопов. Чернь надобно в страхе держать.
– Все вы правду сказываете, – снова заговорил Борис. – И ты, князь, – указал он на Катырева-Ростовского, – и ты, боярин Петр, и ты, Семен Никитич. Король польский постыдно поступил, связался с вором и самозванцем, однако в холопах своих мы, бояре, сами повинны. В голодные лета согнали мужиков со двора, дабы не кормить их, они и сколотились в воровские ватаги. А как самозванец объявился, к нему подались. – Немного помедлив, добавил: – Указ бы нам, боярам, надлежало принять, каким мужика к земле накрепко привязать. Покончим с самозванцем, примыслим это.
Бояре одобрительно загудели, а Годунов продолжал:
– Покуда же воеводам и стрелецким полковникам повелеть, чтобы они к тем холопам и казачьим людям, каких изловят, милости не выказывали, вешали по дорогам на страх черни.
Появился дворецкий, поклонился.
– Еда стынет, государь.
– Ой ли, до того? Но коли зовут…
И не отпуская плеча сына, тяжело ступая, направился вслед за дворецким. За государем потянулись остальные.
За обедом Годунов был мрачен, ел нехотя. Боярам застолье невесело.
Вот Борис отодвинул чашу, склонился к Федору:
– Плохо мне, сыне, голову давит, задыхаюсь.
Федор вскочил, кинулся к отцу, но тот отстранил его, сказал прерывисто:
– Погоди. Отчего бы? Государыню! Где государыня? Стрелы каленые меня пронзают!
Запрокинул голову. Задралась пышная борода с серебристой проседью.
– Не вижу! Ничего не вижу!
Бояре за государевым столом сгрудились, испуганные, смятенные. А у Бориса дыхание хриплое, с присвистом, и говорит едва внятно и все одно:
– Самозванец… Расстрига… Димитрий.
А в голове звон неуемный. Чу, будто звонит колокол… Угличский колокол. Годунов открывает рот, но вместо слов стон. Язык не ворочается. Ох, это не его язык. Это язык угличского колокола, вырванный по его, Бориса, указанию. Колокол звал угличан на смуту против Годуновых в день смерти царевича Димитрия…
Вдруг Борис поднялся резко, закачался и рухнул на пол.
Вбежала государыня Марья, крикнула:
– Кличьте немца-лекаря!
Опустилась перед мужем на колени, подсунула руку ему под голову, ласково промолвила:
– Свет очей моих, Борис Федорович…
И ни слезинки из глаз царицы не покатилось. Свела брови на переносице, крепится.
– Погоди, сейчас лекарь явится.
Князь Катырев-Ростовскнй шепнул Телятевскому:
– Кажись, помирает. За патриархом слать?
Торопливо вошел доктор. Государя бережно перенесли в опочивальню, уложили на широкое ложе. Оголив Борису руку, немец-лекарь подставил медный таз, пустил кровь. Она сочилась тонкой струей, нехотя, темная, вязкая.
Государь не приходил в себя.
Явился патриарх Иов с попами.
Бояре толпятся в Трапезной, головами качают, вздыхают. Ждут бояре исхода. У Семена Никитича Годунова лицо бледное, губы дрожат. Стоит он в стороне, ни с кем ни слова. Басманов по Трапезной ходит. Иногда остановится, кинет взгляд на дверь опочивальни и снова меряет палату шагами.
Медленно и тревожно тянулось время. И вдруг заплакали, заголосили.
Семен Годунов, а за ним остальные кинулись к опочивальне, но раскрылась дверь, и им навстречу вышел, опираясь на посох, патриарх. Вытер слезы, сказал скорбно:
– Государь и великий князь Борис Федорович преставился!
* * *
Москва новому государю присягала. И не только Москва, но и вся московская земля, какая не под Лжедимитрием, давала клятву на верность царю Федору Борисовичу.
По церквам крестоцелование: «…к вору, который назвался князем Димитрием Углицким, не приставать, с ним и его советниками не ссылаться».
Неспроста! Из отдаленных северных областей, уж не то что из южных и западных, доходили слухи о грамотах самозванца. В них Отрепьев сулил быть в Москве, когда на дереве начнет лист осыпаться.
Апрельский день пасмурный. Закрыли небо сплошные облака, даже колокольному звону не прерваться. Невысоко, над самой землей, стлался гул колокольной меди.
Валил народ в Кремль. На Соборной площади толпы… В Архангельском соборе крест целовали дьяки и дворянство служилое. Дьяки присягу бубнили: «Всякие дела делать вправду, тайных и всяких государевых дел и вестей никаких никому не сказывать». А еще: «Казны всякой и денег не красть, дел не волочить, посулов и поминок не брать».
Народ, чтоб приставы не слышали, потешался:
– Дьяку и волку веры нет!
– Седни дьяк божится, а завтра сунься к нему за правдой без денег…
Артамошка с Агриппиной протолкались к самому входу в собор, слышали людские разговоры. Что дьяки продажные, Артамон и сам знал. Он не забыл, как несколько лет назад мужики из его села затеяли суд с монастырем и на чьей стороне были дьяки. А все потому, что монахи не поскупились дьякам на серебро…
Благовещенский собор, служивший великим князьям и государям домовой церковью, заполнили бояре. Сам патриарх Иов приводит их к присяге царю Федору Борисовичу.
Молодой царь с матерью Марьей Григорьевной и сестрой Ксенией тут же. Государь бледен и серьезен. В нелегкий час принимает царство.
С икон смотрели на царя Федора Борисовича и бояр строгие глаза святых. Андреем Рублевым и Феофаном Греком и другими великими художниками писаны эти иконы.
Чуть в стороне от царской семьи стоял боярин Басманов. Уловит Ксения его взгляд, потупит очи. Сердцем чуял боярин, нет у него любви к царевне, просто нравилась она ему, однако обещание покойного царя Бориса женить его на Ксении помнил. Войти в родство с царем – это ль не заманчиво для боярина?
Худой, как жердь, князь Иван Борисович Черкасский хмурился, смотрел исподлобья. Даже мертвому не простил он тех унижений и ссылки, на какую был обречен царем Годуновым.
Князь Иван Борисович думал, что неспроста Годунов услал с войском и Шуйского, и Голицына. Боялся.
Катырев-Ростовский поклоны отбивал на коленях, крестился истово. Басманов усмехнулся, подумал: «И молебна нет, а князь вона как лоб колотит».
Князь Телятевский к уху боярина Басманова склонился, зашептал испуганно:
– На Красной площади народ друг друга топчет.
– Стрельцов призвать, – охнул боярин Петр и стал пробираться к выходу.
А случилось так. Какой-то юркий холоп завопил:
– Мужики, за Спасскими воротами еду раздают, по миске каши гречневой. Айдате!
И закружилось все, заходило ходуном. Артамон Агриппину ухватил за руку – и из Кремля, вслед за другими. Через ворота на Красную площадь выбежали. Глядь, а тут уже люда видимо-невидимо, друг друга с ног валят, топчут, кричат. Артамон присмотрелся, где к котлу поближе, полез.
Тут стрельцы с боярином Басмановым, откуда ни возьмись, кинулись народ усмирять бердышами, кулаками. Артамошке от самого боярина по шее перепало. У Басманова рука тяжелая, кабы Агриппина не удержала, свалился бы Артамон с ног.
Навели стрельцы порядок, выволокли с площади задавленных и покалеченных.
Покуда боярин Петр чинил расправу, в котлах каша закончилась. Народ расходился с площади злой, бранился:
– Худо царь Федор править начал!
– Запомним день крестоцеловальный…
– Но, но, разговорился!
– Не стращай, тебе, видать, каши и вина перепало, коли в заступ Годуновым идешь!
Агриппина Артамона с Красной площади утащила, дорогой сетовала:
– Вот боярин проклятый, чуть шею не сломал. Болит?
Артамон повертел головой.
– Терпеть можно.
* * *
Самозванец задержался в Туле. Здесь Отрепьева застало известие о смерти Бориса. От одной радости не остыл, другая поспела. Передовые отряды его войска к Можайску и Вязьме вышли.
Отрепьев боярам и панам вельможным объявил, что скоро он будет в Москве.
А в воскресный день в тульском соборе архиерей Игнатий служил молебен во здравие царевича Димитрия. Служил рьяно. Царя Бориса Федоровича нет в живых, а царевичу Федору туляки не присягали. Они крест целовали чудом спасшемуся царевичу Димитрию. Хоть о нем и говорят, что он самозванец, а на самом деле, может, и царевич? Да и в соборе стоял, окруженный боярами и дворянами. Все в дорогих, праздничных одеждах.
Собор покинули под звон колоколов и крики ретивых гайдуков:
– Поди! Раздайсь!
Хлещут шляхтичи люд, расчищают дорогу самозванцу. Пляшет белый конь под Отрепьевым, ретиво грызет – удила. Поднял Григорий руку в кожаной рукавице, помахал народу.
Вдруг из толпы вырвался какой-то бродяга и прямо под копыта коню бухнулся, заорал:
– Царевич, государь! Аль не признал?
Узнал Отрепьев Варлаама, однако нахмурился, сказал подъехавшему князю Татеву:
– Инока в обозе приюти, покличу, когда понадобится.
И, тронув коня, объехал монаха.
А народ обочь дороги теснится, орет, приветствует самозванца.
Ночью Варлаама растолкали, повели в хоромы тульского воеводы. Их с приходом Отрепьева именовали дворцом царевича.
Над тульским кремлем и посадом звездное небо. На площади у множества костров сидели и лежали ратники. Тут же поблизости стреноженные кони звенели недоуздками. В длинный ряд выстроили пушкари свои пушки. Перекликались дозорные.
Дворец царевича шляхтичи сторожили. Впустили монаха. Вошел Варлаам и ахнул:
– О Господи, Твоя воля!
Ярко горели свечи в серебряных поставцах, все в хоромах блестело позолотой, а пол от входа, где замер инок Варлаам, и до того самого места, где сидел в кресле из темного дерева царевич, устилал цветастый персидский ковер.
Поглядел Отрепьев на Варлаама с усмешкой и вкрадчиво спросил:
– Что, монах, поди, когда мы с тобой кусок хлеба из одной торбы делили да в Литву шли и ты на меня по пустякам ворчал, не чаял, кого ведешь?
Инок руками развел:
– Виноват.
– Ну, да не с тебя спрос за обиды, какие мне чинены в прошлом, а с Годунова Бориса и родни его. – И постучал пальцем по подлокотнику. – О князе Голицыне не сказывай. Где он нынче, знаю. Покойный Борис его с войском на меня послал. Да я мыслю, им же спасенного воевать не посмеет.
И, помолчав, спросил:
– Ты скажи, инок, отчего долго из Москвы не ворочался? За это время не в два конца можно было обернуться, а и все четыре сделать!
– Не казни, царевич, – взмолился монах, – из Москвы завернул я в Антониево-Сийскую обитель, к иноку Филарету.
– Так ты и Филарета проведал? – поднял удивленно бровь Отрепьев. – Изрядный крюк проделал. Ну, как живет Федор Никитич Романов? Чай, благодарит покойного царя Бориса, а во мне беглого монаха Гришку Отрепьева видит?
– Ох-хо! Лается Филарет, клянет Годунова, а тебе, царевич, поклон шлет.
– Значит, помнит меня боярин Федор, – довольно сказал Отрепьев, – и на годуновскую хитростную пакость не поддался, не болтает обо мне нелепости.
– Что ты, – поспешно заговорил Варлаам, – Филарет сказывал, на доброту царевича Димитрия он полагается.
– Скажи, инок, – перебил его Отрепьев, – видел ли ты, как люд Федору Годунову присягал? По охоте ли?
– Из-под палки та охота! Приставы народ силком гнали.
Григорий улыбнулся.
– Ужо погляжу, как они ту клятву вскорости порушат и мне присягнут. Ты, поди, видел, сколь ко мне не то что простого люда, а и бояр да дворян переметнулось?
– Да уж куда такое скроешь, – ответил Варлаам. – Седни днем повстречал дворян Гаврилу Пушкина и Наума Плещеева.
– Они с зимы у меня. Намерен в Москву послать их с письмом к народу.
– Москва ждет тебя, царевич. Сколь ни встречал я люда, все тебя добром поминают.
– Ну, ну, – довольно промолвил Отрепьев, – я люду верю. А скажи, Варлаам, не видел ли ты, сколь численно то воинство, какое покойный Борис послал на меня с князьями Голицыными?
– Обогнал я рать князей Василия и Ивана, Не торопятся они. Войско же у них многочисленное.
– Что же ты, инок, с князем Василием Голицыным вдругорядь не повстречался? Глядишь, какую весть и принес бы мне от него, – нахмурился Отрепьев.
Варлаам почесал затылок.
– Уж как князь Василий со мной был на Москве неприветлив, во второй раз ему на глаза боялся попасть.
– Дурень ты, инок, – резко оборвал Варлаама Отрепьев. – Я тебя ждал с вестями от князя Голицына, а ты сходил попусту. И спрос с тебя невелик, глуп ты.
* * *
Бояре молодому царю не перечили. Едва Федор имя Басманова назвал, как патриарх Иов пристукнул посохом об пол:
– Петра знаем, в делах ратных разумен!
И дума приговорила воеводой над полками, какие против вора стоят, быть Басманову, а князю Шуйскому и с ним воеводам, на кого Петр Федорович Басманов укажет, в Москву ворочаться.
Может, кто из думных бояр возразил бы против Басманова, да рать самозванца к Москве приближалась.
В тот вечер за ужином Басманов заверил царя Федора и царицу-мать служить им верно, вора и самозванца разбить и, изловив, в Москву доставить.
В помощь воеводе Петру Федоровичу дали князя Михайлу Катырева-Ростовского, а еще патриарха Исидора, дабы он войско к присяге царю Федору Борисовичу привел. И еще велено было Басманову в сборах не тянуть и отъезжать из Москвы поутру другого дня.
* * *
Хоть и обещал Басманов покончить со смутой на Руси, однако брало сомнение. Нелегкую ношу взваливает на себя. Кабы раньше, в самом начале, когда самозванец рубеж переступил, иное дело. На худой конец вручили бы воеводство в ту пору, когда Отрепьев под Путивлем и Кромами топтался. В то время царь Борис повел с Басмановым речь о том, да вскорости замолчал. Видать, родовитых бояр и князей остерегался.
Ныне же самозванец в силе великой и успех ему сопутствует.
Шел Басманов, покидая царские хоромы, голову опустив, борода смолистая, кудрявая.
В переходах полумрак, горели редкие свечи. Поздно, и в покоях безлюдно и тихо. Вдруг у сеней кто-то ему дорогу заступил, Басманов глаза поднял и ахнул удивленно: царевна Ксения перед ним стояла и говорила тихо, но решительно:
– Не суди меня строго, Петр Федорович, что остановила тебя. Не случайно я здесь – выхода твоего караулила. Знаю, утром Москву покидаешь, оттого и увидеть тебя захотела, сказать на прощание. Люб ты мне, Петр Федорович. Вишь, сама тебе о любви своей признаюсь. Воротишься с победой, тогда, коли по сердцу я тебе, упрошу мать и брата замуж за тебя отдать…
Онемел Басманов, не знал, что и отвечать. Вот ведь как храбра царевна! По всему видать, в мать, Марью Григорьевну, одной с ней скуратовской породы. Марья, сказывают, в молодые годы Бориса Годунова на себе женила, теперь вот Ксения его, Басманова, выбрала.
А царевна шепчет:
– Молчи, Петр Федорович, и слушай! Мил ты мне и давно в сердце моем. Ночами снишься мне!.. – Протянула руку, погладила Басманова по щеке. – Любимый мой, ненаглядный. – Прижалась к нему, шепнула: – Обними меня, поцелуй…
Басманов будто меда хмельного отведал. Подхватил, легко поднял Ксению на руки. Губы у нее горячие, влажные. Но Ксения неожиданно отстранилась, промолвила:
– Пусти! Воротишься, твоя буду.
И скрылась.
* * *
Митрополит Исидор с трудом полки к присяге привел. Сыскались стрельцы, какие недовольство Годуновым вслух высказали, за царевича Димитрия ратовали. Особенно роптали в полку, какой самовольно из Можайска от князя Дмитрия Васильевича Туренина в Москву ушел.
Товарищи казненных стрельцов – десятника Максюты да Кузовкина с Еропкиным громогласно спрашивали: «Отчего в присяге самозванец именуется Гришкой Отрепьевым?»
А рязанские дворяне Ляпуновы добавляли: «Годуновы имя дьяка чудовского приплели с умыслом. Им бы народ обмануть, и ладно! Одного мы знаем, царевича Димитрия!»
* * *
В середине апреля в войско Отрепьева заявились из Речи Посполитой новые отряды шляхтичей. Жадные до наживы паны торопились. Не замешкаться бы теперь, когда самозванец к Москве подходил.
* * *
Князь Голицын совсем потерял покой. Намедни явился к нему инок Варлаам с письмом от Отрепьева. Тот высказывал обиды, грозил: коли-де князь Василий с войском не перейдет к нему, царевичу, то он не поглядит на голицынские заслуги.
«…Не хитри, князь Василий, – писал Отрепьев, – служи мне, как служат князь Татев с Масальским и иные бояре и дворяне…»
Долго размышлял над письмом Голицын, и так прикинет и этак. Один голос шепчет: «По всему видать, недолго сидеть Федору на царстве». А другой голос перебивает: «Ой, не прогадай, князь Василий! Вдруг вывернется Федор, и тогда не будет тебе пощады от Годуновых».
Первый голос посильнее, он свое твердит: «Не бывать тому, чтоб Годунов на царстве остался. Скоро, скоро самозванец в Москву вступит».
С Шуйским бы душу отвести, да Басманов князя Василия Ивановича в Москву отпустил.
К обеду позвал Голицын брата Ивана. Ели вдвоем, разговаривали шепотом.
– Плохи дела, брате, у царя Федора, – сказал князь Василий.
Иван ложку отложил, крошки хлебные с бороды смахнул.
– Я ль того не примечаю? Чать, не повылазило!
– Как бы не запоздать, когда калачи делить почнут.
– Да-а… Однако и не прогадать бы! – Иван брату в глаза заглянул. – Мы с тобой, брат Василий, в согласии, а как с Басмановым?
– Знаю, в том и печаль. Сдается мне, брате, надобно нам еще недельку повременить, а там, при случае, Басманова уломать. Коли не поддастся, так мы свои полки уведем.
– Речь твоя верная, – кивнул князь Иван. – А за неделю, глядишь, новое чего приключится.
* * *
Но не Голицыны склонили Басманова перейти к самозванцу, сам он решился.
Мысль эта зародилась у него, еще когда войско присягало царю Федору и в полках раздался ропот. В тот момент у Басманова закралось сомнение, не понапрасну ли он связал себя с Федором Годуновым? Слаб молодой царь и на царстве сидит непрочно. А царевич Димитрий хотя и самозванец, по всему крепок.
На царское войско надежды мало, его в подчинении Годуновым держать не просто. В любой час переметнуться к Отрепьеву могут. Вон при митрополите Исидоре и то самозванца поминали.
И Басманов сказал себе: «Ох, Петр, соображай, коли ты, главный воевода и любимец царя Федора, ныне в службу к самозванцу вступишь, поможешь ему против Годунова, в великой чести окажешься у него, особливо когда он царем станет».
А тут еще прислал Отрепьев к воеводе Басманову дворянина Бахметьева с грамотой. Писал самозванец, что готов забыть Басманову его службу Годуновым и то, как он против него, царевича Димитрия, бился у Новгород-Северска. Пусть только воевода Петр немедля со всем царским войском придет к нему.
И воевода Басманов с князьями Василием и Иваном Голицыными передались Отрепьеву, а известить о том самозванца отправили в Тулу князей Ивана Голицына да Михайлу Салтыкова.
* * *
Старого Богдана Бельского намедни царь Федор из ссылки в Москву воротил. Бельский утром встал с петухами и, пока солнце взошло, успел обойти все амбары и теперь, кряхтя, спустился в глубокий погреб. На ощупь потрогал пустые бочки из-под солений, постучал скрюченным пальцем по замшелым дубовым клепкам бочек, в каких в прежние годы хранилось вино и хмельной мед.
Богдан Бельский на чем свет стоит последними словами ругал покойного царя Бориса.
Неспроста бранился Бельский. При Иване Грозном он и Борис Годунов в царских любимцах хаживали и дружбу меж собой водили. Умер Грозный, и, видит Бог, Бельский поддержал Годунова, когда тот мостился на царство. Но потом легла Борисова опала на Романовых, Черкасских и других. Не миновала она и Бельского. Сначала Годунов отправил его воеводой на отдаленную окрайну, где Десна-река. Здесь Богдан построил город Борисов. Злые языки донесли Годунову, будто на воеводстве Бельский бахвалился: «Царь Борис на Москве царь, а я царь в Борисове…»
По тому навету привезли Бельского в Москву и по велению Бориса казнили казнью непристойной. Немец-доктор вырвал у Богдана бороду – волос за волосом с корнем. Оттого и поныне щеки у Бельского голые, как выдубленная кожа.







