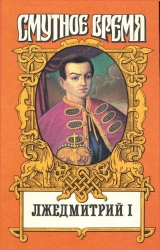
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Глава 9
Чудо в Варсонофьевском монастыре. «Вор, сказываешь?» Патриарх Игнатий. Инок Филарет покидает Антониево-Сийский монастырь. Князь Шуйский уличает Григория Отрепьева. «Смерти достоин князь Василий Шуйский!» Митрополит Филарет. Скопина-Шуйского отправляют за инокиней Марфой. Думы князя Шуйского. «И простила ему все история…»
В полночь в Варсонофьевском монастыре, что на Сретенке, жалобно тенькнул колокол. Так, ни с того ни с сего, всхлипнул и смолк.
Монахини из келий выбрались, головы задирают, вслушиваются. Тихо!
Едва рассвело, игумен с ключарем на звонницу влезли. Недвижимы медные колокола, обвисли их языки. Игумен голову в проем высунул: внизу Москва сонная. Сквозит ветер, треплет седые волосы. И произнес игумен:
– Чудо!
– Чудо! – поддакнул ключарь.
Подхватили и понесли монахи по Москве сказ:
– Диво приключилось в Варсонофьевском монастыре!
Шептали, озираясь:
– Колокол по Годуновым звонил, не иначе.
Потянулись на Сретенку юродивые и калеки, спали на могилах Годуновых, жгли свечи, кликушествовали:
– Безвинно погиб царь Федор!
– Чш-ш!
От богомольцев тесно в Варсонофьевском монастыре. Не пустует кружка для подаяний.
– Господи, спаси люди Твоя!
Прознав о чуде, Отрепьев поморщился:
– На роток не накинешь платок. Поговорят и забудут. Длинногривые со всего шерсть стригут.
* * *
Бражничали у Молчанова втроем: сам хозяин да Григорий Отрепьев с Басмановым.
Пили с полудня вино сладкое, заморское, потом русскую духмяную медовуху. Дубовый стол от яств гнулся. Навалом окорока запеченные и ребрышки свиные; гуси жареные и караси в сметане; пироги с зайчатиной и мясом; грибы жареные и капуста квашеная; яблоки моченые и балыки рыбные; осетр запеченный и икра в глиняных мисках с зеленым крошеным луком.
Самозванец пил много, не закусывал и не хмелел. По правую руку от него Басманов, по левую – Молчанов. Хмурился Басманов, ел нехотя. Молчанов пьяно бормотал:
– Я, надежда-царь, не Васька Шуйский…
– А что Шуйский? – настороженно вскинул брови Отрепьев.
Но Молчанов уже икру загреб ложкой, чавкал, клонился к Отрепьеву. Григорий брезгливо оттолкнул его.
– Не пей боле, Молчанов!
Над Москвой сгустились сумерки, и в горнице зажгли свечи. Григорий повернулся к Басманову, зло дернул за плечо:
– Почему молчишь, Петр Федорович, аль замысливаешь что? Не поступишь ли со мной, как Брут с Цезарем?
Басманов поднял на Отрепьева глаза, посмотрел ему в очи смело:
– Либо не доверяешь мне, государь? Так скажи, уйду.
– Ха! Чай, испугался?
– Я тебя не боюсь, государь.
Лицо Отрепьева помрачнело. Произнес угрюмо:
– Продолжай, Петр Федорович, послушаю.
– А о чем речь? Еще раз говорю, нет у меня перед тобой страха, и к тебе я пристал не от испуга, а по разуму. Был бы жив царь Борис, не переметнулся, ему бы служил. В Федора же Годунова не поверил, в тебя уверовал. И отныне с тобой, государь, одной веревкой мы повязаны. Тебе служить буду верой и правдой, что б ни случилось. Пример же твой, коий ты молвил из римской гиштории, излишен.
– Смело ответствуешь. Но за правду спасибо. – Потер лоб, глаза прищурил, – Мне говаривали, Петр, ты Ксению любишь, так ли?
– Она меня привечала. Моя же душа к ней чиста.
– Налей! – Отрепьев указал на корчагу с вином.
Басманов налил торопливо кубки до краев, протянул. Отрепьев принял, плеснулось вино на стол:
– Пей, боярин!
И сам припал к своему кубку, выпил жадно. Отставил, поднялся. Сказал Басманову резко:
– Испытаю тебя, едем!
* * *
Скачут в первой темени кони, секут копыта дорожную колею, мостовую. Храпит, рвется конь под самозванцем, грызет удила. В испуге шарахаются редкие прохожие. И-эх, растопчу! Жмутся к заборам.
Алый кунтуш с серебряными застежками нараспашку, тугой ветер треплет полы, хлещет в лицо.
На Арбате стрелец дорогу заступил:
– Кто там озорует?
Не успел бердыш выставить, государев конь сшиб его широкой грудью, басмановский дотоптал. Вскрикнул стрелец и стих.
Открыл рот Отрепьев, ловит на скаку свежий ветер.
Пригнулся к гриве Басманов, едва поспевал за государем. Бродило хмельное вино в голове, путались мысли. Куда, зачем мчатся?
У старых годуновских ворот осадили коней. Басманов взревел:
– Эй, открывай!
Выскочили сторожа, узнали, мигом ворота нараспашку. Отрепьев под воротной перекладиной пригнулся, чтоб не зашибиться, въехал во двор.
Затанцевал конь. Спрыгнул Отрепьев, кинул повод, взбежал на крыльцо. Басманов едва за ним поспевал. По палатам пошли торопливо. У Ксеньиной опочивальни Отрепьев остановился, на Басманова глянул насмешливо. Сказал хрипло:
– Дале я сам. Ты тут погоди. Ежели она кричать вздумает, не суйся и стрельцов не пускай. Слышишь?
Закусил Басманов губу до крови, головой мотнул. Шагнул Отрепьев в опочивальню, дверь за собой плотно закрыл.
Ксения ко сну приготовилась, в одной исподней рубахе на кровати сидела, ноги спустив. Увидала. Глаза большие, испуганные.
– Не ждала? Ан явился! – Отрепьев скинул кунтуш на пол, двинулся к царевне. – За все мытарства, кои от родителя твоего претерпел, ты мне сторицей воздашь!
Ксения на кровать вскочила, руки выставила, защищаясь.
– Не смей! – И хлестнула обидным: – Вор! Убивец!
Отрепьев приблизился к ней, рассмеялся зло:
– Вор, сказываешь? А кто на трон отца моего обманом уселся? Убивец? Ха! Не твой ли родитель ко мне с ножами подсылал? Нет! Это вы, Годуновы, воры и убивцы!
Ухватил ее за руку, свалил, рубаху разорвал. В лицо винным перегаром дышит, хрипит:
– Уйду, когда свое возьму. Это я тебе говорю, царь Димитрий, слышишь?
* * *
На Ивана Купалу церковный собор возвел в патриархи, архиерея грека Игнатия.
Настоял Отрепьев. Не забыл, как Игнатий встречал его в Туле, служил молебен, царем именовал.
Был патриарх Игнатий покладист и самозванцу служил верой и правдой.
* * *
О царских милостях на Москве разговору. Нагим чины и достояние воротили, а Михайлу Нагого, дядю царя, саном великого конюшего нарекли.
Не обошел новый царь и других. Василия Васильевича Голицына возвел в сан великого дворецкого; Богдана Бельского сделал великим оружничим; Михайлу Скопина-Шуйского – великим мечником; Лыкова-Оболенского – великим кравчим, а думного дьяка Афанасия Власьева – окольничим и великим секретарем и казначеем; дьяка Сутунова пожаловал в секретари и печатники; Гаврилу Пушкина – в великие сокольничьи, не остались забытыми и иные дворяне.
* * *
Рассвет едва зачался. В лесу на все лады защелкали, засвистели птицы. На чистое небо краем выползло яркое солнце, скользнуло по верхушкам деревьев, забралось на монастырский двор. Загудели, затрезвонили колокола в Антониево-Сийском монастыре.
Монахи, что муравьи на солнце, вылезли, у трапезной собрались, провожали инока Филарета. Молодой послушник подогнал возок, расстелил поверх свежего сена домотканое рядно и, обойдя коня, поправил упряжь. Монастырская кляча, отгоняя назойливых мух, лениво помахивала хвостом.
Поджарый ключарь вынес из амбара куль с едой, уложил на воз, под сено, проговорил:
– Поди-тко, не один дён.
Послушник, наряженный сопроводить инока до самой Москвы, окающе поддакнул:
– Дорога-от, впору за месяц бы обернуться.
Переминаясь с ноги на ногу, монахи молчаливо поглядывали на игуменскую келью. Отворилась дверь, и, поддерживаемый иноком Филаретом, вышел игумен Иона. Малого росточка, Филарету по плечо, от худобы светился, а шел игумен бойко. У возка остановились, обнялись. Иона сказал:
– Еще когда привезли тя, брат Филарет, в нашу обитель, чуял, не на всю жизнь.
– Я, отче Иона, монах по принуждению.
– Знаю, знаю, – махнул рукой игумен.
– Новый царь меня и семью мою, какую Годунов по свету разбросал, в Москву ворочает. Однако клобука, на мою голову силой надетого, и пострижения монашеского снять не волен. Один Бог лишит меня чина иноческого. Отче Иона, не ведаю, куда поселит меня нынешний патриарх Игнатий, какой удел ждет меня?
– Брат Филарет, чую, не монашеская келья жилье твое, а архиерейская либо и того выше.
Губы Филарета дрогнули в усмешке:
– Вещун душа твоя, отче Иона. Я же за саном не гонюсь. – Поклонился низко. – Прости, отче Иона, и вы, братья, простите, коли в чем прогневал вас. Всяко было.
– Не брани нас, брат Филарет, – разом загалдели монахи, – Не держи обиды на нас.
Забрался Филарет на телегу. Послушник коня стеганул концами вожжей:
– Трогай-от, голуба!
* * *
Не близок путь от Антониево-Сийского монастыря до Москвы.
Молчалив послушник, знай понукает лошаденку, не мешает иноку Филарету думать. Свершилось то, чем жил последние годы. Нет рода Годуновых, искоренили. Ныне Отрепьев царствует. Милость самозванца и его, инока Филарета, коснулась. Да иначе и быть не могло. Кто самозванца породил? Он, Федор Романов, да Шуйский с Голицыным…
Филарет вздыхает, шепчет сам себе:
– Суета сует.
И снова думает.
Гоже ли ему, боярину Романову, монаху-расстриге Гришке Отрепьеву поклоняться? Зазорно, а терпеть надо до времени. На царстве бы ему, Романову Федору, сидеть. Их род издревле тянется, да Борис Годунов подсек, знал, как больней ударить. Теперь монаху Филарету царского венца не видать… Настанет час, кого же в цари вместо Отрепьева сажать? И Филарет думает, князей по очереди перебирает… Голицына… Черкасского… Нет! Этих нельзя. Допусти их, и они своим родом надолго на царстве укоренятся. Шуйского Василия разве?
Видит Бог, он, Филарет, Шуйского не любит. Князь Василий труслив и пакостник, однако не женат и бездетен. После смерти Шуйского бояре сызнова царя избирать будут… И в душе боярина Федора Никитича Романова ворохнулось тайное: к тому дню и сын Михаил в лета войдет, тогда его и на царство…
* * *
У Шуйского ноги в коленях ломило, подчас ступать невмоготу. Боль то отпускала, то снова забирала. Ни одна знахарка не могла помочь князю Василию. И в отрубях ноги ему парили, и в крапиве, да все попусту.
Дворовые девки-зубоскалки хихикали, пересмешницы: «Кровь дурная иному в голову, а нашему князю-уроду пониже пояса бьет».
Собрался московский купец Федор Конев попытать торговой удачи в ганзейских городах. Слух был, в Любеке и Бремене мед и кожа в цене. Хоть путь и опасный, но для купца риск – дело привычное.
Прознал Конев, что у Шуйского бортевого меда в достатке, еще от старых запасов бочки не опустели, зашел к князю Василию. Однако купца в хоромы не впустили, сказали: «Недомогает князь Василий Иваныч».
Федор Конев явился не один, привел знакомого Костю-лекаря. Князь в горнице отдыхал – ноги на лавке, маленькие глазки гостей буравили. По хоромам из поварни дух приятный в ноздри шибал. Лекарь зажмурился, с утра во рту ни крошки.
Шуйский сказал раздраженно:
– Кабы мне твои ходули, а мои тебе…
Покуда купец с князем о цене на мед рядились, лекарь Шуйскому ноги осмотрел, ступни какой-то мазью смазал. Князь Василий сказал купцу:
– Ты, Федька, в торг пускаться решил, аль не боишься? Воры зело шастают, разбои чинят!
Купец молодой, отчаянный, ответил – не поймешь – в шутку ли, всерьез:
– Ин, князь Василий Иваныч, я на государя Димитрия полагаюсь. Изведет он разгульные ватаги, стрелецкими заставами обезопасит дорогу. Русской земле без торга никак нельзя.
– То так, – Шуйский поскреб редкую бороденку. – Да только царя Димитрия в живых нет. Хе-хе! Его еще в малолетстве зарезали. Нам же ляхи с литвой самозванца подарили.
Костя-лекарь склянку с мазью уронил. Ух ты! А князь Василий свое речет:
– Не дюже на самозванца полагайтесь, он шляхте слуга. Зело опасен Гришка Отрепьев. Еще погодите, когда ляхи с невестой самозванца Мариной Мнишек наедут, сколь обид причинят московскому люду.
* * *
Изменив царю Федору Годунову, Басманов душой не казнился. И когда Ксению предал, не слишком тужил. А вот когда Басманов говорил Отрепьеву, что связан с ним одной веревкой, в этом он не кривил. Басманов никогда не верил в истинность царевича Димитрия, однако понял, время Годуновых кончилось, а самозванец обрел силу. И Петр Федорович Басманов в тугой узел стянул свою жизнь с жизнью Отрепьева…
* * *
Холопа высечь можно, холопа казнить дозволено, но как заставить холопа замолчать?
Басмановские холопы шептались: «А царевич-то не настоящий. Литва самозванца для нас припасла!»
Верный Басманову челядин донес о том хозяину. Велел Басманов взять на допрос двух рьяных холопов. Пытали их батогами, и признались они, слыхали-де от Кости-лекаря.
Петр Федорович Басманов в Кремль поспешил. Отрепьев в тот час в библиотечной хоромине работал. Приходу Басманова обрадовался. Поглаживая кожаный переплет книги, сказал с сожалением:
– Вот чего многие бояре не приемлют, так это премудрости книжной! Оттого и скудоумием страдают.
Заметил на лице Басманова озабоченность:
– Что хмур?
– Не знаю, как и сказывать тебе, государь, но и молчать не смею. Сызнова по Москве слух о тебе пускают.
Насупился Отрепьев, отвернулся. Долго молчал, потом спросил:
– Взяли кого?
– Велел я притащить на допрос Костю-лекаря, но, чую, не в нем суть.
Отрепьев прошелся по хоромине, поглаживая бритые щеки.
– Тебе, Петр Федорович, дознание препоручаю. Хватай, кого посчитаешь нужным.
Басманов спросил осторожно:
– А ежели вина на кого из именитых падет?
Лжедимитрий приблизился, сказал резко:
– Говорю, любого!
* * *
В пыточной Костя-лекарь показал, как с Федором Коневым были у Шуйского и князь Василий Иванович поведал им о смерти царевича Димитрия. А еще говорил Шуйский, что новый царь вор и самозванец.
Привели на допрос купца Федора Конева, и тот на огне медленном слова лекаря подтвердил. И тогда по указу Отрепьева взяли князя Шуйского, а за ним и братьев его Дмитрия и Ивана.
* * *
Не по прежним обычаям собралась Боярская дума. В Грановитую палату позвали не только патриарха и бояр, но и митрополитов с архиереями и епископами.
В длиннополых кафтанах и высоких шапках входили бояре, занимали свои места, косились на попов, ворчали:
– Дума аль собор церковный?
Князь Телятевский смеялся:
– Кабы сюда еще выборных из торговых и мастеровых! То-то забавно…
Пересекал палату сухопарый Голицын, клонил голову. Нелегко князю Василию, дума-то сегодня не обычная: князя Шуйского с братьями судить предстоит.
Ждали государя. Басманов к своему месту проследовал, а Игнатий остановился у патриаршего кресла, оно ниже царского трона, повернулся к боярам, проговорил громко, на всю Грановитую палату:
– Царь Димитрий Иванович велел нам вину князя Шуйского с братьями заслушать, и яко дума сочтет, так тому и быть.
Голос у патриарха Игнатия звонкий, черные глаза веселые. Воротынский заметил, шепнул Черкасскому:
– Не жалеет патриарх князя Василия.
Черкасский трубно нос выбил, ответил:
– Ему, греку, какая печаль до русских князей.
– Игнатий самозванцу служит, – прошептал старый Катырев-Ростовский и по сторонам посмотрел: ненароком услышит кто.
Молчавший до того юный князь Скопин-Шуйский выкрикнул:
– Аль дума без государя?
Патриарх двурогим посохом об пол пристукнул:
– Царь Димитрий Иванович нам во всем доверился. – Сел в кресло, знак подал.
Впустили Шуйских в Грановитую палату. Князь Василий впереди, лицо бледное, щурит маленькие, подслеповатые глазки. Всю жизнь входили Шуйские в Грановитую палату боярами думными, а теперь привели их ответ держать. Увидел князь Василий Иванович свое место незанятым, от царского недалече, направился к нему и тут же замер посреди палаты.
Патриарх сурово голос подал:
– Признаешь ли вину свою, князь Василий?
Насторожился Голицын, ладонь к уху приставил. Шуйский голову поднял, посмотрел на патриарха и бояр. Сказал совсем неожиданно:
– Нет на мне вины, ибо не государя бесчестил, а самозванца.
Ахнула дума, загудела ульем потревоженным.
– Врешь! – подхватил Басманов. – Изворачиваешься, князь Василий. Нам ли не знавать тебя, клятвопреступника!
Шуйский ладошкой утер лысину.
– Ай, Петр Федорович, тебе ли такое сказывать? Ты ли не таков? Когда ты истинным был – при Годуновых либо седни? Молчишь? Ты бросил в меня камень, но сам безвинен ли? Зело кричишь ты за царя нынешнего, а кто поручится, не изменишь ли?..
Снова стукнул посохом Игнатий.
– В истинности царской ты усомнился, князь Василий, великий грех взял на себя!
– Либо один я так мыслю, владыко? – спросил Шуйский и взглядом по думе повел, задержался на Голицыне.
Сжался князь Василий Васильевич, не ожидал такого от Шуйского. Голицын думал, Шуйский каяться будет, плакаться, а он вишь какие речи держит, на него такое не похоже.
– Секира по Шуйскому плачет! – притопнул Басманов.
Катырев-Ростовский робко голос подал в защиту князя Василия:
– Шуйские рода древнего!
– И сказал Христос: «Бросьте в нее камень, кто из вас не грешен», – громко, на всю палату вздохнул Черкасский и низко опустил голову.
– Казнить! – снова раздался требовательный голос Басманова.
Поднялся патриарх Игнатий, и смолк шум в Грановитой палате.
– Царь Димитрий нам Богом дан, и за хулу, возводимую на государя, ты, князь Василий, казни достоин. А Ивана и Димитрия Шуйских лишить вотчин и сослать в галицкие пригороды.
– Достойны! – загудели митрополиты с архиереями и епископами.
«Смерти достоин князь Василий Шуйский!» – приговорила дума.
* * *
И что за судьба у инока Варлаама? То его бояре по всему свету с тайными грамотами гоняют, то царевич в обозе возит, а нынче, как сговорились, все о нем забыли.
Варлаам утреню отстоял на паперти Благовещенского собора, никто и копейки не подал. Что за жизнь?
Горько вздохнул Варлаам:
– Все в руце твоей, Господи…
День начался жаркий, солнечный. Разомлел Варлаам, кожа под редкой русой бороденкой нестерпимо чешется. Подрал ногтями, зевнул. Медленно пересек мощенный булыжником кремлевский дворик, очутился у Боровицких ворот. Постоял недолго и поплелся через Охотные ряды в Кузнецкую слободу.
От бродяжничества совсем похудел Варлаам. На длинном и тощем теле обвисла старая ряса, а из-под клобука рассыпались по плечам жидкие волосы.
Идет инок, в одной руке посох, в другой пустая торба. У Артамоновой кузницы задержал шаг. В открытые двери увидел Артамошку. Тот тоже монаха заметил, позвал. Варлаам посох к стене приставил, сам на порожке уселся. Агриппина, видно, догадалась, что в брюхе у монаха пусто, вынесла ржаную лепешку с луковицей. Жует Варлаам, жалуется:
– Раньше с царевичем един кусок хлеба, случалось, делили, а теперь, едва сунулся в царские хоромы, взашей вытолкали, к Голицыну завернул – псов лютых напустил. Чуть не загрызли!
Артамон пошутил:
– Ты, по всему видать, ждал, что царь тебя лобызать будет, ан под зад коленом получил.
Варлаам, будто шутку не заметил, сказал:
– Поди, не забыл, Артамошка, как мы с тобой в Самбор хаживали? Ох-хо, сколь земель истоптано!.. – И монах пошевелил узловатыми пальцами босых ног.
– Не запамятовал я… И посулы царевича помню.
– Знай, сверчок, свой шесток, Артамошка. Одначе не таким, как мы, боярам и тем перепадает… Поди, знаешь Шуйского? Вот и его казнить будут!
Артамон взялся за мехи, качнул. Загудело. Разгорелись угли. Промолвил, глядя в огонь:
– Слыхивал…
– Князь Василий царевича Димитрия в самозванстве уличил.
Артамон качать перестал, затрясся в смехе:
– Ах, едрен-корень, а не правда ли княжьи слова?
– Свят, свят, – перекрестился инок и засуетился. – За хлеб и за ласку, Агриппина, кланяюсь. Где мой посох? Пойду. Греха с тобой наберусь!.. Попридержи язык, Артамошка, ябедники кругом бродят.
* * *
Неугомонная воробьиная стая, густо усеявшая деревья, что росли под окнами опочивальни, спозаранку устроила драку. Отрепьев пробудился, открыл глаза и, уставившись в расписанный красками потолок, долго слушал птичью возню.
Скинул одеяло, поднялся, потянулся до хруста. С помощью дьяка Власьева принялся одеваться.
– О чем люд на Москве поговаривает, Афанасий?
– Вчера ляхи в Красном селе торговую лавку купцов Ракитиных разнесли, дочиста пограбили. Пожаловались они гетману Дворжицкому, а тот без внимания. Намедни на торгу литвины буйствовали, мужиков задирали.
Отрепьев перебил:
– Не то слышать от тебя хочу, о Шуйском какие речи толкуют?
– Всякие, государь, – замялся Власьев.
В приоткрытую дверь заглянул Голицын:
– Здрав будь, царь Димитрий Иванович!
– А, князь Василий! В самый раз. Ну, входи, входи! Мы вот тут с Власьевым о Шуйском разговор затеяли. Что мыслишь?
– Справедлив приговор, заслужили Шуйские. Однако думаю, государь, ежли ты князя Василия от смерти избавишь, люд в тебе еще боле уверится, станут сказывать: вот царь истинный, обидчиков своих и тех милует, а Шуйскому посрамление выйдет.
– Слова твои истинные, князь Василий, – подхватил Власьев.
Отрепьев нахмурился:
– Довольно, не желаю слышать боле.
* * *
Собрался народ смотреть на казнь Шуйского, запрудил Красную площадь, шумит, любопытствует. Давно, со времен царя Ивана Васильевича Грозного, князьям и боярам головы не рубили. У Лобного места палач с топором топчется, толпе подмигивает.
Из Стрелецкой слободы приоружно пришел целый приказ. Стрелецкий голова, что новгородский ушкуйник горластый, стрельцов вокруг Лобного места расставил, покрикивает.
Те бердышами люд теснят:
– Подайсь, расступись!
Увидел Артамошка Варлаама:
– Эй, инок, а уж не истину ли сказывал князь?
Глаза у Артамона озорные.
– Окстись! – испуганно шарахнулся монах от Акинфиева и спрятался в толпе.
На скрипучей телеге привезли Шуйского, ввели на помост. У князя борода нечесаная, лицо бледное. Протер он подслеповатые глазки, по сторонам посмотрел. Многоликая площадь на него уставилась.
Поднял очи, храм Покровский красуется витыми куполами; за кремлевской стеной колокольня Ивана Великого высится…
…Вот и конец. Взмахнет палач топором, и покатится седая голова князя Василия. Отжил свое Шуйский, смерть рядом с ним, но нет страха. Отчего бы? При Грозном дни считал, дрожал, при Борисе – юлил, терпел. От ненависти к Годуновым и царевича Димитрия выдумал. Однако нынче, когда от Бориса и Федора избавились, признавать беглого монаха за царя он, князь Шуйский, не согласен!
Разве вот прежде времени голос подал?
На помост грозно ступил Басманов, сумрачно посмотрел на князя Василия.
Артамошка Агриппину за рукав потянул:
– Счас начнет вины Шуйского считать. Вона лист какой распустил, едрен-корень!
Развернул Басманов свиток, к глазам поднес.
– «Великий боярин, князь Василий Иванович Шуйский изменил мне, государю Димитрию Ивановичу, царю всея Руси…»
Перевел дух, снова уткнулся в бумагу:
– «…И тот Шуйский коварствовал и злословил, вором и самозванцем именовал. За ту измену и вероломство князь Шуйский на смерть осужден…»
Взял палач князя Василия за руку, повел к плахе. Народ замер в ожидании. Вдруг закричали на площади:
– Сто-ой!
Разом повернулся люд. Из Кремля дьяк верхоконный машет рукой, орет. У Лобного места коня осадил, в стременах поднялся:
– Государь Шуйского помиловал!
Усадили князя Василия в телегу и вместе с братьями повезли в ссылку.
* * *
Проделав дальнюю дорогу, подъезжал инок Филарет к Москве. Своими глазами видел городки малые и села, обезлюдевшие в смутную пору, с трудом оживавшие после голодных и моровых лет. На окраине выбрался Филарет из возка, пошел рядом. Земля после недавнего дождя едва подсохла. Топчет инок сапогами мягкую тропку, радостно глазеет на город.
Боже, сколько ждал он этого часа! Там, в монастыре, снилась ему Москва. Виделась своими улицами и переулками, домами и хоромами, торгом шумным, мощенной камнем площадью, дивными церквами и зубчатой кремлевской стеной. Мысленно хаживал Филарет берегами Неглинки и Москвы-реки, видел, как на Яузе удят мальчишки рыбу. И слышалась ему Москва людским гомоном, перестуком кузнечных молотов и звоном колоколов…
Время обеденное, и купцы закрыли свои лавки. Прошел по улице стрелец, нес связку беличьих шкурок. Видать, занимается этот стрелец скорняжным промыслом.
К Кремлю ближе стало людней. Послушник-ездовой повернулся.
– Править куда?
Филарет очнулся.
– А? На патриарший двор, сыне. К патриарху вези.
В узком переулке два ляха в цветных одеждах, обнажив сабли, гонялись за поросенком. У панов шапки набекрень, бритые щеки раскраснелись. Баба из калитки выскочила, орет, бранит ляхов, а те хохочут, саблями размахивают. Визжит поросенок, мечется. Наконец шляхтич изловчился, ткнул его концом сабли.
Ухватили паны поросенка за ноги, поволокли, не обращая внимания на бабу.
Обогнал Филарета мужик, выругался:
– Озорует литва, обижает!
* * *
Год обещал быть урожайным. Налилась щедро рожь, и по дворам на славу выдались лук и капуста. Радовались мужики – пахари и огородники, забыв недавние походы, копались на своих грядках стрельцы, веселели ремесленные слободы.
Ушли из-под Москвы последние казаки. Получив обещанные награды и набив кошели, убрались в Польшу и Литву многие шляхтичи. Лишь пан Дворжицкий со своими ротами оставался в Москве.
О Шуйских судачить перестали, да и говорить-то о чем, не казнь, а так просто, потеха. Петра Басманова Отрепьев совсем к себе приблизил, во всем доверился.
Инока Филарета патриарх Игнатий возвел в митрополиты ростовские. По церквам и соборам молебны служили о здравии царевича Димитрия и матери его инокини Марфы, в миру царицы Марии Нагой.
А в лесах и на дорогах стрельцы, посланные воеводами из разных городов, ватажных холопов ловили, чинили над ними скорый суд и расправу: почто на бояр и дворян руку поднимаете, от дел своих холопских бегаете…
Тем и жила русская земля тысяча шестьсот пятого года.
* * *
Бояре к царским чудачествам непривычны. Бывает, заявятся утром в Трапезную палату, ждут-пождут государева выхода, а его еще с вечера след простыл. Отрепьев теми часами в деревянном загородном дворце гульбище устраивал с вином и музыкой, где Бахус царствовал над разумом. В полночь девок донага раздевали, забавлялись.
Челядь прислуживала государю верная, на язык мертвая.
На игрищах одни и те же: царь с Басмановым да паны, гетман Дворжицкий и писчий человек при государе Ян Бучинский. И только девки, что ни гульбище, одна-две новые. Тех, какие на потеху негодные и слезы лили, шляхтичи в лес увозили, а там куда девали, лишь им известно.
К утру гости валились, где кого сон сморил, а Отрепьев уходил на вторую половину дворца, вот уже месяц там жила Ксения Годунова.
Стали на Москве поговаривать: девицы красивые исчезают, пойдут к вечерне, а домой не ворочаются.
Винили во всем литву и ляхов.
* * *
В голицынских деревянных хоромах зарешеченные оконца прикрыты ставнями и в просторной палате полумрак.
Вдоль стен лавки резные, сундуки, кованные полосовым железом. У дубового стола стулья с высокими спинками. Сосновый пол в палате выскоблен с песком до желтизны. Прохладно.
На полках утварь выставлена: блюда и чаши серебряные, отделаны чернью. По правую руку от двери висели боярские кафтаны, тут же на скамье высокие собольи шапки красовались.
Князья за столом сидят. Голицын с Черкасским друг против друга, а в торце на почетном месте – митрополит Филарет.
На Филарете не грубая иноческая одежда, а шелковая, черная. На шее крест тяжелый, золотой. Высок, красив Филарет.
– В кои лета свиделись, князья дорогие, самозваному царю, нами порожденному, спасибо. – И засмеялся.
Голицын склонился над столом. Из-под насупленных бровей разглядывает Филарета. Черкасский молчит.
– Не запамятовал, отче, как приезжал я к тебе в обитель? Сомневался, так ли поступаем? Может, Гришка Отрепьев и не надобен был? Теперь ходи под расстригой.
Филарет поправил на груди крест, ответил:
– Аль мне такое забывать! Помню тот приезд твой. Верно, говаривал я, уповал на Отрепьева и не ошибся, дайте срок. Его руками извели мы Годуновых, наступит пора и самозваного царевича. Однако торопиться не надобно, а то как с князем Василием Ивановичем Шуйским случится. Нетерпелив оказался. Вот уж от кого не ждал!
– Да, жаль князя Василия, – вздохнул Черкасский.
– Неделю, как в Москве я, – снова сказал Филарет, – а и то не укрылось, у люда на литву и ляхов недовольство зреет. Чую, начало, ягодки впереди.
– Истину сказываешь, – поддакнул Голицын.
Филарет уперся о стол, поднялся:
– А о Шуйском, бояре, не печалиться надобно, а вызволять. В единой упряжке он с нами, до скончания. Завтра у самозванца буду. И еще скажу вам, князья, бояре великие. Мы-то узнали в Гришке Отрепьеве царевича Димитрия, а вот признает ли инокиня Марфа, ась? – В очах митрополита Филарета лукавство. – Смекаете?
– И како тебе такое на ум пришло? – развел руками Черкасский.
Голицын сказал с сомнением:
– А может, Гришка не позовет инокиню Марфу в Москву? Испугается, вдруг да не пожелает она объявить его своим сыном?
Филарет очи прикрыл ладошкой, ответил:
– Того и хотим от инокини Марфы. Коли Отрепьев сам не догадается послать за ней, ты, князь Василий Васильевич, ему и подскажешь. Либо я слово промолвлю, коли представится…
* * *
Как желанного гостя, встретил Григорий Отрепьев митрополита Филарета. У двери Трапезной палаты за руку бережно взял, рядом с собой усадил.
– Рад тебя видеть, владыко. Чать, не забыл ты, как в прошлые годы, скитаясь под чужим именем, служил я у вас, Романовых и Черкасских? Борискиного коварства опасался.
– Здрав будь, государь! – Проницательные глаза Филарета вонзились в Отрепьева. – Радуюсь, что помнишь наше добро к тебе. Кабы знал Годунов, кого мы укрывали…
Умен и хитер самозванец, вон как речь ведет. На митрополита глядит, головой качает:
– Эвон что с тобой Бориска вытворил, почитай, первого на Руси боярина, Федора Романова, в монастырь заточил!
Филарет промолчал. Молчали и сидевшие в палате поляк, писчий при государе человек, Бучинский и боярин Власьев. У Бучинского головка маленькая, глазки угодливые, слова Отрепьева на лету ловит.
– Мало что помню я из своей угличской жизни, да и какой с меня спрос, малолеток был, а вот припоминаю, как ты в Угличе к дядьке моему, Михайле Нагому, приезжал. – Отрепьев заглянул в лицо Филарету, помедлил выжидающе, но митрополит ничего не сказал.
Не мог Филарет вспомнить такого, чтоб он в Углич ездил. Однако подумал: «Не прост расстрига». Вслух же поддакнул:
– Было такое, государь. Сколь годов минуло, сколь годочков. – Вздохнул. – Инокиня Марфа, поди, по тебе все очи выплакала. Ждет-пождет встречи с тобой, государь?
Поднял голову Отрепьев, насторожился, однако в словах Филарета подвоха не учуял, ответил:
– Думаю и я об этом, владыко. Нарядим послов за царицей Марией. Годуновы ее царского имени лишили, инокиней Марфой нарекли, вона в какую даль услали, мать с сыном разлучили, да Богу иное угодно.
– Нет роднее человека, чем мать, – тихо сказал Филарет. – Ни время, ни иноческий сан не властны над материнским чувством, – Голос у митрополита льется, журчит ручьем. – И то, государь, что ты инокиню Марфу в Москву позовешь, похвалы достойно. Встреча твоя с ней не одним вам в радость, но всему люду ликование, а недругам твоим, злословщикам, посрамление полное.







