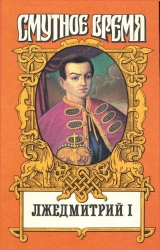
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
Удача пана Самуила
Пан Самуил вошел в комнату жены будто с некоторою боязнью; он почему-то даже ступал на цыпочках. Это был невысокий, кругленький человек с пухлым лицом, на котором маленький красноватый нос напоминал вишню, с редкими седеющими каштановыми волосами и рыжеватыми густыми, но короткими, торчащими, как щетина, усами.
Он подошел под благословение к отцу Пию, поцеловал руку жене, осведомившись о ее здоровье и о том, как она провела ночь, потом спросил, беспокойно моргая своими маленькими выцветшими глазами:
– Ты меня зачем-то хотела видеть, Юзефочка? И вы тоже, отец Пий?
– Садись, Самуил, – сказала ему жена.
Он торопливо опустился на кресло и, смущенно мотая головой, поглядывал то на жену, то на патера.
– Духовный сын мой!.. – заговорил патер после непродолжительного молчания. – Твоему дому грозит несчастье!
– Несчастье? Боже мой!.. Какое? – беспокойно заерзав на кресле, промолвил пан Самуил.
– Дай досказать отцу Пию, – заметила ему пани.
– Я так только, Юзефочка… Так несчастье? Ска-а-жите!..
– Да, несчастье! Твоей семье грозит распадение, твоей и всех твоих домочадцев душам – вечный адский пламень! Ужасный червь подтачивает благополучие твоего дома.
– Но, Господи…
– Червь этот – ересь! – закончил патер.
– Ересь?
– Самуил, – заговорила пани, – пора обратить внимание на то, что наших дочерей может заразить пагубная ересь. За их души придется нам давать Богу ответ!
– Но объясните!
– Погоди. Жених Анджелики – еретик…
– Но пан Максим такой…
– Хоть он и пан Максим, а все-таки еретик… А потом этот боярин.
– Вот оно – зло этого благочестивого дома! – воздев руку, патетически воскликнул патер.
– Пан Белый-Туренин – зло? Помилуйте! Но что он сделал? – отважился запротестовать пан Самуил.
– Вот оно! Вот оно! Еретик уже успел обворожить и твою благочестивую, искушенную испытаниями душу! Каково же бедным неопытным девушкам! Горе им, горе!
Пан Самуил с недоумением смотрел на него.
– Пана боярина следует возможно скорее удалить из нашего дома, – сказала пани Юзефа, наклонившись к своей работе – какому-то вязанию.
– Гм… Почему?
– Он вовлекает твоих дочерей в греческую ересь! – воскликнул отец Пий.
– Может ли быть!
– Я сам слышал.
– Ну, когда так, конечно… А только… Мне, право, не верится…
– Опомнись, Самуил! Кому ты не веришь? – вскричала пани Юзефа, указывая на патера.
Тот имел вид оскорбленной невинности.
– Я верю, верю… Но… Пан боярин…
– Ты должен его попросить удалиться, – сказала пани Влашемская. – Не прямо, а намеками…
– Но ведь он спас Максима!
– Еретик спас еретика! Велика заслуга.
– Что ж, иной еретик лучше другого католика, – расхрабрился задетый за живое пан Самуил.
– Ты богохульствуешь, сын мой! – грозно вскричал патер.
– И, право, я не знаю… Я не могу удалить его! – вдруг решительно выговорил пан Самуил.
Он был робок, нерешителен, но иногда на него находило упрямство, и тогда с ним ничего нельзя было поделать. Это прекрасно знала его жена, она сообразила, что на этой почве вряд ли удастся склонить мужа; приходилось пустить в ход «крайнее средство», о котором говорил ей патер.
– Есть еще одна причина… Я не хотела тебе сообщать, но… – промолвила пани Юзефа.
– Какая, Юзефочка? – чрезвычайно мягко проговорил пан Самуил, уже струсивший своей решительности.
– Он… Он развращает Анджелику…
Лицо пана Влашемского залилось яркою краской.
– Что ты говоришь?
– Чего ждать от схизматика? – презрительно заметил отец Пий.
– Он хочет отбить Анджелику от Максима, – продолжала пани.
– Гм… Быть может, это – клевета?
– Самуил! Ты хочешь меня вывести из терпения! – воскликнула пани Юзефа.
– Не сердись, Юзефочка! Если говорят, значит, есть что-нибудь похожее на правду… Я постараюсь, во всяком случае, чтобы пан боярин поскорее уехал.
– Слово?
– Слово чести!
– Ну, вот! Давно бы так! – облегченно вздыхая, сказала пани.
– Удалением еретика ты только заслужишь милость Божию, – заметил патер.
Удалившись из комнаты жены, пан Самуил долго ломал голову, как бы удобнее исполнить то, о чем его просили пани Юзефа и отец Пий. Не дай он слова, он, может быть, «отъехал бы на попятный», но слово было дано. Приходилось действовать.
Как нарочно, ничего подходящего пан Самуил придумать не мог, и это его раздражало. Досадовало его немало и то, что приходится расстаться с Белым-Турениным: за протекшее время пан Самуил успел полюбить боярина, как родного сына.
Он в раздумье шагал по своей спальне, куда удалился, чтобы наедине собраться с мыслями, когда к нему вошел сам Павел Степанович Белый-Туренин.
Боярин мало изменился. Он только слегка похудел да блестков седины прибавилось больше.
– А я тебя везде ищу, пан Самуил, – заговорил Павел Степанович – он по русскому обычаю говорил всем «ты», впрочем, в то время местоимение «вы» употреблялось и поляками еще довольно редко: это была чужеземная новинка, завезенная в Польшу вместе с французскими модами, которые мало-помалу начали вводиться при Сигизмунде среди знати. – Пришел спасибо тебе сказать за хлеб-соль твою, за ласку: завтра в путь-дорогу отправляюсь.
Пан Самуил едва мог удержаться от радостного движения. «Поручение жены исполнено!» – подумал он, но потом ему почти грустно сделалось, что это совершилось так скоро: он надеялся, что боярин проживет в доме еще несколько дней.
– Чего ж ты так торопишься? – спросил он.
– Пора! И то совестно, что загостился. Рана давно зажила.
– Далеко отправляешься?
– А сам не знаю. Я ведь бобыль ныне, – печально усмехнулся Павел Степанович, – где приглянется, там и остановлюсь.
– Поезжай в Краков. У меня есть там много знакомых, дам письма к ним. Они тебя ко двору королевскому представят…
– Спасибо… Пожалуй…
– Новые места увидишь, новых людей. Особенно теперь, такое время… Слышал про царевича-то?
– Слышал малость. Да я думаю, не пустая ль молва только.
– Трудно решить… Так завтра едешь? Пожил бы еще недельку хоть?
– Нет, спасибо, пан. Решил, так поеду.
– Ну, не неволю, как хочешь, – говорил пан Самуил, выходя вместе с боярином из спальни, а сам думал: «Ну, выпала мне удача! И Юзефочка, и отец Пий будут довольны. Один я недоволен. Эх-эх, Господи!»
XVIЗа обедом
К обеду в Черный Брод приехал гость. Это был красивый молодой поляк пан Войцех Червинский; он отправлялся в Краков и по пути завернул к Влашемским.
Таким образом, за обед уселось семь человек, общество хотя и небольшое, но довольно разнородное и по костюмам, и по народностям. Пан Самуил был литвин, Червинский – чистокровный поляк, Белый-Туренин – москвич, пан Максим – западный русский и разнился от боярина говором, отец Пий – его национальность было довольно трудно определить, но, кажется, он был итальянец. То же и относительно религий: семья пана Влашемского была строго католической, пан Войцех, хотя числился католиком, но склонялся к протестантизму, что было далеко не редким явлением среди панов того времени; что касается Павла Степановича и Максима Сергеевича, то они были, как известно, православными.
Не меньшее разнообразие замечалось и в костюмах. Червинский и Влашемский были в жупанах и кунтушах, – у первого преобладали яркие цвета, у второго – более темные, – в цветных сапогах; Белый-Туренин нарядился в бархатный кафтан вишневого цвета; высокий «козырь» – воротник стоячий, пришитый к задней части ворота – был унизан по бортику зернами жемчуга; это была единственная роскошь, допущенная боярином в своем наряде; Максим Сергеевич был одет тоже в русское платье, но уже несколько измененное в покрое на литовский лад. Что касается отца Пия, сидевшего неподвижно, с глазами, устремленными долу, и всем своим видом выражавшего христианское смирение и незлобие, то на нем была неизменная черная ряса, как на пани Юзефе – неизменное темное платье, несколько напоминавшее костюм монахини; панны Анджелика и Лизбета были в цветных нарядах – одна в голубом, другая в красном; в покрое их платьев уже сказывалось влияние французской моды. Это влияние в то время еще едва начиналось, но затем пошло быстрыми шагами, и в начале второй половины XVII века уже все высшее дворянство Литвы и Польши говорило и одевалось по-французски.
Красный цвет очень шел к Лизбете, но, может быть, от него ее лицо выглядело матово-бледным. Она была серьезна, почти грустна. Панна Анджелика тоже не была весела: поручение матери не выходило у нее из головы. Она то и дело с затаенной тревогой посматривала на жениха.
Вначале веселый, пан Максим, видя, что его невеста чем-то озабочена, тоже притих. Павел Степанович был задумчив. По лицам пани Юзефы и отца Пия трудно было узнать, в каком они находятся расположении духа. Только пан Самуил да гость были веселы. У пана Влашемского глаза так и сияли от радости.
– Надеюсь, что пан сделает мне честь, останется погостить в моем доме? – сказал во время обеда пан Самуил гостю.
– Премного благодарен, пан Самуил, – ответил Червинский, – рад бы, но не могу: надо спешить.
– Напрасно! А куда пан направляется?
– В Краков, ко двору нашего наияснейшего короля Сигизмунда. Завтра же поеду… Переночевать мне пан дозволит?
– Можно ли об этом спрашивать? – воскликнул Влашемский. – А у тебя, пан, будет до Кракова попутчик.
– А! Очень рад!
– Вот боярин туда же думает ехать… Ты знаешь, Юзефочка, пан Белый-Туренин хочет покинуть нас завтра, – добавил он, обращаясь к жене и всем своим видом говоря ей: «Что? Ловко устроил? Не ожидали так скоро?»
Посторонний наблюдатель мог бы легко подметить, что сообщение это произвело на присутствующих самое разнообразное действие. Панна Лизбета вспыхнула сперва, потом побледнела еще больше прежнего и опустила глаза; видно было, как нечто вроде легкой судороги пробежало по ее лицу; можно было ожидать, что она заплачет; патер вздрогнул, как от электрического удара; пани Юзефа удивленно взглянула на мужа, потом переглянулась с отцом Пием; Анджелика тоже удивилась – она ничего не знала о предстоящем отъезде боярина; только Максим Сергеевич остался совершенно спокоен: Павел Степанович уже ранее сообщил ему о своем намерении.
– Что же, пан боярин, соскучился, верно, у нас? – пробормотала пани Юзефа.
– Нет, пани, но нора мне и честь знать – и то загостился, – ответил Белый-Туренин.
– Слышал новости, пан Самуил? – сказал Червинский.
– Это о царевиче-то? Слышал немножко. Да я все думаю, не пустой ли это слух.
– Нет, нет! – с живостью возразил пан Войцех. – Царевич действительно появился.
– Не так тут что-нибудь, – промолвил Павел Степанович, – может быть, и взаправду царевич какой-нибудь объявился, а только чтобы это был Димитрий – это вряд ли.
– Почему пан боярин так думает? – спросил Войцех.
– Потому что Димитрия, говорят, в живых нет. О смерти его я многое слыхал: одни рассказывают, что царевич сам закололся в припадке недуга, другие – что будто бы его Борис зарезать приказал, а все вместе – что Димитрия в живых нет.
– В том-то и дело, что царевич избежал смерти! – вскричал гость.
– Избежал смерти?
– Да! Вместо него убили другого мальчика. Изволь послушать, что мне рассказал приятель. Был у вельможного князя Вишневецкого в Брагине слуга именем Григорий. Это был странный человек, вечно задумчивый, сторонившийся от всех своих товарищей. Многие подозревали, что в его прошлой есть какая-то тайна. Случилось этому Григорию тяжело заболеть. Позвали священника, и Григорий на духу ему открыл, что он не простого звания, и просил в случае смерти погребсти его так, как прилично особам царственного рода. Священник не счел возможным сокрыть от князя Адама Вишневецкого то, что сообщил таинственный слуга. Князь пришел к ложу больного, и так как больной лежал в забытьи, то обыскали его постель, осмотрели все его вещи. Под подушкой нашли рукопись, где было сказано, что Григорий – не кто иной, как царевич Димитрий. В этой же рукописи было подробно изложено, как несчастный царевич избег ножа убийц, благодаря помощи некоторых добрых бояр и дьяков Щелкаловых, был удален потом в Литву, где и скрывался в неизвестности, опасаясь преследований Бориса. На груди Григория нашли золотой крест, осыпанный драгоценными камнями. Скажи, откуда простой слуга мог бы достать такой крест? Григорий, или, вернее, царевич Димитрий, после объяснил, что это – подарок его крестного отца, князя Ивана Мстиславского. Нашлись наконец люди, удостоверившие сходство Григория с царевичем Димитрием, которого им довелось некогда видеть. Особенно один из них, некто Петровский, поклялся, что приметы у Григория – родимые бородавки на лице и короткая рука, суть именно такие же, какие были у царевича-отрока. Одним словом, не остается сомнения, что он – истинный царевич.
– Все может быть, – промолвил Белый-Туренин. – Этого слугу звали Григорием?
– Да.
– Ты говоришь, пан, у него на лице две бородавки и рука одна покороче?
– Да, да.
– Гм… Дивно! Я знаю одного такого же Григория, – задумчиво проговорил боярин, – С ним вместе мы вот Максима Сергеевича сюда довезли из лесу, когда на него там злодеи напали. Долго он у Вишневецкого в слугах жил?
– Нет, несколько месяцев.
– Гм… Уж не он ли это и есть! – вскричал боярин.
– Теперь царевич все еще у князя Адама? – спросил Влашемский.
– Нет. Князь Адам дождался, когда царевич поправился, и свез его сперва к своему брату, князю Константину Вишневецкому, потом к Юрию Мнишеку. В судьбе царевича также принимает участие папский нунций в Кракове – Рангони. Я слышал, что наш наияснейший король пожелал повидать царевича и хочет помочь ему добыть престол.
– Значит, опять будет воевать с Москвою? – сказал пан Самуил.
– Очень может быть.
– Царевич – римский католик, полагаю? – прервал свое молчание отец Пий.
– Нет, он, как вы называете, – «восточный схизматик». Говорят, склоняется, впрочем, к латинству.
– Он, вероятно, только орудие Небесного Промысла для обращения в истинную веру многих миллионов еретиков, – сказал патер.
Пан Войцех насмешливо посмотрел на него.
– Захотят ли еще они перейти в латинство! Для них латинство – ересь. И мне кажется, они более правы! – улыбаясь, проговорил Червинский.
– Ужасно слышать подобное из уст католика! – заметила пани Юзефа.
– Ну какой я католик! Я более уважаю Кальвина и Лютера, чем папу римского.
– А уж что наши русаки вере отцов не изменят – голову дам порукой. Покажись только поп латинский да начни им сладкие речи говорить, так они покажут ему себя! Не поздоровится! – громко сказал Павел Степанович и засмеялся.
Усмехнулся заодно с ним только пан Войцех да Максим Сергеевич, остальные сделали вид, точно не слышали резкого замечания. Патер, весь багровый от злости, глядел в свою тарелку.
Остаток обеда прошел довольно натянуто. Все вздохнули облегченно, когда встали из-за стола.
XVIIЗверь победил
Тихий весенний вечер уже наступил. Где-то там, далеко за лесом, догорает солнце, и на вершинах деревьев сада Влашемских лежит розовый отсвет. Немного сыро. Земля еще не успела обсохнуть как следует после таяния снега, и влажные, теплые токи тянутся от нее вверх. Зелень еще не вся распустилась, но пушок уже весь пооблетел, и тонкий ароматный запах от только что проглянувших на свет Божий клейких листочков наполняет сыроватый воздух.
В этом запахе весны есть что-то возбуждающее нервы; точно страстью веет от земли-невесты, ожидающей горячих объятий своего жениха – знойного лета.
Весна справедливо зовется порою любви, и если вы, мой благосклонный читатель, ненавистник любви, как враг всякого рода «глупостей», бесцельных, «смешных» для вас, «человека рассудка», – а под «глупостями» вы разумеете все то, что не имеет ясно выраженной материальной пользы: зачем, например, по целым часам проводить перед картиной, статуей? Стоит ли читать стихотворение и стараться вызвать в своем воображении намеченные в нем образы? Не смешно ли серьезному человеку зачитываться романом, повестью, если ваша жизнь течет так же размеренно-неуклонно, как ход хронометра, тогда советую вам плотнее запирать в весеннюю пору окна вашей комнаты, чтобы раздражающий аромат не пробился в нее, не заставил быстрее вращаться вашу кровь, учащеннее забиться холодное сердце и даже, пожалуй – horribile dictu! – не заставил вас откинуть ученый трактат, доклад «его превосходительству» или что-нибудь мудреное в этом роде, над чем вы склонили свою преждевременно полысевшую голову, взять трость и шляпу и, вопреки вашим привычкам, отправиться на прогулку и не на Невский, не на Морскую, а куда-нибудь дальше, за черту города, где распускается липа, где начинает цвести черемуха.
Веяние весны сказалось и на молодом боярине Павле Степановиче Белом-Туренине, гулявшем по саду в этот последний вечер своего пребывания в усадьбе Влашемских.
Он казался задумчивым. Рой воспоминаний о пережитой любви наполнял его душу. Ему было грустно, но эта грусть была нежна, как весенний лепесток; это не была гнетущая, отчаянная скорбь земная, «ночь души», знакомая ему прежде, это была дочь Неба, светлая, чистая, как та слеза, которая готова была упасть с его глаз; все горькое, мрачное, что дала любовь, было забыто, все, что заставляло некогда замирать от счастья сердце – вспомнилось. Он снова жил в радостном прошлом, часы ли, мгновенья ли – не все ли равно?
Разве психическую жизнь человека можно измерять периодами времени? Бывают мгновенья – равные часам, бывают часы – равные мгновеньям.
Полумрак наполнял сад. Наступало молчание ночи, лишь изредка с вершины дерева все тише и тише доносился замирающий голосок какой-нибудь птички. Шедший медленно Павел Степанович вдруг остановился: бесплотный образ любимой женщины принял форму: это она – боярин готов был поклясться – сидела на скамье невдалеке от него.
Он узнал ее бледное личико со строгим профилем. Даже голова была так же немного откинута. Боярин сделал несколько быстрых шагов, сидевшая повернула голову – и очарование исчезло: в ней не было ни малейшего сходства с той женщиной, о которой думал Павел Степанович. Это была Лизбета.
Боярин понял, что он обманут сумраком, тяжело вздохнул и подошел к панне.
Лизбета вздрогнула, когда увидела перед собой Белого-Туренина.
«Я не искала… Сам пришел… Будь что будет – судьба!» – подумала она.
– Что, панночка, испугал я тебя? – спросил Павел Степанович, опускаясь рядом с нею на скамью.
Девушка так волновалась, что ответила не сразу.
– Нет.
– А мне показалось, что ты вздрогнула маленько.
– Это так – от сырости да и прохладно.
Она смущенно мяла в руках бахрому платка, накинутого на плечи. Все, что собиралась она сказать боярину, вылетело у нее из головы; вместо того какой-то хаос мыслей наполнял ее мозг. Ей хотелось говорить, но слова не находились, и она молчала, и негодовала на себя за это молчание, и боялась, что вот сейчас боярин соскучится с нею сидеть и уйдет, и тогда уже никогда не придется свершить задуманного: завтра ведь он уже уезжает.
Белому-Туренину было тоже не до разговоров. Прежнее настроение сменилось новым. Когда обманчивый сумрак явил перед ним, а после рассеял образ недавно любимой женщины, боярин пережил в это мгновение резкий переход от радостного восхищения к глубокому отчаянию. Не зажившая еще сердечная рана открылась и заструилась кровью. Горечь утраты почувствовалась с новою силою.
Занятый невеселыми думами, он почти забыл про Лизбету, когда ее маленькая ручка легла на его плечо.
– Что так грустен, пан боярин?
Павел Степанович поднял опущенную голову и взглянул на панну: что-то новое послышалось ему в ее голосе – так когда-то говорила с ним его «люба».
– Эх, панночка, тяжело на сердце! – вырвалось у него.
– Ты всегда грустишь, пан боярин… Я заметила… У тебя горе было, да?
– Было, – ответил Павел Степанович, поддаваясь ее ласкающему голосу. – Было, – повторил он. – Али с радости седина-то в бороде проблеснула?
– Да, я всегда удивлялась. Такой молодой, и уж проседь.
– Мало жил – много пережил, – сказал Павел Степанович и опустил голову.
– Пан боярин! – помолчав, заговорила Лизбета слегка дрожащим от волнения голосом. – Говорят, что горе, если им поделиться с… другом или так – с добрым человеком, легче становится… Правда ль, не знаю… Верно, правда… Поделись со мной своим горем – может, тебе легче станет!
Последние слова девушка выговорила быстро, с просьбою в голосе.
Боярин слегка улыбнулся.
– Чистая ты душа, панночка, – ласково сказал он. – Хорошая ты… Спасибо тебе, что пожалела меня. Уж если делиться с кем, так с тобой. Тяжело вспоминать, но будь по-твоему – скажу тебе про мое горе-злосчастье, про судьбину горькую. Завтра вот я уеду отсюда, и никогда мы, быть может, не свидимся. Перед тобой жизнь целая впереди. Много в жизни всяких бед и напастей бывает. Когда придется и тебе переживать черные дни – кому таких дней переживать не случается? – тогда ты вспомяни речь мою, которую я сейчас поведу, и подумай, что и еще горше твоего бывает… Может, от этого тебе и легче станет в ту пору.
Боярин замолк ненадолго, собираясь с мыслями. Лизбета, вся пылающая, не спускала глаз с его лица. Она видела, как глубокая морщина прорезалась на лбу боярина, как он сразу точно постарел и осунулся.
– Недавно все это было, панночка, – тихо начал Белый-Туренин. – Года не минуло, а вон я с той поры поседеть успел… Удалой был я молодец, огневой! На медведя один на один ходил потехи ради, не труслив был и в бою. Ну и задумали посадить на цепь паренька – женил меня отец.
– Как! Ты женат? – воскликнула Лизбета.
– Да… – ответил боярин, не замечая, что его слушательница вдруг вся как-то поникла, сжалась под бременем непосильной тяжести.
– Так вот, женили меня, – продолжал Павел Степанович.
Девушка перебила его:
– Жена жива?
– Жива, должно быть.
– Скучаешь по ней?
– Скучаю? Вспомню – сердце от злобы загорается! – почти вскричал боярин, и в глазах его мелькнул огонек.
– Так ты не любишь жены своей? А? – промолвила панна, и голосок ее дрогнул от радости.
– Татарина больше люблю, чем ее. Но это после сталось. Сперва жизнь наша с нею текла мирно и ладно. До той поры, пока не повстречался я… с Кэтти…
Голос боярина задрожал.
– Как? С Кэтти?
– Да… По-нашему, по-русски то есть, да и по-польски это будет Катерина. Иноземка она была, немка аглицкая из Лунда-города [2]2
Лунд – Лондон.
[Закрыть]. Как судьба меня с нею свела, о том долго говорить, да и к чему, одно скажу, полюбилась она мне так, что дороже ее никого и ничего на свете белом для меня не стало. Полюбился и я ей… Панночка! Не знаешь ты еще, что такое значит любовь эта самая!
«Ой, знаю, милый, знаю!» – хотелось крикнуть Лизбете, но она удержалась.
– Смеялся я прежде, думал, любовь такую вот между парнем и девушкой люди измыслили. Ну, а спознался с нею, с любовью, иное заговорил. Захватит она тебя, закружит, завертит, не вырвешься, да и не будет охоты вырываться, потому только через нее и счастье спознаешь. Кроется в ней и скорбь-тоска, ну да о том не думаешь. Счастлив был я, панночка! Быть нельзя счастливее… Зато потом тяжелей еще горе показалось, когда наступило оно после счастья такого разом, без подготовки, налетело, обрушилось громом.
Боярин внезапно оборвал речь.
Лизбета заметила слезы на его ресницах. Она дала ему несколько оправиться от волнения и спросила:
– А где же теперь Катерина?
Белый-Туренин поднял руку к небу.
– Там! – глухо проговорил он. – Извела жена, погубила. Тоже из-за любви сделала…
Он поник головою.
Лизбета теперь почти каялась, что вызвала его на откровенность: он, казалось, был подавлен вновь нахлынувшим пережитым горем. Можно ли при таком состоянии его духа сделать ему признание?
Она повела издалека.
– Дорогой боярин, отчего ты не попробуешь утешиться?
– Чем? – отрывисто спросил Павел Степанович.
– Забыться…
– В чем? – опять так же проговорил боярин.
– Ну, хотя бы… Ну, хотя бы в любви же.
– Кто мне может заменить Катеринушку? Разве кто может? – со стоном вырвалось из груди Павла Степановича.
– Может!
– Кто?
– Любящая тебя женщина… Найдется такая, которая сумеет полюбить не холодней твоей Катерины.
– Да я-то не могу! Я-то не могу! Любил ее живую, люблю и теперь мертвую… Так и помру с этой любовью.
– Полно, боярин! Ведь сердце твое не перестало биться?
– Бьется, да не так.
Оба замолчали. Лизбета собиралась с духом.
– Пан боярин!
– Что? – спросил он.
Ответа не было.
– Что? – спросил он опять и повернулся к панне.
На него из сумрака, обращавшегося уже во тьму, глядела пара светящихся глаз. Казалось, эти глаза кидали отсвет на все лицо, и овал его белел в темноте.
Боярин слышал порывистое дыхание девушки. Вдруг он почувствовал на своем лице теплоту его, потом маленькие ручки обвились вокруг его шеи.
– Забудь все… Будь моим… Коханый! – расслышал он страстный лепет.
Светящиеся глаза наклонились совсем близко-близко к его лицу, горячие губы прильнули к щеке.
– Панночка! – растерянно проговорил он.
– Коханый! Коханый! Жить без тебя не могу!.. Твоя, твоя! – лепетали уста Лизбеты, и поцелуи становились все горячее, все учащались.
– Панночка! Опомнись!
Но панночка не опомнилась.
Павел Степанович был молод. Ему становилось не по себе от объятий Лизбеты. Он чувствовал, что его кровь начинает кипеть, что страсть охватывает его, та страсть, которая также отличается от любви, как земля от неба.
Однако он пытался бороться с собой, вернуть хладнокровие. Но уже кровь стучала в виски, тело трепетало страстной дрожью. Руки панны, как змеи, обвились вокруг его шеи.
Конечно, физической силы ему хватило бы оттолкнуть слабую девушку, но для этого не хватало сил душевных – была прелесть в этой игре с огнем. Кроме того, удерживала мужская гордость – казалось как будто немножко стыдно бежать от объятий красавицы девушки.
– Панночка! Лизбета!.. Ты губишь себя! – прошептал он изменившимся голосом.
– Гублю… Да!.. Пусть!.. Твоя – ничья… Коханый… – слышался лепет Лизбеты.
– Ты губишь!.. – повторил он еще раз и уже сам… поцеловал панночку в ее дрожавшие губы.
– Мой! Мой! – замирающим шепотом говорила девушка.
Боярин уже не слышал ее лепетанья.
Он сжимал в своих объятьях гибкое, трепещущее тело Лизбеты.
Пан Войцех Червинский был немало изумлен, когда поутру Павел Степанович заявил ему, что раздумал ехать с ним в Краков, так как намерен погостить в усадьбе еще несколько дней. Не уехал боярин и на следующий день, и через неделю, и через месяц.







