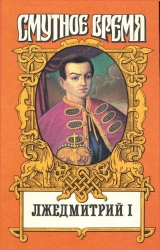
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
– Что ни свет ни заря?
Услышав рассказ Варлаама, однако, всполошился, крикнул челядина:
– Поди кликни Семку-воротного.
Челядина долго не было. Князь барабанил пальцем по столу. Едва челядин в горницу вошел, спросил нетерпеливо:
– Где Семка?
Челядин руки развел:
– Не ведаю, княже, исчез.
Лицо Голицына помрачнело.
– Дворню на ноги подними, сыщи! В клеть Семку!
И забегал по горнице. Потом остановился перед монахом.
– Ты, Варлаам, уходи из Москвы. Немедля. Боюсь, не побежал ли Семка с доносом. Не случилось бы того лиха, что с Романовыми и Черкасскими. Спаси Бог!
И снова засеменил по горнице, заохал:
– Чуяла душа князя Василия Иваныча, упреждал, а я и без внимания. Ахти!
Взяв Варлаама за рукав рясы, забрызгал слюной:
– Почто стоишь? – Достал из кармана кошель, протянул рубль. – Отправляйся к князю Адаму Вишневецкому. По слухам, тот, кого ты за рубеж отвел, у него проживает. Сыщи его, челом ударь. Не монах это, а царевич Димитрий.
– Свят Боже! – Варлаам испуганно перекрестился.
– Поспешай, Варлаам, покуда приставы не заявились. Да заставы стороной обходи. Оставайся там и служи царевичу Димитрию.
* * *
Весть, с какой торопился во дворец боярин Семен Никитич Годунов, несла его, словно на крыльях. Развевались длинные полы шитого серебром кафтана, шапка сбилась на затылок. У Семена Никитича было такое ощущение, какое переживал он только на удачной охоте.
Нутром чуял боярин Годунов, что сказанное голицынским воротным мужиком должно привести к самому князю Василию Васильевичу. Но прежде пусть приставы приведут того монаха. Под пыткой покажет, по чьему указу и с кем ходил за рубеж.
Взлетев на Красное крыльцо, боярин захлопал дверьми.
– Государь, – запыхавшись, выпалил он, – к Голицыну Ваське измена ведет!
– Ну? – Борис как был в исподней рубахе, так и вскочил с ложа. – Откуда прознал?
Семен Никитич дух перевел, прижал ладонью сердце:
– Голицынский воротный намедни явился, поведал. У Васьки монах по имени Варлаам проживает. И тот монах похвалялся, что в Литву ходил.
– Схватили того монаха? – сурово спросил Борис.
– Послано за ним, государь.
– Допрос с него сымай с пристрастием. Все, что монах обсказывать будет, записывай. Ежели на Голицына либо на кого иного укажет, хватайте тех людей и волоките в пыточную. Эко, одного поля ягодки, Романовы, Голицыны и иже с ними. Недруги были они нам, Годуновым, недруги и есть.
– Я, государь, нутром чую, откуда слухи о Димитрии выползают.
– Пересилим, Семен Никитич, не таких гнули, свалили. Мы, Годуновы, крепкие. – Борис зло скрипнул зубами. – Ты токмо допытайся, Семен Никитич.
* * *
Всю ночь в Самборском замке сандомирского воеводы Мнишека гремела музыка. Седоусые паны и седые пани, молодые, бравые шляхтичи и веселые паненки лихо носились в удалой мазурке, отбивали каблучками краковяк и плавали в полонезе.
В коротких перерывах не успевали передохнуть. Шумно было на балу у пана Юрия Мнишека. Но больше всех радовалась Марина, дочь воеводы.
Невысокая, тонкая в поясе, с копной темных волос и карими глазами на белом лице, она была весела, танцевала с гостями – со всей округи съехались они ради нее.
За восемнадцатое лето перевалило Марине. Она улыбалась всем, кроме Григория Отрепьева.
Прижавшись к высокой колонне, он смотрел на праздник со стороны. Отрепьев не гость, он слуга князя Адама Вишневецкого, который приехал на бал вместе с женой, сестрой Марины, старшей дочерью воеводы Мнишека.
Вздыхал Григорий. Пылкая молодость неугомонна: Марина полюбилась ему с первого взгляда. Он ревновал ее ко всем. У него было желание выйти на середину зала, остановить музыку и крикнуть во весь голос: «Не Григорий я и не слуга князя Адама, а русский царевич Димитрий, сын царя Ивана Грозного!»
Но он глушил в себе это. Разве поверит ему шляхта? Паны будут глумиться над ним, зубоскалить.
Волоча ногу, Отрепьев отошел от двери и снова возвратился на прежнее место. Подперев плечом колонну, посмотрел в зал, но опять увидел одну Марину. Григорий до боли кусал губы, дожидался, когда Марина мимо пройдет, и чуть слышно позвал:
– Панночка Марина!
Она услышала, остановилась. Зачем окликнул ее этот слуга князя Адама? В ожидании Марина недоуменно глядела на него.
– Панночка Марина, – выдохнул Отрепьев, – кохана моя!
– О-о! – подняла брови Мнишек. – Холоп Григорий забыл, что я дочь воеводы!
И, уходя, презрительно скривила губы. Отрепьев бросил ей вслед:
– Не Григорий я и не холоп!
* * *
Зима накатилась как-то враз. Еще вчера в Москве было тепло и слякотно, а ночью на мокрую землю щедро выпал снег, и к утру забрал мороз.
Кутаясь в шубу, боярин Семен Никитич Годунов возвращался из Холопьего приказа. Впряженные цугом кони резво тянули громоздкую колымагу. Слышались окрики ездовых, звонко щелкали бичи. Поставленную на сани колымагу качало на ухабах, заносило из стороны в сторону. В незакрытое оконце пробегали избы Арбата, высокие тыны боярских усадеб, закрытые лавочки купцов и мастеровых.
Семен Никитич ярился. Вчерашнего дня засекли голицынского воротного мужика. Покуда тот не испустил дух, дьяк все бубнил:
– Почто своечасно не донес, почто дал убечь монаху…
Разосланные по Москве приставы и стрельцы уж где и ни лазили, в церквах и монастырях караулили. Варлаам как в воду канул. А без его показаний к князю Голицыну не подступишься. Чем вину его докажешь?
Семен Годунов вздохнул, потер лоб:
– Надобно было Ваську еще в том разе зацепить, когда Романовых и Черкасских ссылали. Ино в разум не взял.
Вспомнил, как он, Семен Годунов, подкупил доносчиков на Романовых и Черкасских. Нашлись такие из их же дворни, какие показали, что князья на царя Бориса злоумышляют.
«Борис осерчает, – думал боярин Семен Никитич. – Да и по делам. Нонешние времена погрознее прежних. Воры к Москве подступали; чудовский монашек Гришка Отрепьев царевичем назвался, успел сбежать. Хоть и сидит в Речи Посполитой молчком, но надолго ли? О самозванце на Москве шепчутся…»
– Не ко времени государь прихварывает, – вслух произнес боярин. – Не случилось бы лиха. Федор характером слаб, а вокруг тайные недруги…
Годунов вытер слезящиеся глаза. Они у него раскосые, красные. Неожиданно открыл дверцу колымаги, замахал ездовому:
– Вороти к Голицыну!
Выбрался Семен Никитич Годунов из колымаги, глядь, княгиня идет, худая, лицо бледное, постное. Увидела боярина, поклонилась.
– Здравствуй, свет Семен Никитич.
– Здравствуй, княгинюшка! – прокричал во всю мочь Годунов.
Княгиня Голицына туговата на уши. На все хоромы кричать надобно, чтоб расслышала.
Голицына ручкой замахала:
– Не ори, Семен, чать, уши имею.
Вошел князь Василий, позвал жену:
– Не держи, Меланья, гостя на морозе. Проходи в палаты, боярин Семен Никитич.
И повел гостя. Княгиня за ними увязалась. Голицын раздраженно прикрикнул:
– Вели, Меланья, обед накрывать, гостя потчевать.
Годунов с Голицына глаз не сводил, сказал будто мимоходом:
– Слух есть, князь Василий, монах у тебя занятный проживает. По многим землям хаживал. К столу покликал бы. Люблю гиштории дивные.
Голицын круто обернулся:
– О чем речь твоя, боярин Семен Никитич? Я, поди, не игумен и монастыря не содержу. Коли и заходит какой бродяжка-инок, не гоню, крест имею. Богу Богово.
– Аль не слыхивал об иноке Варлааме? Он, поговаривают, не единожды у тебя живал.
– У меня, боярин Семен Никитич, для нищей братии хлеба предостаточно. И ежели в людской кого насытят, не возбраняю.
Перешли в трапезную. Гостя в святом углу усадили, сам князь рядом сел, княгиню по левую руку от себя усадил. Принялись за еду. Годунов придвинул к себе холодный поросячий бок, спросил:
– Слыхивал ли, князь, об Отрепьеве, самозванце?
Голицын жевать перестал, поднял на Годунова глаза:
– Откуда мне знать, боярин Семен Никитич. Поведай, ась? Я хоть до гишторий не охоч, но полюбопытствую.
– Смел ты, князь Василий. Но все ж куда подевал Варлаама? Больно видеть его желаю.
Голицын руками развел:
– Обижаешь, боярин Семен Никитич. Ведь сказывал, такого монаха нет у меня и не бывало.
– А что, князь Василий, о Чудовом монастыре тебе известно?
– Экий ты, боярин, заладил свое.
Княгиня, заслышав о Чудовом монастыре, вставила:
– Ноне к заутрене я в Чудов ездила, сам отец Пафнутий службу правил. Сла-авно!
– Помолчала бы! – прикрикнул на жену князь Василий.
Но княгиня вдруг пустилась в воспоминания:
– Лет десять назад ты, Семен, статный был.
Годунов усмехнулся, а княгиня свое:
– В те поры вы, Годуновы, еще не царствовали и род ваш не то Голицыных, но и пониже других числился…
– Умолкни, Меланья! – стукнул по столу Голицын. – Эко наплела кучу небылиц.
Поджал губы Семен Годунов, поднялся:
– Спасибо, попотчевал, князь Василий…
В колымагу усаживался, ни слова не обронил. А выезжая со двора, высунулся, поманил нового воротного:
– Покличь-ка, молодец, монаха Варлаама.
Воротный на боярина посмотрел, потом перевел взгляд на князя. Тот стоял на крыльце, – шуба внакидку, взгляд строг. Мужик снова на боярина уставился, головой закрутил:
– Нетути, боярин, такового и не бывало.
– Ну-ну, – буркнул Годунов, а ездовому махнул рукой: – Трогай!
* * *
В людской полумрак и тишина. Лишь сверху, через бревенчатые накаты потолка глухо доносилась музыка. Не стянув сапоги и, как был, в кунтуше, Отрепьев завалился на лавку. Григорий не слышал музыки, мысли о Марине. Забыть бы ему гордую дочь воеводы, но нет, она не выходила у него из головы. Обидные слова бросила ему Марина, обозвала его холопом. Холопом считают Отрепьева и другие шляхтичи…
Протяжно скрипнула дверь, и в людскую, бесшумно ступая, вошел епископ Игнатий Рангони. Он приехал из Кракова к Мнишеку теми же днями, что и князь Адам Вишневецкий со своей челядью.
Невысокий, с непокрытой лысой головой и в черной сутане до пят Рангони остановился посреди людской. Маленькие, глубоко запавшие глазки впились в Григория. Тот поспешно подхватился. Рангони заговорил вкрадчиво, тихо, будто лаская:
– Сын мой, милостью Всевышнего дано мне познавать души людские. Давно, еще из Гощи, слежу я за тобой и вижу: большую тайну носишь ты в себе. Мучаешься. А теперь к той, прежней, боли еще одна прибавилась. Сегодня смотрел я на тебя, и жалостью наполнялось мое сердце. Панночка Марина, этот прелестный ангел, полюбилась тебе. Но не забывай, она веры латинской!
Епископ, повысив голос, вскинул кверху палец.
Отрепьев подался вперед, спросил резко:
– Ты слышал, отче, все слова, какие я говорил ей? – И не дожидаясь ответа, продолжал: – Так слушай, я повторю их снова. Ты прав, отче, я давно тлею своей тайной. Ныне она вспыхнула во мне пламенем, и я говорю о, ней всем. Знай, отче, никакой я не Григорий, я царевич Димитрий, сын царя Ивана Васильевича Грозного. И все, что есть на Руси за Борисом Годуновым, мое. Я попрошу тебя, сообщи папе Клименту. Знаю, он не даст погибнуть справедливости. Папа поддержит меня, и я сяду на родительский престол. Тогда на Руси не будет притеснения вере латинской и войско русское перекроет дорогу неверным туркам.
– Сын мой, – Рангони протянул обе руки, – я слышу голос царя. Богу угодно было сберечь тебя от злоумышленников, и Господь и папа да помогут тебе. Уповай на них, сын мой.
– Отче Игнатий, – прервал епископа Григорий, и его голос звучал твердо, уверенно. – Передай князю Адаму, хочу встречи с королем Сигизмундом. На помощь войска польско-литовского надеюсь.
* * *
Над Днепровской кручей, на самой окраине Дарницы, в старой хате собрались атаман Артамошка Акинфиев, инок Варлаам и два донских казака Корела и Межаков. Тускло светит лучина, коптит. Казаки и Артамошка сидели за столом, переговаривались. У Варлаама глаза сонные, веки сами собой слипались. Путь Варлаам проделал дальний, опасный. Повсюду на рубеже заставы стрелецкие, по дорогам верхоконные царские дружинники сновали, а по монастырям и церквам, в кабаках и на площадках приставы читали царские указы о государственных преступниках. Среди них и он, Варлаам, упоминался.
Глухими тропами пробирался монах, ночевал в холодном весеннем лесу с диким зверьем. Ряса на Варлааме обвисла, в клочья изорвалась. От усталости и голода инок едва ноги волок.
В открытую нараспашку дверь слышно, как щука гоняет рыбью мелочь, всполохнет и затихнет.
Сквозь дрему Варлааму доносились голоса. Корела и Межаков рассказывали, что едут они в Самбор к царевичу Димитрию выборными от казачьего круга, дабы воочию убедиться, что Димитрий сын царя Ивана.
Сетовали казаки, жизнь на Дону при Годунове тяжелая. Казаков притесняют, и за хлебом, и пороховым зельем в Московскую Русь не пускают. А ежели какой казак, случается, по торговому делу попадает в Московию, то воеводы царские его хватают и сыск над ним чинят.
И когда на Дон приехал из Самбора от Димитрия литвин с грамотой и в ней царевич обещал обид казакам не чинить и звал их к себе в дружбу, обрадовались донцы.
– Коль и вправду в Самборе царевич Димитрий, мы, казаки, ему поможем, – сказал Корела.
Открыл глаза Варлаам, посмотрел на казаков. Седоусые, плечистые, лица степным ветром выдубленные.
Артамон поддакнул Кореле:
– Мы, холопы, за царевича встанем. Был бы он только к народу добрым.
Встряхнул головой Варлаам, прогнал сон:
– Я царевича Димитрия знавал.
– Ну? Врешь, монах! – недоверчиво покосился на инока Межаков.
– Вот те крест, – обиделся Варлаам. – Я его самолично в Литву увел.
Корела потянулся через стол, ухватил инока за рясу:
– Правду сказывай!
– Пусть меня Бог покарает, ежли вру.
– Ай да монах, едрен-корень! – воскликнул Акинфиев.
– Я вот и ныне к нему пробираюсь, – сказал Варлаам.
– Значит, товарищами будем, – хлопнул ладонью по столу Межаков. – Поглядим, что за царевич Димитрий.
– Возьмите меня с собой! Коль примет царевич, служить ему останусь, – обрадовался Артамошка.
Варлаам поднялся из-за стола:
– Я вас не неволю, вместе идти, так вместе. Завтра поутру и тронемся. Только как мы с Артамоном за вами угонимся, ежели вы конные?
– О том не твоя печаль, монах, мы вас не оставим. – Корела пригладил седые усы и, выбравшись из-за стола, ушел на сеновал.
* * *
Король Сигизмунд принимал Отрепьева в маленьком охотничьем домике за Краковом. Беседовал с глазу на глаз.
Сигизмунд знал: сидящий перед ним новоявленный русский царевич никакой не Димитрий. Но король смотрел на самозванца и думал, что наступит, однако, пора, когда московиты сами дадут Речи Посполитой свои земли…
За оконцем шумел на ветру лес, громко переговаривались приехавшие с королем шляхтичи. Паны были в недоумении – где же обещанная охота?
Откинувшись на спинку высокого кресла, Сигизмунд пристально смотрел на Отрепьева. Да, этому самозванцу в уме не откажешь. Вон как о своем житье повествует! Да еще на польском языке, велеречиво, иногда переходит на латинский, приводя примеры из истории.
Обличьем же самозванец не вышел: и роста невысокого, и чуть ногу волочит.
Приглаживая светлые волосы, сказал:
– На помощь твою, король, уповаю. Помоги сесть на трон родительский.
Сигизмунд склонил голову, долго не отвечал. Замолчал и Лжедимитрий, ждал, что скажет король. Наконец Сигизмунд заговорил:
– Как ясновельможный брат мой Димитрий мыслит ту помощь? У нас с Московией уговор. – И наморщил лоб, думая. Потом продолжал: – Но я не волен воспретить вельможным панам, если они со своими гайдуками вступят в войско ясновельможного брата нашего Димитрия. Пусть ясновельможный царевич сбирает себе войско в нашем королевстве и в Великом княжестве Литовском. Мы дадим нашему брату Димитрию сорок тысяч злотых на его нужды. А за то, когда брат наш сядет с нашей помощью на царство, он отдаст нам Смоленск и землю Северскую. И еще будет нам другом в войне нашей со свевами [24]24
Свевы – шведы.
[Закрыть].
Отрепьев нахмурился, но не возразил. Он надеялся, что Сигизмунд даст ему своих жолнеров [25]25
Жолнеры – солдаты.
[Закрыть]. Король поднялся: разговор был окончен.
* * *
В тот же день король имел беседу и с князем Адамом Вишневецким. Сигизмунд был весел как никогда.
– Князь Адам, – король довольно потер ладони. – Вели воеводе Юрию Мнишеку не чинить козней царевичу Димитрию. Нашим королевским именем приказываю давать на прокорм его воинству.
Вишневецкий кашлянул в кулак, сказал:
– Ваше величество, когда Димитрий станет жить в Самборе, то у пана воеводы найдется, чем приворожить молодого царевича.
Сигизмунд вскинул брови:
– О, князь Адам разумен! То хорошо, если сердце будущего царя московитов останется в Королевстве Польском. Скажи пану Юрию Мнишеку, я желаю этого,
* * *
Слух, что у воеводы Мнишека живет русский царевич Димитрий, быстро облетел Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Вельможные паны радовались: быть смуте в Московии!
Говорили о встрече Сигизмунда с царевичем московитов и обещанной ему королевской помощи…
Из Кракова Отрепьев воротился в Самбор, к сандомирскому воеводе, и начал рассылать с верными людьми грамоты к шляхтичам и на окрайну Руси к казакам звать в свое войско.
Первой потянулась к нему жадная к наживе шляхта.
* * *
Если король Сигизмунд рассчитывал получить от самозванца русские земли, а польско-литовские паны набить свои карманы золотом и драгоценностями из московской казны, то папа римский Климент вынашивал планы объединить под своим главенством латинскую и греческую церковь.
Солнце вступило в полдень, когда епископ Игнатий Рангони добрался наконец до замка сандомирского воеводы Юрия Мнишека. В дороге сначала колесо рассыпалось, потом конь ногу сломал.
Под Самбором внимание Рангони привлек звук охотничьего рожка и заливистый лай собак. Наперерез колымаге по покрытому первой травой полю скакали всадники. В скачущем впереди невысоком плотном пане епископ без труда узнал воеводу Юрия.
Подскакав, Мнишек спрыгнул с седла, кинул повод гайдуку и подал знак ездовым:
– Подождите!
Воевода легко взобрался в колымагу, уселся напротив епископа, Игнатий Рангони, ответив на приветствие Мнишека, наклонился к нему.
– Я слыхал, царевич Димитрий времени не теряет, в его стане уже не одна сотня воинов!
– Царевич он але холоп, но он со своими гайдуками разоряет меня! – пожаловался воевода.
– Не брани, пан Юрий, але забыл, царевич живет у воеводы по королевскому указу. А может, пан воевода приметил, как Димитрий заглядывается на паненку Марину? – Епископ хитро прищурился.
Мнишек сердито стукнул кулаком по коленке, сказал в сердцах:
– Пусть прежде он станет царем московитов, сто чертей его матке!
Рангони согласно кивнул, а вслух промолвил;
– Пан воевода должен готовить дочь к тому, что ей быть царицей московитов, а царевич Димитрий пускай знает, что он получит Марину в жены, когда сядет на царство.
– Ха-ха! – рассмеялся Мнишек. – Шкура еще на медведе, и до того как снять ее, надо медведя убить. А хватит ли у Димитрия силы?
– Але пан воевода не ведает, для чего собираются в Самбор и Львов вельможные паны со своими гайдуками?
– О, у пана епископа речь не слуги Господнего, а воина! – с иронией заметил Мнишек.
Рангони пропустил насмешку, вздохнул:
– Пану воеводе надлежало бы знать, что Игнатий Лойола, тот, кто основал орден иезуитов и в чью честь нарек меня мой родитель, учил нас: «Слуга Божий – неутомимый воин церкви!» – Епископ поднял палец. – Крест и меч – оружие ордена нашего!
Мнишек смолчал. В это время тощие кони, тянувшие колымагу, загремев барками, остановились. Воевода, а за ним и Рангони выбрались из колымаги. Епископ одернул сутану и, дождавшись, пока слуга, дюжий монах, отвяжет сундучок, направился в замок.
* * *
Весна брала свое. И хотя ночи оставались все еще холодными, днем солнце выгревало. Уже тронулись первой зеленью деревья, взошла на полях рожь, и ожила сандомирская степь.
С теплом многолюдный Самбор напоминал военный лагерь. Съехавшиеся отовсюду шляхтичи и гайдуки бражничали, пьяно похвалялись друг перед другом.
В замке воеводы Мнишека в ожидании похода веселились ясновельможные паны. Воевода Мнишек торопил. Войско царевича перевалило за две тысячи. Оно съело все запасы сандомирского воеводы. Тех злотых, что дал царевичу король, едва хватило рассчитаться со шляхтой.
В последнее время в душе Мнишека зародилась надежда – вдруг да станет этот, назвавшийся царевичем Димитрием, беглый монах царем Московии? Иногда, правда, ворошилось в душе Мнишека сомнение и боязнь за Марину, но воевода тут же гнал их от себя. Юрий Мнишек знал, что дочь не любила самозванца, но епископ Игнатий уже беседовал с ней. О, этот папский легат не случайно в Самборе. Он не оставляет самозванца одного ни на минуту. А уж коли иезуиты чего унюхали, они своего добьются. И поддержка самозванца Сигизмундом, и приезд Рангони заставили Мнишека по-новому взглянуть на Григория Отрепьева…
Воевода не ошибался, Марина действительно не любила Григория. Но разве могла она ослушаться епископа? А папский легат на исповеди сказал ей: «Дочь моя, помни, не одно влечение сердца движет судьбой. Разумом познай свое место. Великая судьба уготовлена тебе. Послужи церкви нашей, не отвергай любви будущего царя московитов. Когда станет он царем московитов, а ты московской царицей, церкви нашей откроется дорога на Русь».
Марина покорно соглашалась с епископом. Об одном лишь просила – не неволить ее до того, пока Григорий не вступит в Москву. Себе одной она могла бы сказать, что не служба церкви побуждает ее стать женой самозванца, а честолюбие: быть царицей сказочно богатой Московии!
С утра Марина гуляла в пустынном парке. Под ногами шуршала прошлогодняя листва, пахло прелью. Гордо ступала дочь воеводы, чуть приподняв длинный подол черного бархатного платья.
Отрепьев не отставал. Марина слышит его голос:
– Пани Марина, ты затмила мне ум, в твоих руках мое сердце. Это я тебе говорю, царевич Димитрий.
Марина приостановилась, повернулась к Отрепьеву. Взгляд ее насмешлив.
– Разве Димитрий уже сел на царство, что добивается моей руки?
– О Боже! – воскликнул Отрепьев. – Неужели ты не веришь в это?
– Но вера и надежда не есть свершившееся, – прервала его дочь воеводы. – Я прошу пана Димитрия не забывать: от этого зависит моя любовь к нему.
– Хорошо! Пани Марина Мнишек въедет в Москву царицей! – Григорий круто повернулся и пошел к замку.
Издали увидел у самых ворот инока Варлаама, поманил:
– С чем явился, монах?
Варлаам склонился, промолвил:
– Князь Голицын поклон шлет, царевич. На Москве ждут тебя.
– Вспомнил-таки князь Василий, – губы Отрепьева тронула улыбка. – А кто твои товарищи, Варлаам?
– Казаки с Дона, Корела и Межаков, да холопий атаман Артамошка Акинфиев.
– Челом бьют тебе донцы, царевич, – хором произнесли казаки. – Выборные мы от своего круга.
– Ну-ну, казакам, людям вольным, я рад, – потер руки Отрепьев.
Артамону любопытно, эвона каков царевич. А обличье у него не царское. Лик голый, безбородый, наряд, как у шляхтича…
И брали сомнения Артамошку. Но тут властный голос Отрепьева нарушил мысли:
– О чем думы твои, молодец? Чего искать у меня восхотел?
– Слухом земля полнится, – глядя в глаза Отрепьеву, смело ответил Артамон. – Говаривают, на Москву пойдешь ты, царевич, жизнь холопскую полегчить вознамерился. Коль так, мы служить тебе будем с радостью.
Отрепьев кашлянул в кулак:
– Истину рекут, кто меня примет, государя во мне видит, – боярин ли, холоп, в обиду не дам. Седни тебе, холопу Артамошке Акинфиеву, вольную жалую. Ступайте. Вскорости пойдешь ты, Артамон, с моим царским письмом в Севск, люд на Годунова поднимать станешь. Коль не грамотен, инок Варлаам с тобой пойдет, читать будет. А вам же, казаки, – Григорий повернулся к донцам, – жалую жизнь вольную не токмо на Дону, но и по всей московской земле. Вернетесь к себе на Дон, скажите об этом всем казакам на круге. Жду я казаков к себе в войско. Помогут мне – и я, царевич Димитрий, казаков не забуду своей лаской.
* * *
В сопровождении сотни казаков Отрепьев возвращался из Львова в Самбор. Ехали с короткими привалами, торопились.
Стремя в стремя с Григорием скакал воевода Мнишек. Переговаривались между собой редко, каждый о своем думал. Отрепьев доволен: во Львове ждут его три тысячи запорожцев да тысяча шляхтичей в Самборе. Но это только начало. Пора выступать. Повернулся к Мнишеку, спросил:
– Не желает ли вельможный пан вступить в мое войско воеводой над шляхтой?
Натянув поводья, Юрий Мнишек глянул на него из-под густых, нависших бровей:
– Але царевич Димитрий зовет меня только в службу?
Правая бровь воеводы взлетела вопросительно. Отрепьев остановил коня:
– Договаривай, пан Юрий!
– Але я не ведаю, что царевич Димитрий хочет иметь пани Марину своей женой?
– Ты прав, воевода, – Григорий насупился. – Но пани Марина не желает этого.
– Эге, царевич Димитрий, за Марину я отвечу. Я вступлю в твою службу со своими гайдуками. И дочь мою Марину возьмешь ты в жены, когда сядешь на царство, но обещай и мне отплатить за то добро.
– Чего хочешь ты, воевода? – Отрепьев не сводил глаз с Мнишека.
– Царевич Димитрий, я отдаю тебе самое дорогое, но и ты будь ко мне милостив. Много злотых должен я, а с той поры, как ты здесь, я истратился вдвое.
– Я верну все свои долги, как только вступлю в Москву, – прервал Григорий воеводу. – Чего еще ты просишь?
– Царевич должен дать своей жене Марине доходы с Новгорода и Пскова…
– И то обещаю, – согласился Отрепьев.
– О, доброта твоя, царевич, известна. Прошу еще, дай мне в уделы Смоленск и Северский край. Сам ведаешь, какие расходы несу.
Отрепьев не стал говорить Мнишеку, что это уже обещано королю Сигизмунду. Махнул рукой:
– Все получишь. Но прежде вы, поляки и литвины, помогите мне в войне с моим врагом, Годуновым.
И, трогая коня, закончил:
– Да еще не забудь, объяви своим панам вельможным, что быть Марине Мнишек моей женой…
Оставшуюся дорогу молчали. Вот и в Самбор въехали. Смотрит Отрепьев, навстречу инок Варлаам бежит. Волосы из-под клобука выбились, лицо растерянное. Кричит на ходу:
– Государь, дядька твой из самой Москвы! О тебе с панами речи непотребные ведет.
Григорий строго глянул на Варлаама, тот и осекся.
– Пустое плетешь, монах, о каком дядьке молвишь?
– Сотник Смирной-Отрепьев, – робко проговорил Варлаам.
– Умолкни! – Григорий в сердцах хлестнул коня, поскакал к замку.
Издали разглядел в толпе шляхтичей своего дядьку Смирного-Отрепьева в длиннополом кафтане, шапке островерхой. Сотник что-то говорил панам, а сам смотрел на Григория.
Подъехал Отрепьев ближе, коня остановил. Замолчали шляхтичи, ждут, о чем речь поведет сотник и как ему племянник ответит. А Смирной-Отрепьев ни поклона Григорию не отвесил, ни приветствия, сразу стыдить принялся. Закричал:
– Как смел ты, Гришка, царевичем Димитрием назваться? Самозванец ты, а не царевич!
Побледнел Отрепьев, сжал повод. А сотник свое:
– Чего удумал? Государь Борис Федорович послал меня рубеж надзирать, а я к тебе завернул, прознав, что ты здесь, в Самборе. Покайся, Григорий, не позорь дворянский род Отрепьевых.
Подал знак Григорий, и два казака подскочили к сотнику, сабли из ножен потянули. Но Отрепьев покачал головой:
– Не надо крови. Безумен он и Годуновым науськан. Вы, Отрепьевы, жизнь мою царскую сберегли, меня с малолетства от годуновских людишек укрыли, и за то вам честь великая. Но нынче не надобно хитрить. Не из своих уст говоришь ты, сотник Смирной-Отрепьев, а из годуновских. Ко мне в родство набиваешься. А вот уже приду я на Русь и займу свое место, как заговоришь ты тогда?… За то, что хулу ты на меня возводил, прощаю. Теперь же хватит пустословить, казаки мои проводят тебя. Езжай туда, куда тебя Годунов послал, и служи ему, если мне служить не пожелал. Но, – Отрепьев поднял руку, – коли еще будешь обо мне злословить, вдругорядь не помилую.







