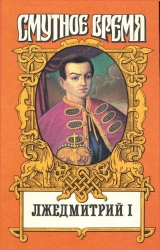
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Повременив, князь Василий сказал:
– Мороз воинов одолел, в съестном нуждаемся, да и порохового зелья не шибко. Видать по всему, отходить нам от Путивля.
– Государь осерчает, – заметил Дмитрий.
– Аль под Рыльском нет воров? – Князь Василий потер слезящиеся от дыма глазки. – В Путивле разбойники, в Кромах. Да на руках и пальцев недостанет, коль перечислять все города, какие самозванцу передались. Аль разорваться мне? Эх-хе, – вздохнул князь Василий, – вот мы, братец, почнем, я с Кром и Рыльска, а ты мужиков комарицких усмиришь. Там холопов беглых тьма скопилась, – Посмотрел выжидающе на Дмитрия. – А ежели Бориска осерчает, мы сызнова к Путивлю воротимся либо Кромы воевать будем.
– Хитер, хитер ты, князь Василий, – закрутил головой Дмитрий. – Разе что так.
Василий Иванович захихикал:
– Род у нас един, Шуйские мы, и нам в понимании жить надобно, ино Годуновы погубят нас, как Романовых.
* * *
Под Добрыничами Артамошка Акинфиев стоял с комарицкими мужиками в челе. Когда же пушкари и пищальники ударили огневым боем, попятились ватажники, и стрельцы посекли их нещадно.
В том сражении Артамошка спасся чудом, атаман Корела выручил. Подскакал, крикнул на ходу:
– За стремя хватайсь!
Уходили донцы от погони без передыха. Артамон с Корелой впеременку, сначала один в седле, потом другой. Не один десяток верст, сами того не заметив, отмахали в ночь. К вечеру другого дня укрылись донцы со своим атаманом в Кромах. За неделю в городе собралось тысяч до трех казаков и холопов. Уговорились Артамошка с Корелой из Кром не выходить, дожидаться, когда царевич Димитрий пойдет на Москву, тогда и присоединиться к нему.
* * *
Государь пожаловал Шуйскому за победу земли и села. Но князь Василий царской милости не очень возрадовался. Земель у него и без того предостаточно, а в селах безлюдно, крестьяне какие вымерли, какие в бегах. Шуйскому лучший бы подарок в Москву воротиться, а не за воровскими шайками гоняться.
Как и уговорились с Дмитрием Шуйским, князь Василий Иванович на Рыльск двинулся, а Дмитрий отправился в Севск.
От Путивля до Рыльска верст пятьдесят, стрелецкие приказы двигались медленно, дороги в заносах. Пока передовые путь протопчут! Ко всему огневой наряд задержался, сани с пушками то и дело грузли в сугробах.
Дорога вилась над берегом Сейма-реки. Лед местами чистый и гладкий, как стекло в оконцах боярских хором, а где в снежной замята. Попробовали стрельцы идти по льду, однако скользко, утомительно.
Княжья колымага тащилась за полком пищальников. На повороте зазевались ездовые, колымагу занесло, потащило к обрыву. Охнул князь Василий Иванович, толкнул ногой дверку. Тут стрельцы подскочили, удержали колымагу, оттащили от обрыва. Вылез Шуйский, загулял его посох по спинам ездовых. В другой раз помнить будут, кого везут. А стрельцы хохочут:
– Шибче лупи, у них хребты крепкие!
На полпути между Путивлем и Рыльском деревни редкие, да и те в запустении. Какие избы заброшены, иные без мужиков, одни бабы да детишки.
Шуйский знал: ни голод, ни мор этого края Руси не затронули. По всему видать, подались мужики к Отрепьеву.
Однажды под Рыльском стрельцы изловили двух мужиков, привели к князю. Упали они Шуйскому в ноги, взмолились, но тот голосу их не внял, мужики напомнили князю Василию его беглых холопов, и он велел отрубить им головы…
Рыльск осаждали недолго. Слухи пошли, на помощь Отрепьеву польский гетман Жолкевский спешил. Дозоры Шуйского перехватили шляхтича, сняли допрос с пристрастием, тот на дыбе подтвердил про гетмана. Велел князь Василий Иванович снимать осаду Рыльска, на Кромы идти.
* * *
Тяжела грубая власяница иноку Филарету. Тело не забывало боярских одеяний, хоть и минуло уже четыре лета. Бывали минуты, когда Филарету делалось невмоготу. Тогда, закрывшись в своей келье, Филарет стонал, сцепив зубы, ломал до хруста пальцы. Ярился в лютой злобе бывший боярин Федор Романов.
Прошлым летом прознал он, что князя Черкасского Годунов воротил в Москву, вотчины отдал.
Год, как не было Филарету никаких вестей ни от Голицына, ни от Черкасского. Что в мире творилось, знал лишь понаслышке. Пользовался всякими слухами, какие приносили в Антониево-Сийский монастырь бродяги и странники. Рассказывали они про смуту, таясь, шептались о царевиче Димитрии, и Филарет в душе радовался: вот она, кара Божья, на Бориса!
Затянутое бычьим пузырем оконце под самым потолком. В келье полумрак и холод. Прогорели в печи дрова, выстудило келью. Сутулясь, Филарет сидел на жестком ложе, дул на окоченевшие пальцы.
– Ох-хо! – вздыхал Филарет и, сняв с колка клобук, нахлобучил его на седую голову.
Время после полудня, и монастырский двор пуст. Не переставая, щедро валил снег. Он ложился пушисто, и уже в белых шапках и поленница дров, и крыши клетей, и кустарники.
Филарет отыскал у стены деревянную лопату, принялся отбрасывать снег с дорожки. Утомился. Вытер рукавом вспотевший лоб, остановился передохнуть.
«Снег не прекратится к ночи», – думает Филарет, глядя, как крупные хлопья мягко опускаются на расчищенную дорожку. Он перевел глаза на высокую бревенчатую стену, опоясавшую монастырь. От разбойных людей отгородилась монастырская братия. Ночами оружные монахи ходили по двору, стерегли амбары и клети, набитые всякой снедью. Монастырские ворота раскрывались только в воскресные дни и на праздники, впуская в церковь богомольцев.
Мысли инока нарушил назойливый стук. Кто-то барабанил палкой по калитке. Караульный монах в огромном тулупе и теплых катанках ворча заглянул в глазок.
– Чего надобно?
Гремя запорами, долго открывал калитку. Наконец впустил худого высокого монаха. Издалека признал Филарет Варлаама. Бродяга монах остановился, спросил о чем-то караульного и тут же заспешил к Филарету:
– Благослови, отче!
Нахмурился Филарет:
– Давно не захаживал ты в нашу обитель.
– Не с руки было, отче.
– А нынче? – усмехнулся Филарет.
Варлаам молчал, дрожал от холода. Филарет пытливо разглядывал его. Отощал бродяга монах, оброс. Волосы до самых плеч свисли, борода закошлатилась.
– Так какие вести принес ты, инок? – спросил Филарет. – Что сказывали князья Голицын и Черкасский?
– Отче, винюсь. Не послан я князьями, сам приплелся. Приюти в зиму, не дай погибнуть! В страхе проживаю. Натерпелся я, мытарь несчастный.
Посуровел Филарет.
– Аль не видел ты князя Василия Васильевича Голицына?
– Как не видывал? Послал он меня к царевичу в Путивль, да вишь, отче, дорога туда нонче грозная. Государево войско повсюду казни вершит, боюсь.
Опустил голову Филарет в раздумье, потом спросил:
– Встречал ли ты царевича Димитрия?
– Как же, отче, чать, немало времени с ним проведено.
– Ну и что, каков он?
– Разумен, отче, и царствен.
– Так ли уж? – усмехнулся Филарет. – Отчего же бьют его годуновские полки?
– Побили, отче, верно слово. Под Добрыничами князь Василь Иванович Шуйский насел на него.
– Во как! – поднял брови Филарет. И подумал: «О двух лавках сидит князь Василий. Ино чего ждать от него. Сказывал я Голицыну, не клади на Шуйского веры. Хитер он и терпелив. Иному тех обид, какие Шуйский от Годунова терпит, с верхом предостаточно, а князь Василий Иваныч только еще боле гнется перед Бориской, угодничает. Хотя знаю, в душе лютой казнью готов казнить Годунова».
Повернулся, направился к келье. Варлаам поплелся за ним следом. Приставив к стене лопату, Филарет сказал:
– Ты, инок, поживи здесь, попрошу за тебя игумена. Однако на долгое не рассчитывай. Месяцем довольствуйся, а там отправляйся, куда тебя князь Василь Васильич посылал. Да при случае поклонись от меня царевичу.
* * *
И снова стояние. Теперь уже топтались под Кромами. В ленивой перестрелке текли дни. Боярин Михайло Салтыков, принявший огневой наряд после Шеина, научал пушкарей:
– Зелье пороховое попусту не транжирьте. Чай, видите, заметы снежные и ворье вокруг, подвоза скорого не ждите…
От морозов, то ли от худой еды начались в государевом войске хвори. Князя Шуйского тоже болезнь не минула. С неделю маялся князь Василий животом, ни лекари не помогали, ни разные травяные настои. Дубовой корой боль уняли.
Полковые воеводы ежедневно докладывали – мрут стрельцы. А что Шуйскому делать? В Москву подаваться – на себя царский гнев накличешь. Кромы попытаться взять приступом, нет веры в удачу. К счастью еще, слух о гетмане Жолкевском ложным оказался. Завязло под Кромами государево войско.
* * *
Комарицкая земля хоть и невелика, но многолюдна. Наводнили ее беглые холопы со всей Московской Руси.
Поодиночке и ватагами добирались сюда и люди гулящие со своими атаманами. Всех принимала комарицкая земля.
Мужики комарицкие страсть какие хваткие, и в войске Косолапа побывали, и царевича Димитрия признали.
Боярина Тихона, сидевшего здесь на воеводстве еще со времени царя Федора Ивановича, люд комарицкий из города вышиб. Да боярину Тихону и сопротивляться нечем было. Куда ему! Стрельцов у него до сотни и челяди человек двадцать. А как прознал воевода Тихон, что самозванец Черниговом овладел, сразу же поспешил укрыться в Новгород-Северске.
Гуляй, комарицкие мужики!
Ан, недолго в воле походили. Привел воевода Дмитрий Шуйский государево войско в Севск. По всей комарицкой земле стрелецкие команды ловили гулящих людей, хватали беглых холопов, гнали в Севск на расправу.
Казнили мужиков, рубили им головы и четвертовали, клеймили каленым железом и обрезали уши, жгли избы и ставили крестьян на правеж по лютому морозу босых и раздетых. Щедро поили стрельцы комарицкую землю холопской кровью. Мыслили государевы воеводы застращать люд, но вышло по-иному. Спасаясь, убегал комарицкий народ в войско царевича Димитрия.
* * *
Всю последнюю неделю ночами на крыше государевых хором плакал сыч. Утихал ненадолго и снова заводил. Жутко! Ох как жутко!
Холопы с крыши не слазили, тарахтели в трещотки, колотили палками по кровле, но сыч не унимался.
Шептался народ по Москве:
– Знамение!
– Ведун крылатый!
– Аль не известно, к чему? Царевич объявился!
– Во, во! Димитрий – сын Грозного Ивана. Отсидел Борис на царстве!
– Умолкните! Эй, приставы, в железа государевых злоумышленников! – выискивался какой-нибудь защитник Годуновых, и шептуны разбегались, прятались в толпе.
Злорадствовали государевы недруги. На обедне и Успенском соборе Черкасский с Голицыным стояли вместе. Улучив момент, посудачили.
– С того света безвинно зарезанный младенец весть дает, – сказал Черкасский на ухо Голицыну.
– Твоя правда, князь Иван Борисыч, – поддакнул Голицын.
И тут же, дружно вздохнув, бухнулись на колени. Глухо ударили лбами о каменный пол.
– Прости, Господи!..
Ночами виделись Борису кошмары. Он пробуждался в страхе, звал спавшего у двери боярского сына Митрошку. Отрок, недавно взятый во дворец, всполошенно подхватывался, зажигал свечу.
– Проклятая птица, – бранился государь, – и откуда залетела?
Борис надевал валенки, накидывал на плечи тяжелую шубу и, держа в вытянутой руке свечу, бродил по хоромам.
Темно. Тусклый свет вырывал из мрака настенную роспись, высокие своды. В Золотой царицыной палате, построенной недавно, стены белые, картинами не расписаны.
Холодно, в печах перегорело. Поворачивал в опочивальню государыни. С Марьей вдвоем коротал ночь.
По утрам в Трапезной ждали царского выхода государевы родственники и иные бояре, мягко ступали по дорогим восточным коврам. Разговаривали мало, умничали. Чать, не обычные бояре, думные.
У Семена Никитича Годунова и патриарха Иова излюбленное место у муравленой печи. Станут спиной к изразцам, греются.
А Петра Федоровича Басманова больше к оконцам тянет. Знай водит ногтем по цветной слюде, свое соображает. После Новгород-Северска Басманов у государя в особой чести. На зависть другим боярам и даже Семену Никитичу Годунову в любимцах царских ходит.
Борис появлялся не один, с сыном, царевичем Федором. Опираясь на его плечо, подходил к боярам. Те разом низко изгибались, отставляя зады. Царь, бледный, измученный бессонными ночами, бодрился. Едва бояре заканчивали кланяться, говорил каждый раз одно и то же:
– Званы вы в Крестовую палату на сидение. Удумаем, как седни день проживем.
И шел впереди не спеша, в высокой собольей шапке, в парчовом, расшитом золотом кафтане. Бояре валили за ним толпой. В палате, дождавшись, когда Борис усядется, плюхались на лавки, готовились выслушать царское слово. Царевич Федор умащивался по правую руку от отца, смотрел на бояр недовольно. Федору эти ежедневные сидения в думе не по душе. Ему бы в книжную хоромину да перо в руки, а тут одна потеря времени.
Бояре думали, покуда в животах не начиналось урчание, тогда государь приглашал всех на обед. В шумном застолье, на людях Борис забывал ночные страхи, а как наступало время отходить ко сну да затворяться в опочивальне, все начиналось сызнова: жалобно плакал сыч, и появлялись видения.
* * *
На исходе недели государь со всей семьей и великим стрелецким бережением отправился на богомолье в Иосифо-Волоколамский монастырь. Поезд растянулся на версту. В запряженной цугом государевой карете Борис с сыном, в другой царица Марья с дочерью Ксенией. Следом боярские колымаги. Впереди поезда и позади пешие стрельцы и пищальники.
У Волоколамска в государеву карету покликали Басманова. Боярин Петр без шубы, молод, здоров, ему и мороз не страшен, широким шагом опередил карету государыни. Заметив в оконце царевну, склонил голову. Ксении боярин нравится. Красив Петр лицом и ростом не обижен. Улыбнулась Ксения ему. Басманов уловил это, на сердце стало радостно. Хороша, пригожа у Годунова дочь. Боярин чуть замедлил шаг, но царевна отодвинулась от оконца.
Догнав царскую карету, Басманов, согнувшись, влез в нее. Борис указал ему место против себя.
– Садись, боярин Петр Федорович.
Басманов уселся рядом с Семеном Никитичем Годуновым, выжидающе посмотрел сначала на царя, потом на Федора. Лицо у Бориса озабоченное, под глазами темные тени. Государь спросил хрипло:
– Аль не зябко?
– Мы, Басмановы, кровью горячие, – засмеялся боярин Петр. – Поди, не забыл, государь, как отец мой зимой снегом мылся, а летом в родниках.
– Верно, – кивнул Борис, а у самого другие мысли. Они занимают его всю дорогу. Вспомнились Годунову свои молодые годы, вот таким он был, как сейчас Басманов, когда водил дружбу с царевичем Иваном. Ту дружбу сына с незнатным боярином царь Иван Васильевич Грозный поощрял, считал Бориса Годунова умным и преданным царскому роду. А тут приключилось такое, от чего Грозный еще больше полюбил Годунова.
Как-то молодая жена царевича предстала перед свекром в ночной сорочке. Отчего так вышло, Борис до сих пор не возьмет в разум.
Царь Иван Васильевич облаял невестку бранным словом. На беду, был там и царевич. Заступился он за жену, ответил отцу грубо. Побледнел Грозный, и никто не успел опомниться, как железный царский посох уже вонзился царевичу Ивану в висок.
Кинулся Годунов на помощь царевичу, но царь свалил его и избил нещадно. Долго после того поправлялся Годунов, думал, отбил ему Грозный все внутри, ан выжил.
В горе о сыне захворал и царь Иван Васильевич. А как получшало, явился к Борису, стал у постели, заплакал. Никто не видел раньше слез на лице Грозного.
Покидая Бориса, царь вымолвил: «Верю в твою преданность, Бориска. И сестру твою, Ирину, видывал. Желаю я сына своего Федора оженить на ней и чтоб был ты, Бориска, Федору советчиком во всех делах. Сам, поди, знаешь, разумом он слаб и здоровье у него хилое, не для дел государственных».
И ушел, не проронив больше ни слова, даже не простившись.
Вспомнилось все это Борису, и на душе тоскливо. Много тому лет минуло, а будто вчера свершилось. Вот уже скоро и жизни закат, а будто все одним днем промелькнуло.
Положил Годунов ладонь Басманову на колено?
– Звал я тебя, боярин Петр, дабы волю мою ты выслушал. Я вас, Басмановых, возвеличил и над иными родовитыми боярами к их неудовольствию поднял. А теперь велю тебе, буде после меня добрая година иль лихая, служи царю Федору Борисычу верой и правдой. Понеже схитришь, на том свете сыщу. Сына Федора и боярина Семена Никитича тому в свидетели взываю, – Годунов указал на них.
– Государь, аль веры во мне не держишь? – обиделся Басманов.
– Кабы не держал, к себе не приблизил бы, – оборвал его Годунов и, открыв дверцу, выглянул из кареты. – Ну, кажись, к Волоколамскому добрались, – обрадовался он.
* * *
Февраль минул, марту начало. Степь еще под снегом, но на первых проталинах могильных холмов, каких здесь множество с незапамятных времен, зацвели подснежники.
В мартовские дни южной степью двигалось казачье войско. Пять тысяч конных и пеших донцов вел атаман Филат Межаков. Ржали кони, скрипели колеса обозных телег, многоголосо перекликались казаки. Атаман наметом вынесся на холм, натянул поводья. Мохнатый татарский конек крутнулся и замер.
Приложив ладонь козырьком ко лбу, Филат быстрым взглядом окинул степь. Мелькнула веселая мысль: «То-то царевич возрадуется!»
Атаман был доволен собой: оправдал доверие царевича. Где-то атаман Корела? Подумал с сожалением: «Жив Андрей или сложил голову?»
Весть, что у Добрыничей побили войско царевича Димитрия, всколыхнула Дон. На круге спорили, идти ему на подмогу или слать послов в Москву с поклоном? Казачьи старшины сторону Годунова тянули, но беднота пересилила…
На полпути – порубежный городок Царев-Борисов, заслон от набегов крымской орды. Стрельцов и пищальников в городке три сотни, но каждый десятка стоит. Закрыли ворота перед казаками, пушкари фитили зажгли.
Подъехал Межаков к земляному валу, окликнул:
– Стрельцы!
Из-за бревенчатой стены высунулся сотник.
– Чего орешь? Сказывай, куда вольница навострилась, ежли орду шарпать, ваша воля, но на Русь не дозволим.
Филат поднялся в стременах:
– Слыхивали, стрельцы, Дон царевичу Димитрию кланяется! Да и не невольте себя в службе Годунову, какой он царь!
Сотник скрылся. Из городка не отвечали, видно, советовались. Но вот заскрипели ворота, вышел к Межакову сотник.
– А царевич-то истинный, аль, может, верные речи о нем, вор-де, монах беглый Гришка Отрепьев?
– Дурень ты, хоть и голова стрелецкая, – осерчал Филат. – Я его самолично, вот как тебя, видывал!
– Коли так!.. – не обиделся сотник, повернувшись к городку, махнул рукой: – Отворяйте ворота, принимай царевича войско!
Передохнув в Цареве-Борисове и подправив коней, казаки снова двинулись в путь. Хотел было и стрелецкий сотник идти с донцами, но атаман Межаков отговорил:
– Нет, ты тут с командой стрелецкой для нужного дела приставлен. Оголим с тобой рубеж, а орде того и надобно…
* * *
Пахнуло весной. Днем из-под грязного снега текли ручьи и капало со стрех.
В Кромах доедали последнюю конину. О хлебе давно забыли. В осаде истощали вконец.
Шуйский присылал к Кореле стрелецкого полковника с попом из посадской церкви, уговаривали сдаться на милость царя Бориса, но атаман ответил им:
– Не нам, вам пора бы одуматься да идти в службу законному царевичу Димитрию. А словам вашим о самозванце мы веры не даем. Собака лает, ветер носит…
В царское войско под Кромы приехал воевода Федор Иванович Мстиславский. Не хотелось князю ехать, помнил, как побил его самозванец у Новгород-Северска, однако Годунов принудил: «Вдвоем с Шуйским, чать, с вором порешите…»
Тревожно в Кромах. После месячного затишья ждали приступа. Знали, нелегко будет выдержать его.
Ночами Корела и Акинфиев поднимались на стену, вслушивались, не подбираются ли в темноте царские воины. Упреждали дозорных:
– Глядите зорче, не спите, инако сонных повяжут.
Царские воины медлили, выжидали. Едва рассвет, попалят пушки Салтыкова по городу, и на весь день затишье. Казаки и холопы со стен бранили стрельцов, те в ответ матерились солено.
Кутаясь в зипун, Артамошка слушал, хмурился:
– Почто тянут, едрен-корень? Скорей бы!
– Видать, измором одолеть вознамерились, – сказал Корела.
Замолчал атаман, долго смотрел на лагерь. Потом промолвил, ни к кому не обращаясь:
– Вчерашним днем в царево войско телеги с харчем прибыли. Там, на посадской пустоши, стали. – И указал кивком головы.
– А что, – ухватился за его слова Артамошка, – может, поделятся тем запасом? Откроем ворота, ударим?
– Нельзя, – решительно возразил Корела, – люд без пользы загубим.
– Голодная смерть не легче!
– Каркаешь, Артамошка, – разозлился Корела. – Ни мне, ни тебе не суждено знать, что завтра случится.
– Дозвольте, атаманы, удачи попытать, – вмешался в их разговор молодой казак. – Мы тут с товарищами меж собой обмолвились и порешили, коли ночью в том обозе пошарпать, можно добре поживиться. Только нам бы казаков охочих поболее, вдвоем не унесешь.
– А стрельцы? О них ты, Семенко, забыл? – перебил казака Корела.
– Товарищ мой раньше на посаде жил, ему здешние места ведомы. Он тропку знает, где стрельцов нет.
– А может, и впрямь попытать? – засомневался Корела. – Охочих людей сыщешь?
…Чтоб не скрипнули ржавые воротные навесы, их щедро полили водой. Вышли. Крались вдоль стены, перебрались через глубокий ров. Вот уцелевшие избы посада. Семенка и Артамошка двинулись тенью. Следом бесшумно ступали остальные казаки. К пустырю вышли точно. Остановились, всмотрелись. Вон они, чернеют телеги. Топчутся, фыркают привязанные кони. Неподалеку у костров греются ездовые, переговариваются, но слов не разобрать. Семенка тронул Артамошку за плечо. Тот понял, шепнул:
– Давай, едрен-корень!
Тенями метнулись казаки к телегам. Артамошка перекинул через плечо задубелый тяжелый куль, догадался, что это солонина. Обрадовался удаче. Теперь в обратный путь, только бы не наскочить на дозор.
Возвращались той же дорогой. Уже затворяя ворота, услышали, как всполошился стрелецкий лагерь.
* * *
Приезду Мстиславского Шуйский обрадовался. Теперь, коли какое лихо, не одному ответ нести.
Ночь, в избе темень, но князь Василий лежал с открытыми глазами. Изба-пятистенка просторная, на первой половине челядь, на второй, чистой, он, Шуйский, с Мстиславским.
Князь Василий ворочался с боку на бок, охал. Надобно завтра велеть сыскать другую избу. Хоть и мало их уцелело на посаде, но жить с князем Федором невмоготу, мука. Мстиславский все ночи напролет не храпел, а рыкал. Он заводил сначала тихо, потом все сильнее и сильнее. От его храпа сотрясались бревенчатые стены и крыша готова была вот-вот взлететь. Наконец в избе на мгновение затихало, чтобы тут же все началось сызнова.
Шуйский накрыл голову подушкой, но это не спасало. Князь Василий выругался, отыскал на ощупь валенки и, накинув на плечи шубу, вышел из избы по малой нужде. Ночь тихая, и мороз легкий, весенний. Шуйскому не хотелось в избу. Стоял долго, пока не продрог. В сенях выпил из деревянной бадейки студеной воды, отер бороду рукавом и возвратился в горницу.
Мстиславский как раз затих. Едва князь Василий смежил очи, как ударили всполох. Вскочил Шуйский, кинулся расталкивать Мстиславского, а в голове мысль стучит: «Неужели самозванец подступил?»
Крик и стрельба из пищалей усилились. В избе вздули огонь, засуетилась челядь, помогая князьям облачаться.
Вбежал боярин Салтыков. Едва дверь распахнул, кинул с порога:
– Холопья ватага большим числом в Кромы прорвалась!
– Откель взялась? Не углядели! – разволновался Шуйский. Тыкал в рукава шубы, не мог попасть. Накричал на холопа: – Держи как следует!
– Все еще б ничего, да воры унесли из обоза все мясо, кое на прошлой неделе доставили! Чем стрельцов кормить будем? – сетовал боярин Салтыков.
– Ахти! – подал наконец голос Мстиславский – Ты, князь Василий, с утра вели пушкарям начать огневой бой. Проучим воров. – Мстиславский скинул шубу, уселся на лавке. Пальба утихла, смолкли и крики.
Мстиславский снова спросил:
– Кто дозоры нес? – И тут же сказал: – Завтра дознаться и за недогляд караульных зело проучить.
* * *
Когда Мстиславский с Шуйским сняли осаду Путивля и увели войско к Кромам, к Отрепьеву повалили холопы и казаки. Являлись, обживали вырытые за городским валом землянки, ждали, когда их позовет царевич на Москву.
С Дона в Путивль привел своих казаков и атаман Межаков. Встречали их в Путивле торжественно, с колокольным звоном. Сам царевич Димитрий дожидался донцов за городской стеной. Атамана Межакова одарил шубой со своего плеча. Хоть и оказалась она Межакову мала, но дорога честь…
Теперь, обретя силу, Отрепьев двинулся к Кромам.
* * *
С рассвета и допоздна старались царские пушкари. Огненные ядра жгли город, с треском валились хоромы и избы, вздымались земляные столбы. В грохоте тонули стоны и крики. Убитые лежали рядом с живыми. Едко воняло пороховым зельем.
К вечеру деревянная стена, опоясавшая Кромы, местами обуглилась, разрушилась.
Артамошка, грязный, дубленый тулуп в лохмотьях, скалит зубы:
– Вот те солонинка!
– Время подоспело, не робь! – подбадривал своих казаков Корела. – Рубись саблями, круши топорами! Сдюжим!
Выглянет Артамошка в бойницу, стрельцы, как муравьи, копошатся. Одни хворост подтаскивают, ров забрасывают, другие лестницы волокут, на стены взбираются.
С минуты на минуту ждали казаки и холопы, когда стрельцы приступ начнут. И началось. Набежали, полезли…
Гарью и пороховым дымом затянуло город. Огонь лизал бревенчатые стены. Палили пищали, и грохали пушки. Жестоко дрались казаки и холопы, яро рвались в город стрельцы, сатанели.
Пробрался Корела к той стороне стены, где стоял ватажный атаман Артамошка с комарицкими мужиками. Уже второй приступ отбили они.
Увидев Корелу, Артамон закричал:
– Во навалились, нет передыха! – И вытер рукавом закопченное лицо.
– Седни отразим, а на завтра силы не будет! Надобно попытаться на рассвете выйти за ворота и нежданно первыми на стрельцов напасть. Когда они еще спросонья. Тут одно: иль погибнем, иль прорвемся…
В полночь затихли с той и другой стороны. Но не смыкали глаз в Кромах. Откинули запоры с ворот, скопились за городской стеной казаки и холопы. Ждали зари. Бесшумно, ни голоса не подавали, ни оружьем не звенели.
А в тот час прискакал к Шуйскому гонец. Уведомляла дальняя сторожа князя Василия Ивановича, что самозванец из Путивля вышел и с новой большой силой тронулся к Кромам.
И Мстиславский с Шуйским велели немедля, не дожидаясь утра, отступать. Потянулось царское войско на Тулу.







