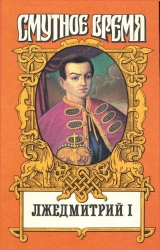
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
Побоище
Когда боярин Белый-Туренин и Григорий приблизились к тому месту, откуда доносился шум битвы, то они увидели, что хотя здесь дорога, по которой они ехали, действительно слегка поворачивала в сторону, но вместе с тем пересекалась с другой дорогой, более широкой. На этой-то новой дороге и кипел бой.
Свет полной луны позволял ясно различать все подробности.
Тройка запряженных в широкие сани горячившихся коней стояла неподалеку; их сдерживал под уздцы рослый парень.
В санях стоял и отчаянно отбивался молодой человек, с бледным красивым лицом, опушенным небольшою темною бородою. На него нападало несколько человек, из которых некоторые, по-видимому, были поранены саблей отбивавшегося. Все нападавшие были пешие. Их коней держал в стороне какой-то малорослый парень с женственно-красивым лицом. Не принимая участия в битве, он лишь делал указания нападавшим, выкрикивая певучим спокойным голосом по-польски:
– Фома! Фома! Не зевай! Накидывай петлю-то! Эх, не так! Ну-ка ты, Юшко! Ты половчей, попробуй!
Немного далее виднелась неподвижная, словно окаменелая, фигура великана-всадника со скрещенными на груди руками.
В санях, у ног отбивавшегося молодого человека, лежало распростертое тело какого-то старика, судя по одежде, холопа. Старик, казалось, был мертв; кровавый рубец протягивался поперек его белого лба и скрывался в густых, смоченных кровью, седых волосах. Молодой безусый парень, почти мальчик, сидел тут же, склонясь над ним, и старался какою-то тряпкой остановить кровь, текущую из раны на лбу старика. Порою мальчик поднимал глаза, обводил безучастным взгляду бившихся и снова опускал голову, снова принимался за старое. По-видимому, он плохо сознавал, что происходит вокруг него.
Шум свалки заглушал топот коней боярина и Григория по мягкому снегу; Павел Степанович и его дорожный товарищ – последний несколько впереди – успели подъехать совсем близко к побоищу прежде, чем их заметили.
Григорий подскакал в то самое время, когда молодой человек, стоявший в санях, упал от удара дубиной по голове, последовавшего после возгласа красивого молодчика, державшего коней бойцов:
– Грицко! Хвати его дубиной! С ним, видно, так не сладишь… Ошарашь, ошарашь его!
– Вы чего же это душегубством по дороге занимаетесь? Вот я вас, воронье поганое! – крикнул по-русски Григорий, налетая с поднятой саблей на людей, окруживших сани и обматывавших веревками лежащего без чувств молодого человека.
Озадаченные неожиданным появлением защитников – боярин подскакал следом за Григорием, – они растерялись и отступили в разные стороны. Их остановил окрик Стефана (малорослый красивый парень был он):
– Чего струсили? Не видите разве, что их всего двое? Бабы!
И он, быстро вскочив на своего коня, первый кинулся на Григория и Белого-Туренина. Его пример подействовал. Скоро при свете луны клинки сабель засверкали вокруг боярина и его спутника.
Павел Степанович хладнокровно отражал удары; он казался таким спокойным, как будто участвовал не в бою, а на простой потехе, ради того, чтобы скоротать время. Что касается Григория, то тот словно переродился. Его лицо, на котором играла довольная улыбка, казалось теперь почти красивым. Он гикал, посвистывал, подпрыгивал на седле, рассыпал удары направо и налево и в то же время успевал отражать саблю Стефана. Несмотря на все свое искусство, слуга пана Феликса должен был, хотя и медленно, отступать под напором своего горячего противника. Дошло наконец до того, что он был прижат к краю дороги, к сплошным колючим кустам.
Всего против боярина и Григория билось пять человек, кроме Стефана, но все это были довольно неискусные бойцы, так что, когда Григорий, увлекшись поединком с Лисом, постепенно отдалился от Белого-Туренина, Павел Степанович настолько успешно мог единоборствовать против всех, что одного, тяжело ранив в руку, заставил бросить саблю и выйти из битвы, а другого замертво уложил на землю, раскроив ему череп.
Положение слуги пана Гонорового становилось все, более критическим. Григорий уже почти загнал его в кусты, где конь Стефана был стеснен в движениях. Красавец холоп не выказывал ни малейших признаков трусости. Он оставался хладнокровным, зорко следил за противником, выжидая удобного момента для нанесения удара, улыбка не сбегала с его лица, но на лбу от утомления выступили крупные капли пота, и рука отражала саблю Григория уже не с такою быстротой и ловкостью, как прежде.
В это время ему явилась помощь. Словно рев дикого зверя пронесся по лесу и стих, и недвижная статуя – пан Феликс Гоноровый – ожила. Конь его взвился на дыбы и в два прыжка очутился подле Стефана. Сабля пана со свистом прорезала воздух, страшные, мертвые глаза глянули в лицо Григория.
IVНа волосок от смерти
Биться Григорию против двоих было нелегко. Он отбивал своей саблей удары, отклонялся то в одну, то в другую сторону от вражеских клинков. Теперь настала его очередь отступать. Стефан давно уже выбрался из зарослей, и, наоборот, Григорий был загнан своими противниками в кусты. Он чувствовал, что еще немного – и ему не устоять: биться с двумя такими бойцами становилось не под силу. Поэтому он вздохнул с облегчением, когда пан Феликс пробурчал:
– Стефан! Я один справлюсь. Поди бейся с другим…
«Слава Богу! С одним-то я еще потягаюся!» – радостно подумал Григорий, скрещивая свою саблю с оружием противника, когда Стефан, повинуясь панскому приказу, отъехал.
Однако и с одним паном Гоноровым нелегко было управиться. Пан не придерживался никаких обычных правил, он рубил сплеча.
Здесь сила заменяла искусство. Кривая сабля его так и мелькала в воздухе. Григорию некогда было нападать – он едва успевал отбиваться. А пан все наступал. Его тяжелый, большой конь напирал грудью на сухопарого «степняка» и заставлял подаваться назад, все дальше и дальше в кусты.
Феликс не сводил своих стеклянных глаз с лица противника, и Григорий начинал как-то странно чувствовать себя под этим застывшим взглядом. Он нарочно старался не смотреть в глаза недругу, но его словно толкал кто: «Посмотри да посмотри!» – и он нет-нет да и взглядывал против воли. «Ну и глазищи же у него! Что у сатаны!» – думал Григорий, недовольный тем, что эти безжизненные глаза мешали ему биться. Да, мешали. Сначала он этого не сознавал, только чувствовал некоторую неловкость; его рука как будто действовала медленнее, чем всегда; потом он начал испытывать такое чувство, словно на него надели путы и стягивают ему руки, заставляют странно неметь все тело. Но это не была усталость – это была скорее какая-то вялость, апатия; нечто подобное чувствует человек, когда его «морит» сон.
Григорий бодрился, но непонятное состояние все усиливалось. Уже несколько раз он едва не был зарублен, лишь с большим усилием ему удалось уклониться от смертельного удара. И вот настал момент, когда сабля пана блеснула, заносясь над головою Григория, а он сидел неподвижно, не поднимая своего оружия навстречу противнику, глядел прямо в глаза пана Феликса и думал: «Да что же это я? Ведь он меня сейчас зарубит!»
Смерть его, казалось, была неминуема.
В это время темная масса стала между бойцами и разделила их.
Сабля панская опустилась.
VПосле битвы
– Боярин! Он тебе плечо зарубил?!
– Ничего, пустое. Хорошо, что ты цел остался – близко было…
– Что и говорить! Совсем на краю могилы стоял. И что со мной сталось, понять не могу! Словно одурел. Ведь знаю, что сейчас конец мне, а саблю поднять силы нет. Кабы не ты – шабаш. Спасибо тебе! Вот уж спасибо! Век не забуду. Дай-кась я тебе плеча перевяжу.
– После. Теперь к саням пойдем. Вишь, лошади совсем в кусты зашли да бьются: опрокинут сани, чего доброго, либо ускачут.
– Не уйдут кони. Успеется. Поверни-ка плечо поскорей. И-и, какая рана! Как ее не перевязать? Этак и кровью изойти можно… Мы ее сейчас затянем – рану-то…
И Григорий, достав из привешенного к седлу узелка с дорожными припасами «про случай» рубаху, изорвал ее в длинные полосы и начал умело перевязывать рану боярина, заставив Павла Степановича, как он ни отговаривался, скинуть ненадолго кафтан и, несмотря на мороз, обнажить плечо.
Как закончилось побоище и каким образом Григорий остался живым и невредимым, а Белый-Туренин получил тяжелую рану? Для того чтобы объяснить это, надо вернуться ко времени боя.
Когда Стефан, по приказанию своего пана, предоставил ему одному биться с Григорием, он, немного переведя дух, так как устал за время поединка, направился туда, где находился Павел Степанович. Боярин сражался с прежним хладнокровием; появление нового лица в числе противников его не испугало. Он старательно отбивал удары, не забывал наносить их сам и в то же время поглядывал в ту сторону, где бился Григорий.
Боярин вскоре заметил, что тому, кажется, приходится плохо. Понемногу он стал подвигаться поближе к Григорию. Вглядевшись в лицо своего дорожного спутника, он увидел в нем странную перемену. Григорий казался бледным как мертвец и с видимым усилием действовал саблей.
«Ранен!» – подумал боярин и уже решительнее двинулся к нему на выручку.
Желая выбраться из круга противников, он стал наносить удары быстрее прежнего. Стефан попробовал преградить ему путь и с пораженной правой рукой и грудью свалился с седла.
Павел Степанович поспел на помощь товарищу в ту самую минуту, когда сабля пана Феликса уже занеслась над головой Григория. Белый-Туренин, не раздумывая, заслонил собою своего спутника, и пан Гоноровый рассек ему плечо. Пострадало левое плечо, а потому это не могло помешать продолжению боя, и боярин не думал отступать. Побоище прекратил сам пан Феликс. Биться с двумя сразу он не имел охоты. Слагать свою голову из-за неудачной попытки захватить в свои руки соперника по любви к прекрасной панне не входило в его расчеты. Он еще хотел пожить, и пожить хорошо.
– На коней! – крикнул он.
Его голос прозвучал, как труба. Мигом все его ратники, даже и тот, который до сих пор держал под уздцы троечных лошадей, растерянно смотря на происходившую свалку, вскочили в седла. Захватили с собою и раненых, в числе которых был и Стефан.
– К дому! – приказал Гоноровый, и весь отряд полным карьером умчался с места битвы.
– А ты, братец, умеешь перевязывать раны. Где это ты наловчился? – сказал Павел Степанович, когда Григорий заканчивал перевязку.
– Чего я не умею! – усмехаясь, ответил тот. – А наловчился я в Запорожье.
– Разве ты – казак?
– Был им. Кем я не был? Я и саблей махать не дурак, я и пером строчить мастак.
– Вот как! Сподобил, знать, тебя Бог.
– Да не только русскую, я и польскую грамоту знаю. И латынь учил… Ну вот, боярин, и готово! Теперь пойдем к саням, посмотрим, что там за народ.
Мальчик по-прежнему сидел, наклонясь над трупом старика. Когда Белый-Туренин и Григорий приблизились, он мельком взглянул на них, но не сказал ни слова и продолжал прикладывать тряпку к ране старика, хотя кровь уже перестала течь. Молодой человек, на которого было произведено нападение, лежал поперек саней, так что голова и ноги его свешивались по одну и по другую сторону. Он не шевелился. Григорий приложил ухо к его груди.
– Жив. Сердце бьется. Да я и знал, что он жив: слышал я, как тот кричал, чтоб дубинкой ошеломили этого молодчика. Ошеломили, а не убивали. Стало быть, его только легонько пристукнули. Давай-кась снегом его оттирать, – сказал Григорий и, взяв ком снега, начал тереть им виски молодого человека.
Павел Степанович помогал ему. Однако их старания не увенчались успехом.
Молодой человек стал дышать глубже и ровнее, но в себя не приходил.
– Делать нечего, придется так везти. Авось очнется. Надо ехать… Паренек, а паренек! – обратился Григорий к мальчику.
Тот уставился на него.
– Откуда вы и куда ехали?
Мальчик не отвечал.
– Али у тебя языка нет?
– Тятьку убили! – пробормотал парень.
– Что ж делать! Божья, знать, воля. Теперь тоскуй не тоскуй – не поможешь. Скажи лучше, куда ехали да как твоего пана звать?
– Звать Максимом Сергеичем… Из Гнорова мы…
– Так. А куда путь держали?
– К невесте его. В Черный Брод.
– Далеко отсюда?
– Тут за лесом. Близко.
– Боярин, садись в сани! Коней своих привяжем позади. Довезем Максима Сергеевича до его невесты.
– Тятьку, тятьку возьмите! – не своим голосом крикнул парень.
– Возьмем, не бросим при дороге… Эхма, мои лошадушки!
Григорий взял вожжи в руки, тряхнул ими, и тройка понеслась.
– Знаешь, боярин, ты останься в Черном Броде.
– Зачем?
– С такою раною тебе покой да уход нужен.
– А ты не останешься?
– Нет. Я и ночевать в панском доме не буду.
– Что так?
– Так, не с руки.
– Далеко ты едешь?
– Сам не знаю. Еду туда, где пошумней, полюдней, где людей ратных побольше.
– Зачем это тебе?
– Эх, друг! Есть у меня думушка, да не пришла пора открывать ее! Жизни сердце мое просит такой, чтоб дух захватывало! Или даром я учился? Или мозгов у меня мало, что должен в серости век свой коротать? Нет, товарищ! Не таковский я! Мне бы царством править, мне бы полки водить, а не так вот, в черном теле пребывать. И буду полки водить, буду!
Продрогшие кони, пугаемые завыванием волков, неслись с быстротой ветра. Лес все больше редел. Еще немного, и глазам путников представилась уходившая вдаль снежная, облитая лунным светом равнина.
Григорий встал и хлестнул по лошадям. Кони наддали. Снежные хлопья из-под копыт били в лицо едущим.
Григорий стоял и помахивал вожжами. Глубокая дума виднелась на его некрасивом лице. Грудь неровно поднималась. Павел Степанович смотрел на него и думал: «Ну, брат! Вон ты каков! Не ожидал!»
Черное пятно показалось вдали на белом фоне снега. Можно было неясно различить крыши изб и темную массу какого-то строения, стоявшего в стороне от изб.
– Черный Брод? – спросил Григорий парня.
Тот молча кивнул головой.
– Усадьба? – опять спросил спутник боярина, указывая на строение.
Парень снова кивнул головой.
Григорий остановил тройку и выпрыгнул из саней.
– Прощай, боярин!
– Ты куда же? Хоть бы доехал до деревни.
– Я полями наперерез скорее доберусь.
Григорий, ловко вскочил на коня.
– Прощай, приятель, коли так. Свидимся ль? – проговорил Белый-Туренин.
– Свидимся! Верно, свидимся если живы будем, Только я тогда вряд ли буду простым Григорием.
– А кем же будешь?
– Кем? – усмехаясь, промолвил Григорий. – Быть может, царем! Ха-ха! Прощай!
– Прощай!
Боярин шевельнул вожжами. Тройка понеслась. Он глядел в ту сторону, где виднелась быстро уменьшающаяся фигура скачущего на своем «степняке» Григория.
«И хороший он парень, а мозги у него, кажись, немного не на месте», – думал Павел Степанович.
Его дорожный спутник казался уже темною точкою. Вот и точка пропала. Белый-Туренин оглянулся и посмотрел вперед. Большой панский дом, обнесенный изгородью, глядел на него рядами темных окон. В двух из них виднелся свет.
Тройка подъехала к воротам.
VIСтранный слуга
Ночь темна, но тепла. Уже с неделю, как погода размякла. Впрочем, и не диво – дело к весне идет, уже начало марта. Вон и ветер совсем не тот, что дул в середине зимы – теплый, будто ласковый. В зимнюю пору подуй ветер – в поле беда! Закурились бы все холмики и бугорки мелкою снежною пылью, и понеслись бы белые тучи навстречу путнику, обвили бы, засыпали бы его, заставили бы его прижмуриться и уйти головой в высокий воротник овчинной шубы да прибавить шагу, чтобы поскорее выбраться на дорогу – не ровен час, разыграется метель, тогда – верная гибель среди снежных сугробов. Теперь не то – снег слежался, осел, покрылся тонкою ледяною корою; ветру не взвить над сугробами столбиков снежной пыли.
В поле тихо. Лишь изредка доносит ветер что-то похожее на отдаленный смех и говор, долетает тихое ржанье и фырканье коней. Услышит это шагающий по колено в снегу, одетый в рваную овчину крестьянин и посмотрит в ту сторону, откуда звук идет, и вздохнет глубоко, увидев вдали желтенькие, тусклые, едва видные огоньки в лачугах таких же, как он, бедняков-поселян и залитые светом окна дворца ясновельможного пана князя Адама Вишневецкого, живущего в своем Брагине с королевскою пышностью, и подумает:
«Опять пирует князь Адам… И что за житье панское! Все пиры да пиры… А у нашего брата коли хлеба без мякины есть вдосталь, так и то рад… Э-эх! И отчего так жизнь человеческую Бог состроил, что одному много, а другому ничего равнешенько?»
И почешет затылок мужичок, и еще раз вздохнет, и опять по-прежнему зашагает по глубокому снегу туда, где светит тусклый, но все же приветливый для него огонек в родимой избенке, где ждет его пара белоголовых чумазых ребятишек и вся высохшая от работы да голодухи баба.
Пируют паны, пируют и их челядинцы. Уселись они в кружки, человек по десяти в каждом, и то и дело опускают свои длинные усы в ковш холодного сладкого меда, который, пока пьешь, как будто и слабоват, а попробуй-ка встать, опорожнив добрую половину ковша, – ноги не пойдут, тут же и растянешься на полу, колода колодой при громком смехе остальных, более выносливых «питухов».
Иные потягивают «вудку», есть и такие, которые пивом пенистым, хмельным балуются.
Шумно в челядне. Разноязычный говор – польский, литовский, русский – прерывается взрывами хохота, разухабистой песней… Жарко. Дверь входную открыли, и отраженные стенами звуки вылетают на двор и дальше, в снежное молчаливое поле, и затихают где-то там, в пространстве, далеко-далеко, быть может, у той звезды, которая проглянула сквозь облака с темного неба.
Но не все веселы в челядне. Вон в углу сидит рыжеволосый приземистый человек. Он задумчив и не вступает ни с кем в беседу, не улыбнется, не выпьет ни глотка меда или «вудки». На него не обращают внимания – привычна всем его задумчивость.
Не первый месяц уже живет Григорий в числе челядинцев князя Вишневецкого, а веселым никто его еще до сих пор не видел. Всегда дума какая-то лежит на лице. От пирушек, от забав хлопцев сторонится. Товарищи его недолюбливают, но открыто своего отношения не высказывают: сунься, покажи, он тебе живо рукой головушку с плеч снесет!
Недаром его любит князь Адам: Григорий первым бойцом считается среди всех княжеских челядинцев. Да не только считается, таков он и есть на деле. Наезд ли Вишневецкий делает на какого-нибудь недружного соседа, едет ли на звериную ловлю – Григорий впереди всех. Тогда он весел. Шапка с алым верхом лихо набок сдвинута, так что кисть золотая, которая к верху шапки прикреплена, до самого плеча свешивается; гикает он, посвистывает, улыбка во все лицо. А вернутся домой – опять сумрачен.
Порой и на него, впрочем, найдет полоса разговорная, оживится он, заговорит. Говорить он мастер! Заслушаешься. Да ему есть что и порассказать: видал всякое, хоть и молод. Начнет рассказывать про набеги казацкие, про битвы с татарвою да с турками, а то – о мирном житье-бытье московском, об обычаях тамошних. Часто о царях говорит, особенно об Иване Грозном, о Феодоре. Начнет о Феодоре – непременно вспомянет про смерть Димитрия-царевича и вздохнет всегда при этом так глубоко-глубоко, посетует, что пресекся царский корень… И у самого слезы в очах, и голос дрожит.
Дивились этому все немало: этакий молодец храбрый и вдруг слезы роняет, будто баба! А он примолкнет, иной раз на полуслове речь оборвав, отойдет в сторонку и смахнет слезу, потом сядет где-нибудь в уголке грустный-грустный.
Совсем не похож он был на других челядинцев пана Вишневецкого. Недаром про него и слухи ходить стали разные. Поговаривали втихомолку, что он совсем не низкого звания, что он – боярин московский, спасается от врагов своих, иные же пошептывали, что он, пожалуй, и еще повыше боярина.
Никто не знал, доходила ль до Григория эта молва, но он продолжал держать себя по-прежнему. Видали его часто в последнее время беседующим с духовником князя Адама, иезуитом, отцом Николаем. Это еще более подлило масла в огонь: что за беседы такие у важного княжеского духовника с простым слугою?
Сидя в стороне от пирующих и не вступая ни с кем в разговор, Григорий внимательно прислушивался. Сквозь царивший в челядне шум он старался уловить слова говорившего неподалеку от него уже немолодого человека.
Григорий знал его – это был Петровский, один из слуг Вишневецкого, русский, поступивший к князю не так давно.
Слушатели Петровского были тоже русские, исключая двух усатых поляков и одного угрюмого литвина, больше заботившегося о том, чтобы его не миновал ковш с медом, чем о речи Петровского. А речь его была занятна. Григорий за шумом не мог расслышать некоторых слов, но смысл речи уловил: Петровский говорил об убиении царевича Димитрия.
– Майский день был это, светлый, теплый… Послала царица Марья сыночка своего, Димитрия, погулять – знамо дело, хоть и царевич, а все дитё, – побегать, поиграть хочется… – говорил Петровский, продолжая рассказ. – Ну и вышли, значит, на крыльцо кормилица, Орина – мамка, Волохова – боярыня и еще постельница, Марьей звать. Глядь, подходят к ним Осип Волохов, мамкин сын Качалов Микитка да Битяговский Данилка…
– И почему ты это все знаешь? – перебил рассказчика кто-то.
– Хм!.. Как не знать? Я ж в ту пору в Угличе у царицы Марьи в истопниках жил. Все я своими глазами видел, как раз по двору в ту пору проходил.
– Ну-ну, валяй дальше.
– Подходят это к ним, а уж царевич с жильцовыми [1]1
Жильцы – особый класс в Московской Руси, один из разрядов служилого чина.
[Закрыть]ребятками об игре какой-то сговаривался, а кормилица на крылечке присела, Волохова подле стоит с Марьей-постельницей, беседует. Те-то трое все ближе подходят к царевичу да мальчикам жильцовым. И вижу я, что Волохов нож вынимает да пробует, остер ли. «Что за диво такое, – думаю. – На что ему нож?» А Битяговский ему говорит: «Ты чего нож-то выставил? Спрячь в рукав!» и не видит, злодей, что я тут близехонько стою и все слышу. Подивился я да думал уже и со двора прочь идти, дело к тому ж у меня спешное было, вдруг шум тут поднялся да вой и рев такой, что я остановился, будто в землю врос, и шагу сделать не могу. Кормилица, вижу, плачет, рекой разливается и вопит не своим голосом, Волохова мечется у крыльца что угорелая, постельница тоже, а Качалов, Волохов, Битяговский бегут в разные стороны, и лица у них не то от страха, не то от злобы мела белей и перекошены. На крик народ отовсюду бегом бежит. И вдруг звон по всему городу поднялся, будто к пожару; колокола так и гудят, а народ ревет, их заглушает: «Царевича злодеи убили!» Тут смекнул я, для чего нож Волохов вынимал. Крикнул я людям, кто злодеи, и пустился за Качаловым с братьею его нечестивою. Убил злодеев тогда народ, что звери на них кинулись… И поделом!
Петровский примолк.
– Ну, а царевич? – спросили сразу несколько.
– Нашли его, болезного, с гортанью перерезанной.
– Вот что. Стало быть, помер. А тут слух у нас идет…
– Какой?
– Да будто царевич Димитрий жив и объявится скоро и царство себе вернет, – сказал кто-то.
– Так! И мы слышали!
– И мой пан толковал, – вставил свое слово угрюмый литвин, – об этом, слыхал я, с одним приезжим боярином московским. Пан мой не верил, а тот честью заверял, что царевич жив и в Литве находится…
Петровский обвел всех торжествующим взглядом.
– Братцы! По совести скажу вам – здесь мне бояться нечего, здесь Литва, не Русь, Бориска меня не казнит смертью…
– Конечно! – гордо сказал по-польски один из поляков. – Здесь мы бы твоему Борису бока начистили! Казни москалей своих, а сюда не суйся – руки коротки!
– По совести скажу, братцы, – продолжал Петровский, – точно, Димитрий-царевич здравствует!
– А сам говорил…
– Постойте! Дай досказать! Гортань перерезали злодеи, да не ему – помутилось у них в глазах, знать, от страха! Зарезали парнишку одного жильцова.
– Ну?! А царевич?
– Царевич убег. Приютил его добрый человек один и увез в Литву, чтоб от Бориса укрыть. Видал я убитого мальца, когда он в храме лежал – не Димитрий то, примет царевича нет.
– Дивно! – покачав головою, сказал один из сидевших. – Словно сказка!
– Иная быль диковинней сказки…
Все притихли.
– Да где же Димитрий? Что ж он не явится? – тихо промолвил кто-то.
– Появится, дай срок… – ответил Петровский.
Григорий быстро поднялся и подошел к сидевшим.
– Димитрий где? – заговорил тихо, почти шепотом, но так, что каждое слово его отчетливо отдалось в ушах слушателей, – Димитрий где? – повторил он. – Он близко… Быть может, здесь… За счастье царевича Димитрия!
И он, зачерпнув меду, осушил ковш до дна; потом поспешно вышел из челядни.
Сидевшие переглянулись с удивлением.
Петровский наполнил ковш.
– За счастье царевича Димитрия! – повторил он фразу Григория и хлебнул глоток.
Ковш пошел по рукам.







