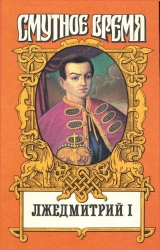
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
В углу, подложив под себя матицу из рогожки, спал Артамошка. Заслышав скрип отворяемой двери, поднялся.
Переступив порог, Демид взял бадейку, сделанную из дубовых клепок, кинул Артамону коротко:
– Разожги горно.
Вышел из кузницы, постоял, словно что-то обдумывая, потом направился к колодцу.
Идти недалеко. Колодец посреди улицы. Вырыли его, когда Демид был еще мальчишкой. Рыли миром, сообща. Бревенчатый сруб поставили и журавль. На одном конце его привязали тяжелый булыжник, на другом – длинный шест для бадьи.
Колодец чистили ежегодно, а сруб Демид и не помнит, когда меняли. От времени бревна почернели, покрылись мхом. Бадейка на шесте тоже от воды и времени темная, тяжелая.
Издали Демид увидел у колодца двух баб. Та, что погрузней и повыше ростом, жена оружейника Николы, вторая – маленькая, щуплая, Агриппина, сестра кузнеца Ивана.
Подойдя ближе, Демид услышал, как жена Николы громко говорила:
– Седни ночью, слыхала, у Шуйского-князя на подворье тати шалили, амбар очистили.
Агриппина на язык смелая, стрельнув по Демиду глазами, ответила бойко:
– У Шуйского, поди, не один амбар всякого добра, не пропадет!
Легко подхватив бадейку, заспешила к своей избе. За ней следом пошла и Николина жена. Кузнец сказал – сам себе вслух:
– Голод, он что хошь заставит проделать. Видать, отчаянные те молодцы, что в князевом амбаре погостили.
Перебирая большими мозолистыми руками шест, Демид опустил бадейку в колодец. Она хлюпнулась, потонула. Кузнец заглянул в глубину. Внизу в блеске воды отражался кто-то чужой. Волосы взлохмаченные, голова – что котел. Демид по-мальчишески вскрикнул:
– Ого-го!
Снизу глухо ответило:
– Го-го!
Опомнился кузнец, оглянулся. Нут-ко, подслушает кто, как он ребячится. Но нет, у колодца никого, кроме него, не было.
Рассмеялся Демид, вот дела: уж сам себя не признает. Вытащил бадейку, перелил в свою и, легко подняв, направился к кузнице.
Из двери чадило. Склонившись над печью, Артамон разжигал угли. Демид поставил бадью, промолвил:
– Дуй шибче, Артамон.
И взялся за ручки мехов, качнул.
Весело чмыхнули мехи, синим огнем полыхнули угли, загудело в горне. А Демид Артамошке шумит:
– Чует душа, покличут нас с тобой к Шуйскому на амбары замки навешивать. Раньше набивался к нему, он сказывал: «Нам не надобно, у нас сторожа». Седни мы, Артамон, сын Акинфиев, хлебушко заработаем!
* * *
На заре Шуйский забылся во сне. Повернулся на спину, бороденку кверху задрал и захрапел. По всем хоромам слышно – спит князь.
Сладкий сон снился Василию. Входит он в Грановитую палату на думу. По лавкам вдоль стен князья и бояре расселись, а его, Шуйского, место, что меж Романовыми и Черкасскими, Годунов занял.
Приостановился Василий в недоумении, но тут бояре проворные подскочили, бережно подхватили Шуйского под ручки, повели к возвышению, где кресло царское, усаживают на государево место, приговаривают: «Царь наш, Василий Иванович».
А князья с боярами ему поясные поклоны отвешивают…
Что б еще увидел Шуйский, кто знает, кабы не разбудил его старый дворский из служилых дворян.
Продрал глаза князь Василий, зло его разобрало: «Эко, сон какой нарушил!» Спросил в сердцах:
– Почто беспокоил, аль погодить не мог?
Тут только рассмотрел, что лицо у дворского белее мела, а руки трясутся.
– Батюшка князь, грабеж!
Откинул Шуйский одеяло, вскочил, дворского за бороду ухватил:
– Что пограбили?
– Тати амбарушко дальний очистили.
И еще больше задрожал.
– А сторож, сторож куда глядел?
– Повязали и сторожа, и воротного.
– По-вя-за-ли! – плюнул Шуйский. – Погодь, порты натяну, самолично погляжу.
Испуганная челядь старалась не попадаться разгневанному князю на глаза. Шуйский торопливо пересек двор. У открытого амбара не задержался, вошел внутрь. Пахло пылью, сухим зерном.
Князь Василий остановился у закрома, спросил:
– Сколь взято?
Дворский за спиной ответил поспешно:
– Мер тридцать ржи да кадку сала.
– Кузнеца Демидку покличь ко мне. Вот только помолюсь да поем – и веди.
Вышел из амбара, сказал на ходу!
– Сторожа и воротного на конюшню. Сечь смертным боем, дабы другим неповадно было и княжью службу несли исправно.
* * *
Демид к работе приступить не успел, прибежал холоп Шуйского, стал у двери, перевел дух:
– Князь Василий Иванович кликать велел.
Кузнец руки о тряпицу вытер, подморгнул Артамошке:
– Чья правда?
Холопу же ответил:
– Скажи князю, приду.
Убежал холоп, а Демид снял кожаный фартук, повесил на колок, направился вслед за холопом.
Шуйский трапезовал один. Кузнец с порога степенно поклонился. Знай, мол, не холоп и не челядин я.
На столе пред князем блюдо с мясом, глиняная миска с квашеной капустой, другая – с репой. Посреди стола гора калачей.
Демид сглотнул слюну, мелькнула мысль: «Сытно живут князья…»
Шуйский грыз гусиное крыло, прихлебывая молоком из большой корчаги. На кузнеца посмотрел хмуро:
– Чать, знаешь, зачем зван? – и смачно отрыгнул.
– Догадываюсь, князь. Слыхал, у тебя тати пошалили.
– Коли известно, то и затевать разговоры нечего, а приступай к делу. Замки на амбары навесить надобно, да не простые, а зело хитрые, чтоб ни одному татю не открыть. За то я три короба мучицы отсыплю да еще сала четвертинку сверх того. Ну, ну, ступай с Богом.
* * *
Муки хватило ненадолго, и снова голодно Демиду и Артамошке. Худо жить, и работы нет.
Днями бродил Артамон по городу в надежде пристроиться к делу, но куда там, вон сколь люда в Москву со всей русской земли сошлось. Те, кому посчастливилось, в артель сколотились, на Торговой площади, ее все более Красной прозывали, настил бревенчатый подновляют.
Тут же, на площади, в огромном котле две стряпухи варят мастеровым щи. Едва артельщики на обед расселись, за ложки взялись, как к котлу хлынула толпа голодных. Мастеровые за еду в драку кинулись. На подмогу артельным из Кремля набежали стрельцы, начали люд теснить, тех, кто не отходил, бердышами насмерть рубили.
Закричал народ, побежал с площади. Артамошка не упомнил, как в Охотных рядах очутился. Перевел дух. Вот те и насытили! Насилу ноги уволок.
А народ на торгу волнуется:
– Царю челом бить! Жаловаться на стрелецкое самоуправство!
– Как же, там тебя ждут!
– Аль стрельцы не государево войско?
– Давай, поспешай к Борису, он тебе еще добавить велит!
– Поделом, чего в Москву явились? Аль без вас тут нищих не хватало? – задирались стоявшие особняком служилые дворяне.
Старуха с клюкой, в рванье, грозила под носом здорового детины крючковатым пальцем:
– С мое бы тебе, иное закукарекаешь! Эка морда!
– Ништо! Доберемся до них. Таких собак на осине вешать! – заломив шапку, кричал в толпе лихой мужик.
– Эй, кого ты, смутьян, вешать вознамерился? – Оттолкнув старуху, к мужику кинулся здоровый детина. – Пристава кличьте!
Народ детину оттеснил.
– Убирайся подобру!
И снова драка.
Расходились окровавленные, побитые. В драке о еде забыли.
Артамону Акинфиеву лихой мужик приглянулся – подался за ним. Тот по торгу петлял, словом то с одним, то с другим перекидывался. Приметил Артамошку:
– Чего следом ходишь, аль привязан?
Мужик худой, загорелей, борода смоляная, а глаза лукавые, щурятся, жгут Артамона насквозь.
– Любопытно мне. – Артамошка ответно усмехнулся. – Гадаю, что за человек ты, едрен-корень.
– Катись. – Мужик незлобно ругнулся. – Уж не твои ль приятели на меня накинулись?
– Возьми их себе, – озлился Артамон.
– Ладно, не серчай. Вижу сокола по полету. – Протянул Артамошке руку: – Держи, товарищем будешь. Звать-то как? Меня Хлопком кличут.
И, отступив на шаг, смерил Артамошку с ног до головы взглядом, тряхнул кудрями.
– Нравишься ты мне. А не взять ли тебя с собой? – Лукавые глаза прищурены, смеются.
Артамошка не понял, серьезно ли говорил Хлопко аль потешался над ним. Пригляделся повнимательней. Нет, мужик только с виду шутит, а на деле серьезно речь ведет. Спросил:
– Куда зовешь, едрен-корень?
– Много знать будешь, скоро состаришься. Ежели согласен, сказывай, не хошь – не пытай.
– Да ты мужик с норовом, – осерчал Артамон. – Как же мне давать слово, коль не ведаю, на что зовешь?
– Любопытствуешь? Слушай! Неподалеку поджидают меня товарищи. Коль желаешь, ходи за мной, нет – не прогневаюсь. Москва велика.
– А мне на Москве терять нечего, как появился здесь, так и уйду.
– К нам пристанешь, не пожалеешь, – сказал Хлопко. – Мы дружные, друг дружку в обиду не даем.
Покинули торг, шли, переговариваясь.
– Скажи мне, Хлопко, мужик бывалый, отчего неустройство на Руси?
Тот брови поднял, спросил удивленно:
– Аль сам не ведаешь? По боярской вине холопы бездомные бродят.
Повременив малость, снова сказал:
– У нас с тобой, Артамон Акинфиев, одна доля, ватага моя хоть не велика, но и не мала, кой-кому страху нагоним. Только одно не порешили: кое-кто из-под Москвы не желает трогаться, иные же на окрайну тянут – там не так голодно.
– А сам-то как, едрен-корень? – спросил Артамон.
– По мне, Артамошка, сподручней здесь оставаться. Я ватагу сколачивал не для того, чтобы, пузо набивши, подставить его светилу. У меня с боярами счеты. Будя, походил я у них в холопах, нынче вольной жизни изведал и атаманить желаю лихо.
– Так, значит, никуда не подашься?
Хлопко руками повел:
– Как товарищи.
– А ежли на окрайну потянут?
– Будь по-ихнему, однако в сытном краю не засижусь. Перебуду малость и с ватагой сызнова к Москве двинусь. – И притопнул лаптем. – Гулять, Артамошка, так не по-малому, вона сколь люда обиженного. Есть с кем нагнать страху на бояр. Сбудется и наш час.
– Ай да мужик! – воскликнул Артамон. – Пойду за тобой, куда покличешь!
* * *
На Покров припорошил землю первый снег, но продержался недолго. Днем отпустило, растаяло, и до конца октября тепло не уступало морозам.
Улетели последние журавли, потянулись клином в дальние южные края, где никогда не бывает холодов и, по рассказам купцов из тех земель, приезжавших в Москву до моровых лет, всегда греет солнце и зеленеют деревья, а крестьяне убирают урожай дважды в год.
Демид слышал об этих странах, но представить, какие они, не мог. Да и как это умом понять, когда все время лето, лето…
Чудно! Без зимы, без трескучих морозов живут люди. И неинтересно. Вот как назябнешься за зиму – весеннему дню, как дите малое, радуешься.
После Покрова Демид нарубил дров, сложил поленницу. В лесу, подступавшем к самой Москве, по сырым местам собрал мха, законопатил щели в избе. Не будет студено. Голодному мороз вдвойне опасен, Демид это знал. Зимой бездомный люд и моровой боится, и холода…
Вспоминал кузнец Артамошку. Хоть и мало пожил у него, но Демид привык к нему. Куда ушел? Переждал бы до весны. Так нет, потянуло доли своей поискать.
Чтоб руки по делу не скучали, хоть и работы нет, Демид кузницу открыл, горна не разжигая, по наковальне стукнул раз-другой молотком, прислушался. Нет, не веселый звон. На душе горько, и в животе пусто…
К ноябрю-грудню повалили снега, огородили Москву сугробами, завьюжило буранами, замело дороги. В прежние лета ноябрь на Москве шумел большим торгом. Со всех слобод и посадов сходился люд. Ремесленных дел умельцы и купцы всяк своим товаром похвалялись. Но на вторую моровую зиму вконец захирел торг. Не приехали в Москву иноземные гости. По голодной стране от разбойного люда и государева охрана не спасенье. Да и откуда быть безопасности, когда первые разбойники – бояре со своей челядью. Ограбят купеческий караван – и ищи на них управу.
В воскресный день вышел Демид на Лубянскую площадь. Лавки купцов почти все закрыты; не кричат, зазывая покупателя, бойкие торговки, не шумит, не кружит люд по торговым рядам.
Положил кузнец на утоптанный снег свои изделия, замки да дверные навесы, простоял до полудня, никто и не спросил. Лишь один мужик, опухший, кожа на синих руках потрескалась, задержался возле Демидова товара, горько посетовал:
– Зря ты, кузнец, старался, чего замыкать?
Демиду и самому это известно, да охота продать. Собрал кузнец замки, побрел домой.
* * *
Громоздкие крытые сани въехали в распахнутые настежь ворота, остановились у высокого резного крыльца. Проворный холоп выскочил навстречу, отворил дверцу, откинул меховую полость. Князь Василий Васильевич Голицын, кряхтя, выбрался на утоптанный снег, размял затекшие ноги.
Князю под сорок. Сухопарый, нос крючковатый, бородка в первой седине. Из-под бровей зыркнул по подворью Шуйского. Неистовствуют на цепи псы, снует челядь. От поварни к дому и от дому к конюшням и амбарам снег отброшен.
На ступеньках Голицын не задержался. В темных сенях пристукнул нога об ногу, оббил валенки, переступил через порог в хоромы:
– Дома ль князь?
– Тута. – Холоп придурковато осклабился.
Помог ему снять шубу, принял высокую соболью шапку.
Голицын ударил его по лбу скрюченным пальцем:
– Чего скалишься? – И пошел в горницу.
А Шуйский уже спешил к нему из горницы. Руки раскинул, приговаривает:
– Уважил, князь Василь Василич, зело уважил, почтил.
– Мимо едучи, князь Василий Иванович, заглянул… Кобели у тебя лютые, опасался из саней вылезать.
– Э-э! – отмахнулся Шуйский. – Брешут, и не боле. Ноне тати в амбар забрались, ни одна не тявкнула.
– Видать, не чужие, свои шалили.
– Тако же и я мыслю, князь Василь Василич. Однако сколь ни пытал сторожа и воротного, молчат.
– Под батогами признаются.
– Да уж как бил! Воротный и поныне не поднимается, а сторожа насмерть засекли.
– Упрямцы.
– Истинно так.
Сели рядышком на лавку. Шуйский ладони на колени положил, выжидает, о чем гость речь поведет. А тот бороденку теребит, покашливает. Наконец вымолвил:
– Холопий бунт вовсю разыгрался, князь Василий Иванович. Тати пешими и конными ватагами разбои чинят.
– За грехи наши, князь Василь Василич, зело карает нас Всевышний. – Шуйский подкатил глаза под лоб, вздохнул.
– Бог-то Бог, князь Василий Иванович, да плох наш царь Борис. Эвона, когда слух о разбойниках Москвы достиг, надобно было стрельцов слать, войско, чтоб татей с самого начала давить. Ан нет, упустили. Ныне разбойники вотчины жгут, воевод да бояр казнят.
Голицын замолчал. Шуйский глазки потер, кивнул согласно:
– Верные слова твои. Коли б у нас царь как царь был, а то так, боярин худородный. Одначе ловок. Басманов Петр с товарищами вокруг Годуновых увиваются. Всяк норовит перед Борисом выслужиться. – И неожиданно речь круто повернул: – При какой надобности ты меня, князь Василь Василич, видывать пожелал, уж не поплакаться ль?
– И о том не со всяким, – сказал Голицын. – Устал я под Бориской хаживать.
– Ты ль один, – проговорил скорбно Шуйский. – Все мы, именитые да родовитые, страдаем. Вена боярин Федор Никитич Романов и от имени своего отлучен, иноком Филаретом в Антониево-Сийском монастыре проживает. А Бельский с Черкасским?
– Истину глаголешь, князь Василий Иванович.
– Припугнуть бы Годуновых. Зело вознеслись не по чину.
– Ахти, – встрепенулся Голицын, – ужли и тебе отписал чего Романов?
– О чем ты? – поднял брови Шуйский.
– Да уж так.
– Не егози, князь Василь Василич. Ляпнул аз, говори и буки. Меня ль таишься?
– Спаси Бог, по краю ходим, как бы не сорваться. – И наклонился к Шуйскому, зашептал: – Намедни получил я с верным человеком письмо из Антониево-Сийского монастыря от инока Филарета. Отписывает он, чтоб мы на самозванца расчет держали.
– Зело мудр Филарет. Поди, не запамятовал ты, князь Василь Василич, как позапрошлым летом прокатилась молвишка о живом царевиче Димитрии?
– Как забыл? Помню. Тогда весь род годуновский в трясучке било. Да молва та стихла. – Голицын задышал в самое ухо Шуйскому. – Инок Филарет меж строк упоминает, есть-де на примете у него человек, обличьем истинный царевич Димитрий. – И Голицын сам пугается сказанного, крестится. – Свят, свят! Избави, услышит кто!
– Не бойсь, князь Василь Василич, – успокаивает его Шуйский. – Чать, вдвоем мы, чего опасаешься. Не станешь же сам на себя поклеп возводить?
Голицын помолчал недолго, потом спросил:
– Ты, князь Василий Иванович, дознание в Угличе вел и ответствуй по чести, веришь ли, что царевич Димитрий сам по себе, играя в тычку, на нож напоролся? А, вот оно! Не знаешь, как и сказывать. Может, и верны слухи, что по Годунову наущению зарезали Димитрия?
Голицын прищурился. Шуйский глазки ладошкой прикрыл, качнул головой:
– Один Бог ведает, князь Василь Василич, как то случилось. Но показания мои, царю Федору даденные, не по душе, а по принуждению были. Годунов надо мной тяготел, сам знаешь.
– Знаю! Одначе боюсь замысленного Романовым. А тут ты, князь Шуйский, с иноком Филаретом в одну дуду.
– Зело боязно, сказываешь? А коли нас Годунов поодиночке под корень срубит?
– Это верно, – согласился Голицын.
– Помысли, князь Василь Василич, что станется, когда возродим мы слушок: «Жив-де царевич Димитрий. Незаконно Борис царствует…» Годунов не на троне, на угольях сидеть будет.
– Кто примет на себя имя царевича? – вперился в Шуйского Голицын.
Тот усмехнулся.
– Не таи, князь Василь Василич, на кого указал Романов?
– Откроюсь, князь Василий Иванович. Видел я того, кого хотим наречь царевичем Димитрием… Лета четыре назад у князя Черкасского на пиру приметил. Ни лицом, ни осанкой, ничем он не вышел, но ума ясного и обличьем ни дать ни взять покойный царевич Димитрий. Спросил я у Ивана Борисовича, кто такой сей человек, он и ответствовал: «Мой служилый дворянин именем Гришка Отрепьев. Ране он у Романовых служил…»
Голицын встал.
– Ну, князь Василий Иванович, пора и честь знать, засиделся я у тебя.
Шуйский проводил гостя до саней, дождался, пока тот выехал со двора, вернулся в хоромы довольный. «Не возрадуется Бориска слуху о живом царевиче. А поди разузнай, от какого впервой слово о Димитрии выпущено, откуда молва выпорхнула. Коли же начнет она гулять, то вовек не остановить ее. Из Москвы по всей земле русской покатится…» И Шуйский потер ладони.
* * *
Еще и за половину зимы не перевалило, к голоду холера примешалась. Одна беда в одиночку не ходит.
По Москве молва страшная, люди людей едят.
У Демида вторую неделю в избе пусто. Крышу и ту до дыр оголил. Солому на пыль перетирал, пек лепешки. Живот пучило, криком кричал. Отощал кузнец, из стороны в сторону его качает, ноги не держат, в глазах темень.
На Крещение не выдержал, пошел к князю Шуйскому. Идти всего через дорогу, но Демиду путь дальним кажется. Холод в рваную шубейку лезет, по коже продирает. Кузнец одной рукой полы шубейки придерживает, другой заячью шапку…
Время к вечеру, и мороз забирает. А в хоромах Шуйского будто и зимы не было. Пообедал князь Василий Иванович, от сытной еды разморило. Отвалился от стола, лег на лавку. Прислушался. За резными оконцами вьюга выла, бесилась, а в печах огонь гудел, весело стреляли березовые дрова.
Зевнул князь Василий, перекрестил рот. В горницу заглянул холоп.
– Че те?
Холоп ухмыльнулся:
– Демидка-кузнец просится.
Шуйский поморщился:
– Впусти!
Демид едва порог переступил, шапку под мышку, поклон отвесил:
– Смилуйся, князь Василий Иванович, одолжи мучицы до новины, отработаю.
Говорил кузнец, а у самого от духмяных хлебов и иных съестных запахов, какие по княжьим хоромам плавали, голова шла кругом.
– Мне бы до весны дотянуть, князь Василий Иванович…
Приподнялся Шуйский.
– Ты, Демидка, ненароком умом не тронулся? Нет у меня муки! И с какой стати давать? Коли начну я каждому нищему благодеяние оказывать, сам с сумой пойду. Нет уж!
И позвал холопа. Тот в дверь влетел – глаза собачьи, ждет, зачем покликал.
– Укажи Демиду ворота! – махнул рукой Шуйский и снова улегся на лавку.
Обидно стало Демиду. Вышел на улицу, постоял. Слышал, как за спиной воротный захлопнул калитку. Загремел запором. Сделал Демид шаг, другой. Налетел ветер, порывистый, сильный, толкнул кузнеца. Не устоял он, качнулся, упал. В голове звон, будто кто молотом по наковальне бьет. Попытался Демид подняться, сил нет. Шапка с головы скатилась, погнал ее ветер вдоль улицы. Во рту у кузнеца жар. Хватил губами снег, пожевал.
А метель выла, мела, но Демиду совсем не было холодно. Казалось ему, что он в теплой избе и горит огонь в печи. Есть кузнецу совсем неохота. Закрыл Демид глаза, забылся. Так, не приходя в себя, и смерть принял.
Глава 2
В дворцовых покоях. Немецкая слобода. И под Москвой неспокойно от разбоев. В Антониево-Сийском монастыре. Купец Витт плывет в Ганзу. Государевы тревоги. Витт едет в Краков. О чем писал Голицын Сапеге.
Еще укрывали землю снега и держались ночами морозы, а князь Шуйский начал готовиться к весне. Послал за кузнецом Демидом, надобность появилась возок оковать. Холоп смотался мигом, сообщил, в избе у кузнеца один ветер гуляет, а сосед сказывает, исчез Демидка с самого Крещенья.
Шуйский крякнул, потер затылок:
– Коли б внял я его речам да дал муки, с кого нынче спрос? – И тут же велел сыскать другого кузнеца.
А весна наступила дружная. Враз сошли снега, оголилась, запаровала земля. Закончилась вторая голодная зима. Люди радовались весне. Она несла с собой жизнь, надежду. Стаявшие сугробы нередко открывали окоченевших. Сколь пролежали они под снегом?
Уличанские старосты выгоняли народ на расчистку улиц. Стрелецкие команды по указке приставов жгли пустые избы, огнем выжигали холеру.
С первыми теплыми дождями зазеленело все. Лопнули, раскрылись клейкие почки на деревьях, обнажили нежную листву.
Крестьяне ворочались в деревни; бояре разыскивали беглых, жаловались на мелкопоместных дворян, что те в голодные годы приняли к себе их холопов. Судились. В Холопьем приказе не успевали разбирать боярские и дворянские жалобы.
Монастыри и бояре давали крестьянам зерно с половины будущего крестьянского урожая.
Ощетинилась земля яровыми всходами, радовала душу.
Из жарких стран прилетели птицы. Обсядут деревья, гомонят. Веселым свистом заливаются по утрам скворцы.
Удивлялся народ: в прошлые моровые года птица в городе была редким гостем. Говорили: «Птица – тварь Божья, она чует, настал конец голодным дням…»
Оживали ремесленные слободы, брались за ремесла мастеровые.
* * *
Пустынно в дворцовых покоях. Каменные хоромы, возведенные год назад, еще пахли свежим тесом. Узорчатые оконца с цветными италийскими стеклами играли весенними лучами солнца, переливались на побеленных стенах.
На резном, отделанном драгоценными каменьями кресле сидит царь Борис. Из-под длинного, шитого серебром кафтана выглядывали зеленого сафьяна остроносые сапоги. Черные, тронутые сединой волосы прикрывала отороченная соболем круглая шапка.
Лицо Бориса задумчиво. Нелегко ему на царстве, но в этом Годунов даже себе не желал признаться. Мечты стать государем зародились у него много лет назад, еще при жизни Федора.
Нынче уже на пятый год перевалило, как избрали его, Бориса, государем, да, видно, в несчастливый час. Не успели венчать на царство, как разнесся слух, что крымский хан Казы-Гирей на Москву орду направил. Пришлось Годунову с воинством под Серпуховом заслоном стать. Слава Богу, все миром обошлось…
Попервоначалу немало тревог Польша с Швецией причиняли. Опасался, коль объединятся они да сообща двинутся на Русь, не оберешься беды. К счастью, между королем польским Сигизмундом и шведским Карлом вражда лютая. Ляхи и шведы поочередно у Руси союза искали. Прислал Сигизмунд в Москву свое посольство, но Борису посол Речи Посполитой литовский канцлер Лев Сапега не по душе показался – и заносчив и велеречив. Когда Годунов его принимал, то канцлер ему хоть и выказывал честь, да не очень. А на сына, царевича Федора, сидевшего на троне рядом с Борисом, Сапега и не глянул. В отместку Годунов на вторую встречу с послом польским не явился, сказался больным, а переговоры сыну поручил.
Сапега на переговорах вел себя предерзко, требовал вернуть Речи Посполитой земли смоленские и северские.
Борис задержал канцлера в Москве, пока не приехали послы короля шведского. Но и с теми не урядились. Лев Сапега покинул Россию, затаив обиду на Годунова.
Опираясь на высокий, украшенный золотом посох, Борис грузно поднялся, покинул палату. Брел по хоромам медленно, не переставая думать.
На Руси лета голодные и мор. Разбои повсеместно. Особенно в землях Северской украйны. В курских землях в прошлые лета хлеба уродились, и туда холопы отовсюду сбежались. Весна настала, может, этот год хлебным будет, и тогда на холопов узду накинуть удастся. Холопьему приказу надобно велеть в розыске беглых не тянуть…
Одни заботы сменялись другими. Но паче всего тревожили Бориса козни боярские. Знал, многие бояре недовольны его избранием, хоть и виду не кажут, затаились. Тлела их злоба, аки головешки в пригашенном костре: стоит дунуть ветру, и полыхнут огнем.
Сказывали, канцлер Сапега в бытность в Москве тайно встречался с такими боярами. О чем у них речи были, Годунов догадывается. На страх злоумышленникам боярам Годунов щедро одаривал ту челядь, какая доносила на своих господ. Не раз сожалел, что царь Иван Васильевич Грозный со своей опричниной не извел до конца древние княжеские и боярские роды, остались корни…
У двери книжной хоромины, именуемой непривычным нерусским словом библиотека, Борис задержался. Знал: там Федор. Все дни проводит он в книжной хоромине, читает.
При мысли о сыне лицо посветлело. Прилежен Федор к наукам.
Осторожно открыв дверь, Борис переступил порог. Вдоль стен кованые сундуки с рукописями, драгоценными книгами, пергаментными свитками. Федор стоял к отцу боком, чуть склонившись над высоким одноногим столиком. Увлекшись чтением, он не слышал, как скрипнула дверь. Годунов залюбовался сыном. Русый, с первой кудрявой бородкой, он обличье взял скуратовское. Вон как брови насупливает, и нос дедовский, ястребиный. Только ростом уступает Скуратовым.
Федор поднял глаза, увидел отца, обрадовался.
– Не помешал я тебе, сын?
– Книга интересная, отец. Древний историк пишет о древнем народе скифов, какие на нашей земле в незапамятные годы обитали.
– Не довелось испытать мне грамоте сполна, сыне. Ты же, Федор, познавай премудрость книжную, ибо без наук государством править нелегко.
– Замыслил я карту написать, чтоб были на ней земли, какие есть на свете, и народы, на них проживающие. А наипаче всего – рубежи Московии.
Положив руку Федору на плечо, Борис сказал:
– Не буду мешать тебе.
Тихо, как и вошел, удалился.
* * *
Разрослась Немецкая слобода, и даже мор ее не коснулся. Сытно живут в слободе, не ведают голода. Иноземцы – народ запасливый, у каждого в подвалах наготовлено впрок не на один год. А ко всему они царской милостью не обойдены.
Еще при царе Иване Васильевиче Грозном начали селиться на Москве иноземцы. По триста и более рублей получали они от государя на обзаведение, да к тому же от тягла освобождение имели, а купцы еще и от пошлины.
А при Борисе заявились в Москву немцы, и каждого царь самолично обласкал, жалованье назначил и поместья дал. Возвеличил Годунов иноземцев. И живет Немецкая слобода своей, особой, загадочной для русского человека жизнью. Сюда московскому люду и ходить запрет. Немецкие ратники рогатинами дороги перекрыли, если кого и пропустят, так это боярина либо иного государева человека.
На окрайне слободы подворье немца Витта. Четыре года, как поселился он в России. Торг ведет с ганзейскими городами широко, московский рынок ему беспошлинный.
Дом у Витта хоть и невеликий, но кирпичный, с тесовым крыльцом, под окнами кусты сирени. Деревья на немецкий манер сажены, под шнурок. Конюшне и амбарам место за домом отведено. Везде чистота и ухоженность. Даже трава и та на подворье у Витта растет только там, где ей положено.
К вечеру проехал через слободу громоздкий возок князя Голицына. Чуть раздвинув шторки, князь Василий Васильевич пасмурно рассматривал ровный ряд домиков. Они стояли окнами на улицу, похожие, как братья-близнецы. Сравнивая их с курными избами посадского люда и домишками русских мастеровых, Голицын бубнил:
– Немец и есть немец.
И тут же под нос ругал Годунова, что ублажает иноземцев:
– Эко, заставить бы их платить тягло да за торг в казну отчислять, как наши купцы дают, поглядел бы я тогда на немчуру…
У домика Витта возок остановился. На подоконниках открытых окон герань в глиняных горшочках. Мелькнуло дебелое лицо хозяйки и скрылось. Вскорости из домика выскочил сам хозяин, толстый, лысый. Переваливаясь на кривых ногах, торопливо проковылял к возку, поклонился князю. Голицын дверку приоткрыл, промолвил негромко:
– Я, Франц, к тебе по делу. Наслышан, ты в Ганзею собираешься с торгом.
Немец головой затряс:
– О, я, я!
– Погоди, дай до конца сказать, – недовольно поморщился Голицын. – Ты попервах дослушай. Через Литву будет твоя дорога, верно? Заверни к канцлеру Сапеге. Да не пугайся, – князь сердито сплюнул, заметив, как побледнел купец. – Мне сам Лев Сапега указал, чтобы через тебя с ним сносился. Вот, держи. – Голицын протянул немцу засургученный пакет. – Письмо передашь канцлеру лично. Да смотри, важный секрет в нем. Прознает кто, спрос в пыточной.
Витт торопливо сунул пакет за полу кафтана, низко поклонился. Голицын достал из кафтана кожаный мешочек:
– Это тебе, Франц, за службу.
Купец низко поклонился. Князь ответил небрежным кивком, и возок мягко тронулся.
* * *
По весне холопьи бунты вспыхнули с новой силой. Толпы мужиков, вооруженные пиками и рогатинами, саблями и топорами, наводили страх на бояр и дворян.
Холопий бунт охватил земли Курскую и Белгородскую, Путивльскую и другие волости. Холопов ловили, заковывали в цепи, гноили в ямах, пороли и вешали. Но Объявлялись новые ватаги, они размножались, как грибы после теплых осенних дождей.
В Москве о холопьих бунтах говорили не таясь.
Боярская дума порешила послать в те места воевод, дабы они разбои усмиряли. А в города Владимир и Волоколамск, Вязьму и Медынь, Ржев и Коломну поехали воеводами верные Годунову князья и бояре. Князю Дмитрию Васильевичу Туренину в Можайске указали сидеть. У князя сборы недолгие, да и Борис торопил. В неделю изготовился. Выехали – еще ночь не сошла. Княжий поезд, возов в двадцать, проскрипел по улицам Москвы, выбрался на Можайскую дорогу. Сонная челядь досыпала на возах, а человек тридцать конных служилых в кольчугах и при оружии кучковались позади княжьей колымаги. Князь Дмитрий, маленький, сухонький, мирно дремал на мягких подушках. Дорога тянулась полями, убегала в луга и снова полями вилась в лес.
Приоткрыв один глаз, Туренин выглянул из колымаги. До рассвета уже недалеко. Вон и звезды начинают меркнуть. По низине туман потянулся. Сыро и зябко. Князь Дмитрий поежился, зевнул. Перед самым отъездом говорил Годунов Туренину: «Лютой смертью казни разбойников, не щади. Холопов в страхе держать надобно…»
Князь Дмитрий согласен с Борисом. Холоп есть холоп!
Дорога запетляла по лесу. Тихо. Иногда срывалась с дерева птица, и снова замирал лес. Жалобно скрипели колеса, фыркали кони, перекликались ездовые. Князь Дмитрий дремал, клонил бороду на грудь. Царапают ветки колымагу, хрустит валежник под копытами. Лесная дорога узкая, колеса, того и гляди, на пенек наедут. Днем хоть видно, а впотьмах коней не погонишь, плетутся едва.







