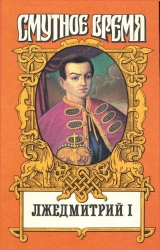
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
К полудню туман рассеялся, и открылась зеленая даль с островками леса, не то что в России, без начала и конца, дремучие, вековые.
Иногда экипаж гремел колесами по мощенным булыжником мостовым, останавливался ненадолго в маленьких городишках и снова трогался. В одной из деревень вылезли обе старухи с корзинами, так и не проронив ни слова ни купцу, ни епископу.
Всю дорогу Витт выглядывал в окошко и радовался. Пятый год настал, как перебрался купец из Германии в Московию, и когда доводилось ему по торговым делам приезжать на родину, то дальше Любека и Гамбурга не бывал.
Витт жил в Московии, и там, в Немецкой слободе, у него жена, домик, однако Русь он не любил. Если бы не нужда, разве переселился бы Франц? В России московские цари иноземным купцам разрешили вести торг беспошлинно, щедро одаривали деньгами. Витт приехал в Россию нищим, с пустым кошелем, а теперь торг ведет широко. А все началось с тех четырехсот серебряных рублей, какие выделил Францу на обзаведение царь Борис…
Епископ кашлянул. Купец повернул голову. Перебирая янтарные четки, епископ из-под нависших бровей пристально разглядывал Франца.
– Господин едет в Берлин? – спросил епископ.
– Нет, преподобный отец, я купец, добираюсь в Краков.
– О-о! В таком случае по пути, – сказал епископ. – Будем коротать время вдвоем, если дорогой к нам никто не подсядет.
Наклонившись, епископ вытащил из-под ног маленькую корзиночку, достал лепешку, кусок жареной говядины и, накрыв колени сальфеткой, разложил еду.
– Отведаем, что Бог послал.
Витт тоже развернул сверток с провизией и, разломив курицу пополам, протянул епископу.
Ели не спеша, запивая кислым вином из глиняного кувшина. Наконец вытерли руки. Епископ сказал:
– Я епископ Рангони, легат [18]18
Уполномоченный римского папы.
[Закрыть]папы при польском короле Сигизмунде. А достопочтенный купец живет в Гамбурге?
– Нет, преподобный отец, я живу в Московии.
– О-о! – Губы епископа сложились трубочкой, и в маленьких настороженных глазках блеснуло любопытство, – Уж не сменил ли достопочтенный купец вместе с отечеством и истинную веру на веру московитов?
– Нет, преподобный отец, русы иноземцев к своей вере не неволят.
– Говорят, Россия дикая страна и по улицам ее городов бродят медведи.
Витт усмехнулся:
– Преподобный отец, зачем в Московии медведям жить в городах, когда для того есть леса? А те русы, какие водят медведей по городам, – так это для забавы.
Перевел разговор, спросил:
– Преподобный отец францисканец? [19]19
Католический орден.
[Закрыть]
Епископ обидчиво фыркнул:
– Меня зовут Игнатием в честь Игнатия Лойолы. Настоящий католик должен помнить, имя это носил тот, кто шестьдесят лет назад основал орден иезуитов [20]20
Воинствующий католический орден, главное орудие папства. Девиз иезуитов: «Цель оправдывает средства», шпионаж, тайные убийства, вмешательство в дела других государств – методы деятельности ордена иезуитов во благо католической церкви.
[Закрыть]. Я принадлежу к нему, его слуга, его воин! – Епископ вскинул руку, указал пальцем вверх. Узкий рукав сутаны перехватил у запястья розовую мясистую руку.
Франц оторопел. Он хорошо наслышан об иезуитах. У ордена большие уши и длинные руки. «Уж не подослан ли ко мне этот епископ Игнатий?» – подумал испуганно купец и тут же постарался успокоить себя: он говорил, что легат папы при польском короле…
Спросил вслух:
– Преподобный отец тоже из Гамбурга?
– Нет, я приехал сюда из Ватикана и отныне стану жить в Кракове.
Витт склонил голову. Епископ чуть подался к нему, сказал вкрадчиво:
– Достопочтенный купец расскажет, как живет царь московитов и есть ли у него враги? Правда ли, что в Московии голод и мор, а от того разбои великие?
Глаза епископа Игнатия буравят Франца, а речь тихая, льется елеем.
– Когда я покидал Русь, преподобный отец, то слышал, будто душевным недугом страдает царь Борис. Есть подле него князья и бояре, им недовольные, и хотя царь Борис таких в темницу бросает и в монастыри ссылает, но крамольников не унял. А еще слухи ходили, царевич Димитрий жив.
– О-о! Это интересно! И от кого слышал купец о царевиче Димитрии?
– По Москве такие разговоры велись, да ныне вот уже два лета как унялись. Что же до разбойного люда, то в России его множество.
– А все за грехи московитов. Не по вере Христовой живут. В вере католической их спасение!
Епископ молитвенно сложил руки на груди:
– Амен!
– Амен! – повторил Витт и тайком от епископа провел ладонью по защитному письму.
* * *
Краснощекий, усатый канцлер Сапега вдругорядь перечитывал письмо князя Голицына. Францем Виттом канцлер ответно передал для Голицына всего одно слово: «Ждем!..» Князю Василию с друзьями этого достаточно. За ним кроется многое…
«Канцлеру литовскому Сапеге Льву, сыну Иванову, – приглаживая пышные, но уже седые усы, читал Сапега. – Пишет тебе князь Василий, сын Василия. Как был ты у нас на Москве с посольством, то помнишь нелюбезность к твоей милости царя Бориса и всех Годуновых. И мы с тобой ту обиду разделяли».
Сапега нахмурился. Нет, он не забыл, как бесчестил его Годунов.
«…Говаривал ты, – читал дальше Сапега, – что царь Борис разве царь! А мы таковое от тебя слыхивали и поддакивали. Но в ту пору мы тебе не открывались в своей тайне. Молва о ней ходила, но истину знали немногие. Жив царевич Димитрий. Сохранил его Господь для Руси. Многие лета под великим страхом укрывали его верные люди. Под чужим именем живя, терпел он нужду и унижения. В Угличе же зарезали не царевича, а другого отрока. Годуновых обманули, сказав, что Димитрий убит. Кабы Борис знал о том, он бы подослал к царевичу новых убийц. Годунов на царский трон давно сесть вознамерился и потому на Димитрия нож точил.
Теперь, князь Лев Иванович, настал час кланяться королю польскому, ибо дале укрывать на Руси царевича нет мочи. Борисовы слуги кровожадны, сыскать могут и живота лишить.
Кланяемся мы тебе, канцлер, коли будет твоя ласка и явится к тебе наш законный государь, прими его, определи к верным людям, пусть живет до поры под тем именем, с каким жил доныне. А когда настанет час, объявится сыном царя Ивана Васильевича Грозного…»
Прищурился канцлер Сапега. В хитрых глазах огоньки лукавые, на губах усмешка. В живого Димитрия он не верил, но раз русские князья замыслили выпустить на Годунова кровавый призрак царевича, он, Сапега, не против. Ко всему, если вспыхнет на Руси смута, Польше и Литве это на руку.
Глава 3
Инок Григорий. «Не Отрепьев ты, а царевич Димитрий». У патриарха Иова. Отрепьев уходит за рубеж. «Подтверди, князь Шуйский». У канцлера Сапеги. В корчме. «Не посадим ли на царство худородного?» Болезнь государева.
А в Чудовом монастыре, в келье, что рядом с кельей архимандрита Пафнутия, два года назад поселился невысокий, слегка припадавший на одну ногу молодой монах Григорий Отрепьев. Хромота у него сызмальства, сам не ведает, отчего приключилась. Уродство невелико, а все ж изъян заметен.
Молод Отрепьев, за двадцатое лето перевалило. Жизнь у него колготная. До иночества довелось ему послужить Романовым и Черкасским, а как царь Борис на них опалу положил да в монастыри силком сослал и их служилых дворян карать принялся, бежал Отрепьев. Видели его в Суздальском и Галичском монастырях, оттуда перебрался в Чудовскую обитель.
Род Отрепьевых из Литвы. А когда на Русь переехали, то дали им во владение небольшое поместье. Служили дворяне Отрепьевы великим князьям московским, и дед Григория, и отец, и дядька Смирной-Отрепьев…
Стрелецкого сотника Богдана, Григорьева отца, зарезал в Немецкой слободе хмельной литвин, а потому пришлось Отрепьеву с детских лет хлебнуть лиха. Сначала жил он с матерью, а как подрос, она отдала его родственникам.
Сызмальства пристрастился Григорий к чтению, а от дьяка Семена Ефимьева, родственника по матери, в совершенстве познал книжную и писчую премудрость. Не раз говаривал ему дьяк: «Шел бы ты по писчей службе, вишь, как буквицы выводишь, загляденье…»
За умение писать грамотно и красиво архимандрит Пафнутий приблизил к себе молодого монаха. Случалось, при надобности посылали Григория в переписчики к самому патриарху Иову.
Долгими вечерами зазовет, бывало, архимандрит в свою келью инока Григория и поучает. Смиренно слушал он Пафнутия, и его цепкая память впитывала многое.
Еще ранее, до Чудова монастыря, скитаясь по суздальским и галичским землям, познал Отрепьев литовский и греческий языки, слушал речи лучших проповедников и перенял у них красоту слова. Все давалось Григорию легко. Кому на науки годы требовались, а ему одного-двух месяцев хватало. Способен был монах Григорий Отрепьев и смекалист.
* * *
Варлаам давно уже расстался с Боровским монастырем и пустился бродить по русской земле. В Москве Варлаам находил приют на подворье князя Голицына. И не потому, что тот любил инока. Варлаам тайно носил князевы письма в Малмыж к Ивану Борисычу Черкасскому да в Антониево-Сийский монастырь к Федору Никитичу Романову, а от них в Москву, Голицыну.
На второй день Великого поста [21]21
Длился семь недель перед Пасхой.
[Закрыть]призвал его князь Василий и велел сыскать и доставить к нему из Чудова монастыря монаха Григория Отрепьева.
Варлааму дважды не повторять, зипун поверх власяницы накинул и – готов. Благо от голицынского подворья до Кремля рукой подать.
В Чудову обитель явился к концу заутрени. Постоял в церквушке, отвесил с десяток поклонов и, как бы невзначай, чтобы не вызвать любопытства, спросил у стоявшего рядом монаха:
– А укажи-ка, брат, на инока Григория.
Монах вытянул по-гусиному шею, обвел взглядом церквушку:
– Вона он, у клироса.
Варлаам бочком, бочком приблизился к Отрепьеву, шепнул:
– После заутрени ждет тебя князь Голицын.
Григорий лишь брови поднял на долговязого монаха.
Едва отстояв утреню, Отрепьев отправился на Арбат. Голицынское подворье ему известно. Еще в службе у Романовых и Черкасских наезжал сюда.
Воротный мужик, детина крепкий, инока не задержал, пропустил в хоромы. В передней колченогий дворский остановил Отрепьева:
– Жди.
Григорий едва на скамью присел, ноги вытянул, как дворский поманил:
– Ходь за мной!
Князь Василий Васильевич ждал инока в опочивальне. Махнул дворскому:
– Поди прочь!
И, подхватив монаха под руку, усадил на лавку, сам примостился сбоку, Григорию к удивлению. Ранее, на службе у Романовых и Черкасских, Отрепьева дальше сеней не пускали, а теперь вона как его князь Василий обхаживает, в глаза заглядывает.
А князь, покашляв в кулак, вдруг сморщился, потер глаза, слезу выдавливая:
– Тайну держу я в себе великую, инок. Не многим она известна. Доле не желаю держать ее. Опасаюсь, умру и с собой унесу. Вот уже боле ашнадцати лет я, да Романовы с Черкасским, и князь Василий Иванович Шуйский храним ее.
Голосок у Голицына дрожащий, тихонький.
– Не простой ты инок, а урожденный сын царя Ивана Васильевича Грозного. И не Григорий имя твое, а Димитрий. Царевич еси ты…
Помутился разум Отрепьева, как сквозь сон, слышал он слова князя.
– И мы, твои верные людишки, тебя от Борисовых лиходеев уберегали, а замест тебя в Угличе подставили иного младенца.
Посморкался князь Василий в платочек, вздохнул:
– Ты прости нас, царевич Димитрий, не по нашей вине довелось тебе горе мыкать, под чужим именем укрываться. А допрежь мы тебе не объявлялись, опасаясь, как бы ты по молодости не выдал себя слугам Годунова. Нынче ты в разум вошел, и время приспело поведать тебе имя твое.
Хитро плетет сети Голицын, не спускает с Отрепьева глаз. Увидел, поверил ему инок. Продолжал:
– А отныне ты, царевич Димитрий, свое доподлинное имя держи в тайне, ибо тебя годуновские слуги ищут повсеместно. Бежать тебе надобно за рубеж, так все мы решили. Там укроешься, а как сбудется час, на Русь явишься и сядешь на престол родительский…
В Кракове на дружбу с канцлером Львом Сапегой полагайся. Он о тебе все доподлинно знает и укажет, у каких людей жить будешь до поры. С тобой инок Варлаам пойдет. Он тебе, царевич, дорогу укажет и в пути заместо пса верного будет.
* * *
Уверовал ли Григорий Отрепьев в истинность своего царского происхождения или, приняв имя Димитрия, искусно сыграл роль царевича, кто знает…
Что во хмелю, покинул он голицынские хоромы. Не помнил, как до кельи добрался. Едва порог переступил, упал на ложе. Вся прошлая жизнь подобно рваным облакам мельтешила перед ним, все виделось теперь по-иному. И как дьяк Семен Ефимьев с любовью наукам обучал, и как Смирной-Отрепьев приобщал к ратному делу… Отчего бы? Верно, неспроста. Знали, ох знали они, что царевич он… А как архимандрит Пафнутий благоволит к нему! Небось других в свою келью не пускал, а с ним беседы вел… Пойти к архимандриту спросить, кто есть он – инок Григорий аль царевич Димитрий и его мать Мария в Выксинский монастырь Борисом Годуновым сослана?
Григорий приподнялся и снова лег.
…Нет! Вдруг да взъярится архимандрит, покличет монахов, и кинут Григория в яму… Надобно поступать, как велит князь Василий. Бежать в Литву, Польшу! Спасаться, пока не дознались о нем годуновские приставы. Нынче изготовиться, а завтра прощай, Чудов монастырь и иноческая жизнь…
* * *
А по Москве слух пополз: в Чудовом монастыре инок Григорий Отрепьев не кто иной, как царевич Димитрий! По базарам и церквам, по избам и хоромам шепчутся:
– Вот ужо настанет Божья кара Борису-то. Сторицей заплатит он за кровь невинного младенца…
– В Угличе-то убили не Димитрия, иного!
– Вот те раз! Вестимо ли, при живом царевиче Годунов обманом на царство уселся! Не иначе оттого прогневался Господь и моровую ниспослал на русскую землю…
Те речи слышали царские ярыжки [22]22
Так именовались низшие полицейские служители.
[Закрыть], и они донесли приставам. Вскорости все стало известно Борису Годунову.
Разгневался он. Пустозвонство зловредное! А на душе муторно, сердце-вещун беспокоится.
Несмотря на поздний час, Годунов накинул на плечи подбитую горностаем шубу, отправился к патриарху Иову. Тот уже спал. Монах-черноризец разбудил патриарха, помог облачиться в тонкую, заморского шелка рясу. Вышел Иов к государю, уселись в низкие, сделанные без единого гвоздя креслица, помолчали. Первым, откашлявшись в кулак, заговорил Годунов:
– Ведаешь ли, отче, зачем потревожил в ночь?
– Зрю великую печаль на твоем челе, государь. – Иов склонил голову на плечо, поджал и без того тонкие губы.
– Отче, аль не донесся до тебя слух? – Годунов насупил брови.
– О каком слухе речь ведешь, сыне? Уж не о самозванце ли Димитрии?
– Ужли, отче, тебя не волнуют сии слухи? – Борисовы брови взметнулись удивленно.
Иов ответил спокойно:
– Государю не подобает всякие злоязыческие речи воспринимать близко к сердцу. Я же того инока Гришку Отрепьева велел в яму кинуть и суровой смерти предать, да он, окаянный, успел в бега удариться. И с собой монаха-бродяжку сманул.
– Отче, в слухах тех и в самозванце усматриваю я козни недругов моих. Есть такие среди князей и бояр, сам ведаешь.
Патриарх пожал сухонькими плечиками:
– Как сказать, сыне. Погоди до поры хулу возводить. От мнительности до пустой злобы всего шаг. Не распаляй себя, государь. Разошли гонцов по городам, накажи воеводам того монаха Отрепьева Гришку изловить, а я поутру призову архимандрита Пафнутия да поспрошаю, как проглядел он злоумышленника. Еще по монастырям отпишу, когда появится сей инок, чтоб хватали и, заковав в железо, везли в Москву. Сдается мне, захочет он искать себе приюта в дальних лесных скитах.
– Успокоил ты меня, отче. Ухожу с душой легкой. – Годунов поднялся. – Благослови, владыко.
* * *
Сурово допрашивал патриарх архимандрита Пафнутия. Велик грех на Чудовом монастыре! В святой обители возросла крамола.
– А почто ты, Пафнутий, привечал монаха Гришку Отрепьева, вскормил змею гремучую, не с умыслом ли?
Стоит архимандрит перед патриархом, сникла седая голова. А Иов откинулся в креслице, маленькие глазки буравят Пафнутия.
– Досель один вопрошаю, а при нужде на церковном суде ответствовать будешь.
– Владыко, – осмелился вставить слово архимандрит, – в чем прегрешение мое? Тот Гришка в монастырь принят был по просьбе деда его, ныне монашествующего Замятии, и дядьки, стрелецкого сотника Смирного. Они упросили. Откель мог я знать, какие смутные мысли обуревают инока? В одном винюсь, владыко, выделял я Гришку Отрепьева из всех монахов неспроста. Зело разумен инок. Ты и сам, владыко, в том не раз убеждался, когда к себе призывал по писчему делу. Видывал способности его.
– «Видывал, видывал», – передразнил архимандрита патриарх. – Бес ослепил тебя, Пафнутий. Поди с очей моих! Молись, чтоб изловили злодея. Государь во гневе!
Оставшись наедине, Иов подпер кулачком щеку, задумался. Долго силился вспомнить того монаха Гришку, все не мог. Мало ли их, служек, вертится в патриарших хоромах? Однако уж не тот ли инок, белобрысый, с маленькой бороденкой, коий переводил с греческого? Неказист и неприметен. Одно и запомнилось Иову – глазаст и лоб высокий, крутой…
– Вишь, вознесся как в мыслях, царевичем Димитрием возомнил себя. Экой шальной малый…
* * *
Великий пост был на исходе. Снег стаял, и дороги развезло. Григорий и Варлаам брели стороной, обходя лужи и колдобины. Поодаль, гундося псалмы, вышагивал с котомкой через плечо невесть когда приставший к ним чернец Мисаил.
Кормились, побираясь Христовым именем. Ночевали, где ночь укажет.
Однажды заявились в сельцо запоздно. Не тревожа хозяев, сыскали сеновал, забрались. Едва угрелись и заснули, как раздался топот копыт, лай собак. Григорий поднял голову, прислушался. Кто-то остановил коня поблизости, соскочил наземь. Из избы вышел хозяин. Заговорили:
– Не приметил ли ты, староста, бродячих монахов, не проходили ль здешними местами? – спрашивал приехавший.
Хозяин отвечал:
– Не довелось видеть, сотник. Не объявлялись такие.
– Коли увидишь, хватай немедля. Они ослушники государевы и злодеи лютые. Вот тут грамота у меня с их приметами, пойдем в избу, разберем при лучине.
Стукнула дверь в сенях, и голоса стихли. Григорий растолкал Варлаама и Мисаила.
– Пробудитесь, уходить надобно, – шепнул он товарищам. – Небезопасно тут…
С того часа, опасаясь погони, шли таясь, стороной минуя городки и монастыри.
Голодно, и устали.
Долговязый Варлаам терпеливо месил грязь размокшими лаптями, а Мисаил брюзжал:
– Связался я с вами. Кого остерегаемся?
Григорий покосился на Мисаила, но не отвечал. Пусть себе ворчит. А хочет отстать, никто не держит.
Мисаил ненадолго смолкал, потом заводил свое:
– Эвона, Григорий, какая на тебе обутка, сапоги! И шуба у тебя на меху, а у меня ноги мокры и зипун ни тепла не держит, ни от холода не спасает.
– И почто, Григорий, князь Василий к тебе благоволит? – спросил молчавший до того Варлаам, – Вона справу какую выдал да еще наказал оберегать тебя?
Отрепьев делал вид, что не слышал ни Мисаила, ни Варлаама, но про себя подумал: «Откуда вам, монахам, знать, что не простой я инок, а царевич Димитрий?»
– Щец бы, – канючил Мисаил, – сосет в утробе. Когда я ел горячего хлебова, запамятовал.
Григорий отмалчивался, продолжал мысленно рассуждать сам с собой. Еще дня три – и рубеж. А там польско-литовская земля… Как примет его канцлер Сапега? Какую помощь окажет? Сколь таиться еще под именем Григория?
День ото дня все больше вопросов задавал себе Отрепьев и искал на них ответы в собственной голове.
Давно улеглись те волнения, какие доставила ему неожиданная весть, и Григорий теперь спокоен. Разум не изменил ему, и мысли четкие. Он хорошо понимал: объявись он сейчас, заяви о себе, как знать, поверит ли ему люд? А ежели и признает, потянется за ним, то не выстоять против войска, какое пошлет на него Годунов. Надобно выждать, когда Борисовы враги, князья и бояре, зачнут против Годунова хитрости творить, тогда и он пойдет с поляками на Москву. Дорогой казаки к нему пристанут и народ, разоренный голодом и мором… А там, глядишь, может так случиться, что полки русские на Годунова повернут, встанут под его, Димитриево, знамя…
– И о чем ты все размышляешь? – покосился Варлаам.
– О многом, – усмехнулся Отрепьев и прибавил шагу. – Давайте поспешать, вечереет, надобно какое ни на есть жилье сыскать.
* * *
Миновав Новгород-Северск, перебрались монахи за рубеж и теперь шли, не опасаясь русской сторожи, по захваченным польско-литовскими панами украинским землям.
Под самый пасхальный вечер добрались в Дарницу. На той стороне Днепра в лучах заходящего солнца играли позлащенные купола Софии, высились на горе дворцы вельмож, к самой воде спускались дома Подола. В первой свежей зелени сады Киева.
Остановились монахи у парома. Григорий приставил ладонь козырьком, всматривался в незнакомый город.
Вот уже почти два века, как захватила Киев польско-литовская шляхта… Но не об этом думал Отрепьев, а о том, как, передохнув в Киево-Печерском монастыре, отправится в Острог, а оттуда к канцлеру Сапеге…
Что станет дальше, Григорий не представлял. Но таинственная неизвестность не пугала его, наоборот, манила, захватывала. Она обещала ему многое.
– Красота какая, Господи воля Твоя, – восторгался Варлаам. – Полсвета исходил, а Киев как увижу, душа мрет.
– Истину, брат Варлаам, речешь, – согласился Мисаил, но тут же затянул свое: – Насытюсь, отосплюсь и не хочу я, братья, боле бродить по миру…
– Докель стоять будете, Божьи странники, – позвал монахов перевозчик с парома, – плывете аль нет?
* * *
Хоть и успокаивал патриарх Иов Годунова, но слухи плодились, и уже не в одной Москве, но и в иных городах говорили про Отрепьева. Мрачные мысли одолели Бориса. В царских палатах ни смеху, ни веселья. А государевы недоброжелатели по княжьим и боярским хоромам злословят:
– Не простится Бориске невинная кровь!
– Воистину!
На Пасху не выдержал Годунов. Отстояв в Успенском соборе всенощную и разговевшись, велел позвать Шуйского. Дожидался с нетерпением. Шагал по палате из угла в угол, сам с собой разговаривал.
Осунулся царь Борис, под глазами набрякли мешки, а дорогой, шитый золотом кафтан обвис на похудевшем теле.
Грузно опустившись в резное кресло, до боли в пальцах сжал подлокотники, подумал: «Истину говаривают, не ведаешь, откуда беда нагрянет».
Вошел боярин-дворецкий, пробасил:
– Князь Шуйский!
– Впусти, – встрепенулся Борис.
Из-за спины боярина высунулся князь Василий Иванович. На Шуйском подбитая дорогим мехом шуба, красные сафьяновые сапоги. Остановился поодаль и, опершись на отделанный золотом и серебром посох, отвесил низкий поклон. Высокая боярская шапка чудом удержалась на плешивой голове.
Борис не ответил – взгляд пасмурный, позабыл, что и день пасхальный. Повел по Шуйскому очами, сказал угрюмо:
– Князь Василий, много лет назад посылал я тебя в Углич, и ты под клятвой показал государю Федору Ивановичу и мне, что убит в Угличе царевич Димитрий. А та смерть приключилась по вине царевича. Было ль такое?
Под пытливым взором Годунова Шуйский неприятно съежился: «Уж не допрос ли? Ох-хо…»
Заторопился с ответом:
– Сказывал, государь, сказывал…
Годунов утер рукавом кафтана потный лоб:
– Верю тебе, князь Василий Иванович, но, сам ведаешь, разговор наш неспроста. Эвона чего нынче бают, самозванца какого-то придумали.
– Такое, государь, и ране случалось, аль запамятовал? Два лета назад погулял слушок и стих.
Борис закрутил головой:
– В тот раз дале пустословия не двинулось, а ноне чудовский монах Гришка Отрепьев в Димитрии полез. Да про то сам ведаешь, чего толкую тебе, – махнул рукой Годунов. – Кабы этого самозванца Димитрия изловить удалось, с кривотолками враз бы покончили. Но скрылся Отрепьев, и в том беда. Теперь, чую, будет самозванец народ смущать.
Борис приложил ладонь ко лбу, помолчал. Потом снова уставился на Шуйского:
– Я тебя, князь Василий, призвал, дабы ты, коли нужда появится, сызнова на людях подтвердил о смерти царевича. Сумеешь ли? – прищурился Годунов.
Князь Василий Иванович замялся, но, встретив суровый взгляд Бориса, кивнул.
– Не хитри, Шуйский, – уловил заминку Годунов. – Я велю патриарху Иову, пускай он с тебя крестное целование возьмет. Да при том князьям и боярам быть и выборным от люда…
Борис побледнел, лицо в испарине. Перевел дух, прохрипел:
– Уходи, князь Шуйский, вишь, недужится мне. – И, нашарив рукой стоявший сбоку кресла посох, стукнул в пол. – Эй, люди!
Вбежали служилые дворяне, подхватили государя под руки, повели в опочивальню.
* * *
У литовского канцлера Льва Сапеги замок в Кракове у самой Вислы-реки. Весной слуги выставляли свинцовую оконную раму с цветными узорчатыми стеклами, и взору открывались река, редкий лес, кустарники. А на той стороне застроившийся совсем недавно ремесленный поселок.
Канцлер посмотрел на Вислу. Малиново-синий закат разлился по реке. Низко над водой стригли ласточки. Свежий ветер ворвался в просторный, украшенный гобеленами и охотничьими трофеями зал.
Сапега дышал сипло, кашлял, и одутловатое бритое лицо наливалось кровью. Он пригладил седые усы, отвернулся от окна.
Давно уже пора воротиться Сапеге в Литву, но король Сигизмунд не дозволил. У канцлера ум гибкий и хитрость лисицы. Король нуждался в его советах, особенно когда это касалось Московии. И никто во всем Польско-Литовском государстве не был осведомлен так о русских делах, как Лев Сапега.
В последнее время мор в Московии стихал, но толпы голодного люда на западных окраинах Русского государства все еще продолжали угрожать правительству Годунова.
Канцлер был доволен – пусть царь Борис не знает покоя. Сапега помнит, как Годунов унижал его, когда канцлер вел посольство в Москве.
Сапега боялся одного, как бы разбойный дух, что владел мужиками на Руси, не перекинулся на польско-литовских холопов. По его совету король расквартировал на постой в воеводствах близ русского рубежа шляхетские полки…
В открытую дверь заглянул дворецкий:
– Московит до вельможного пана!
– Московит? – удивленно переспросил канцлер.
– Он самый, вельможный пан.
– Чего ему надобно? – удивился Сапега и подал дворецкому знак. – Впусти!
Одернул шитый золотым кантом кунтуш [23]23
Кунтуш – польский верхний кафтан: мужская одежда, иногда на меху, со шнурами, с откидными рукавами.
[Закрыть].
Вошел молодой монах, поклонился с достоинством.
Сапега прищурился, разглядывая монаха. Неказист инок, однако глаза умные. «Уж не о нем ли писал Голицын?» – подумал Сапега. Сказал:
– Садись, инок, и поведай имя твое, с чем пожаловал.
Монах ответил по-литовски:
– Звали меня в иночестве Григорием, а при рождении как именовали, Богу да немногим известно. К тебе, вельможный канцлер, обращаюсь я по совету князя Василия Васильевича.
– То добре, вельможный человек, – кивнул Сапега. – Не буду дале чинить спроса. Но имя свое и для иных держи в тайне. – Пригладил усы, снова заговорил: – Писал о тебе князь Василий, просил поуберечь от годуновских людишек. – Потер лоб, помолчал, потом снова заговорил: – Поедешь с письмом моим в Гощу, на Волынь. Поживешь там у ректора школы. Язык познаешь польский и многому иному обучишься.
Канцлер прошелся по цветному ворсистому ковру.
– Из Гощи твоя дорога к пану Адаму Вишневецкому. Будут у тебя и конь, и платье шляхетское, да на первый случай злотые. Послужи у князя. А нужда учинится, имя свое доподлинное откроешь.
И хитрая усмешка затерялась в пушистых усах канцлера.
* * *
В просторных залах королевского дворца толпились вельможи, но королевский выход задерживался. С раннего утра король принимал князя Адама Вишневецкого и литовского канцлера Сапегу.
Канцлер был убежден, что беглый монах Григорий не царевич Димитрий, но ему понятно, зачем русские князья придумали era. Канцлер Сапега готов признать в иноке Григории сына Ивана Грозного. У русских князей одни планы на самозванца, у Сапеги и шляхты – другие.
Король слушал литовского канцлера, и его бритые щеки то бледнели, то наливались кровью.
Сигизмунду за сорок. Он узкоплеч, сутул. На нем темный бархатный камзол и ослепительно белый воротник. Король кивнул, когда Сапега сказал, что послал монаха в Гощу.
Дородный и важный князь Адам Вишневецкий заметил, как загорелись у Сигизмунда глаза. Таким король бывал только на охоте. Вишневецкому также любопытны рассуждения канцлера Сапеги. Он согласен с ним. Смута в Московии на руку Польско-Литовскому государству. Давно настала пора отнять у Москвы Смоленск…
Вишневецкий подался вперед, сказал:
– То добже, пан Лев, что ты надумал беглого монаха в Гощу послать, а потом ко мне. Мы того Димитрия приютим и поможем.
– О том, кто есть монах, вельможные панове, и нам нет дела, – прервал князя король. Заговорил быстро, отрывисто: – Ты, пан канцлер, отправляйся в Литву. Пусть литовская шляхта готовится. Мы дозволим, вельможные панове, польским и литовским шляхтичам пойти с царевичем на Русь. И за то заберем у Московии Смоленск. Мы посадим московским царем верного нам слугу. Вельможные панове, велите отцам нашей церкви обратить взор на этого Димитрия. Больше слухов, вельможные панове, больше.
Сигизмунд закрыл глаза, простер руки:
– О, Матерь Божья, помоги!
* * *
Щемило сердце у Шуйского. От Бориса уходил сам не свой. В возок не мог без помощи влезть, у дюжего холопа на руках кулем обвис. Едва вымолвил:
– К князю Голицыну.
Нищие возок окружили, вопили, канючили!
– Подай, болярин, денежку!
Набежали стрельцы, пинают убогих сапогами:
– Пошли, пошли вон!
Попятилась толпа, загудела, как потревоженный рой. Хлещет стрелецкий десятник татарской нагайкой по спинам нищих, приговаривает:
– Геть, нечестивцы!
Впряженные цугом кони вынесли возок из Кремля, колеса застучали по булыжной мостовой. Не успел Шуйский опомниться, как вот и оно, подворье Голицына.
Отстегнув заполог, выбрался князь Василий Иванович из возка. Покуда на крыльцо всходил, по двору глазами зыркнул. Прислонившись спиной к бревенчатой стене поварни, босой долговязый монах, подставив русую бороденку теплому солнцу, зевал, лениво переругивался с воротным мужиком:
– Ты дале Москвы не хаживал, а я не токмо по русской земле, но и в чужедальних краях топал.
– Ври, Варлаам, – отмахнулся воротный, – выдумываешь.
– И рече Христос: да простятся вины твои, человече, – сплюнул в сердцах монах. – Подь сюда, упрямец, да позри на ноги мои.
Толкнув дверь хором, Шуйский услышал, как монах сказал:
– Всю польскую и литовскую землю исходил.
Воротный мужик хихикнул.
Голицын встретил Шуйского у самых сеней. Василий Иванович руки поднял, головой затряс:
– Ох, князь Василь Василич, зело страшно! От Бориски еду, спрос чинил мне. Боюсь, как бы не унюхал.
– Свят, свят, – испугался Голицын. – Мечется Борис, аки волк в западне, рычит. – Широким рукавом кафтана он вытер со лба пот. – А Димитрия-то, нами рожденного, вовремя укрыли. Верный монах за рубеж отвел к канцлеру Сапеге.
– Уж не тот ли долгогривый, какой во дворе у тебя ноне байки сказывает?
– Он самый.
– Приметил, болтлив, зело болтлив, не в меру. Укоротить бы ему язык не грех. Самолично слыхивал, как похвалялся он, что за рубеж, в Литву хаживал. Дознаются ябедники, враз смекнут. А как в пыточную поволокут, все обскажет и на тебя, князь, укажет.
– Так, так, – всполошился Голицын. – Ах, треклятый. Ужо поучу его. Ране за ним такое не водилось.
Во двор вышли, остановились на крыльце. У Голицына вотчина, что у Шуйского, такие же хоромы, каменные, просторные, клети и амбары, поварни и людская, конюшни и сараи из бревен вековечных.







