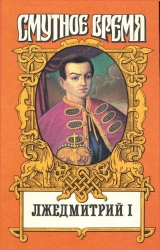
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
17 мая 1606 года
Народная месть зрела медленно, питаясь новыми и новыми оскорблениями.
Уже в день въезда кое-что не понравилось москвичам: когда самозванец, встреченный духовенством, прикладывался к образам, литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая молитвословия; войдя в храм Успения, Димитрий ввел в него иноверцев, – «басурман» в глазах народа.
А потом потянулся длинный ряд оскорблений, которым московцы и счет потеряли. К оскорблениям в духовной сфере присоединились оскорбления внешние от забывших всякую меру поляков.
Народ роптал. Все чаще и чаще во время народных сборищ слышались угрозы по адресу ляхов, все чаще и чаще стали называть Лжецаря втихомолку «расстригою», «ляхом», «скоморохом», «басурманом».
Женитьба царя на польке, венчание в пятницу, накануне Николина дня, дополнило чашу. Нужен был только энергичный призыв, и народ восстал бы поголовно. Призыв этот сделал Шуйский.
Свержение Лжецаря было давно уже решено боярами с Шуйским во главе, народ был подготовлен, запасся оружием и все чаще ссорился с ляхами, которым спуску не давал; вечером 16 мая уже были отмечены меловыми крестами дома, где жили ляхи, а самозванец оставался спокоен, хотя до него доходили тревожные слухи, смеялся над ними и не принимал мер.
В четыре часа утра 17 мая 1606 года зазвонили в Ильинской церкви. Колокола других церквей разом подхватили, и набат загремел по Москве.
Отовсюду, из всех улиц и переулков толпы громко шумевшего люда, гремя оружием, бежали к Лобному месту. Все сословия дружно соединились: боярский сын бежал рядом с крестьянином, торговый человек со стрельцом. Все это неистово вопило: «Смерть расстриге! Смерть ляхам!»
У Лобного места народ соединился с боярами. Князь Василий Шуйский воеводствовал над народным ополчением. Спасские ворота растворились. Шуйский въехал в Кремль, приложился к иконе в храме Успения.
– Во имя Божие! Идите на еретика! – и он указал им на царский дворец.
Толпы понеслись ко дворцу. Шуйского колотила нервная дрожь.
«Удастся ли? – с беспокойством думал он. Потом у него мелькнуло в голове то, что уже не раз мелькало: – Кому после него быть царем? – И он мысленно ответил – Мне!»
– Басманов! Поди узнай, чего они шумят! – приказал самозванец.
Петр Федорович выбежал в сени и столкнулся с вломившимися мятежниками.
– Что вам надо?
– Подай расстригу! – слышались крики.
Басманов взглянул на красные, возбужденные лица, увидел сверкающие глаза, обнаженные сабли и в ужасе кинулся назад.
– Не пускайте! Бога ради, не пускайте! – крикнул он немцам, охранявшим двери.
Он вбежал в покой и крикнул:
– Москва бунтует!
– Москва бунтует? Да как она смеет? Вот я им покажу! – вскричал Лжецарь, раскрыл двери, выхватил секиру из рук немца и, махая ею, яростно крикнул толпе: – Я вам – не Борис! Я покажу…
Что-то похожее на звериный рев было ему ответом. Раздались выстрелы.
Самозванец отскочил от двери. Дверь захлопнулась. Удары топоров посыпались на нее.
– Еретика! Расстригу! Басурмана! Подай! Подай! – ревела толпа.
– Что же делать? – растерянно спросил Лжецарь Басманова.
Тот пожал плечами:
– Не знаю. Я предупреждал. Попробую унять их.
И Басманов бесстрашно вышел к мятежникам:
– Побойтесь Бога! Что вы! Идите с миром домой – и царь на вас не будет гневаться…
– А ну! Молчи, еретичий холоп! Пошел в ад! – крикнул боярин Михаил Татищев и по самую рукоять вонзил нож ему в грудь.
Замертво падавшего Басманова подхватили десятки рук. Труп вытащили из сеней и сбросили с крыльца.
«Что он долго?» – думал самозванец с беспокойством и вдруг расслышал за дверьми насмешливый возглас:
– Сбросьте это падло с крыльца на потеху честным людям!
– Убит! Господи! Что мне делать? Что мне делать? – в ужасе шептал Лжецарь, метаясь по палате. Он впервые понял, что такое смертельный страх.
А дверь трещала от ударов топоров, поддавалась.
– Сейчас войдут! Неужели погибнуть?
Он озирался по сторонам, ища выхода. Взгляд его упал на окно, выходившее на Житный двор. Он растворил его и выпрыгнул. С пробитою головой и грудью, с вывихнутою ногою он без чувств протянулся под окном.
Мятежники между тем вломились в покой, искали самозванца.
Стрельцы, стоявшие на страже у дворца, не участвовали в мятеже. Они подняли его, отлили водой. Скоро мятежники его разыскали.
– Давайте еретика! – наступая на стрельцов, завопила толпа.
– Не выдадим, пока царица-инокиня не скажет, что он ей не сын! – ответили стрельцы.
Стали ждать. Допрошенная царица покаялась в обмане и отреклась от самозванца. Последняя надежда – несчастного рухнула. Его подняли и поволокли обратно во дворец.
Окровавленный, страдающий, одетый только в лохмотья рубахи, сидел он на полу, окруженный беснующейся толпой. Ничего царственного уже не осталось в этом дрожащем, бледном человеке. Теперь он сам понял, что если прежде, пожалуй, призадумались бы убить царя, одетого, как подобало его высокому положению, то теперь этого жалкого человека в отрепьях убьют без сострадания.
– Кто ты? – приступили к нему.
– Я Димитрий… Спросите мать… – слабым голосом ответил он.
– Врешь! Спрашивали ее! Ты бродяга, вор!
Раздались два выстрела, и самозванец упал мертвым, даже не охнув.
Теперь все накинулись на мертвеца. Его кололи, рубили. Потом сбросили с крыльца на труп Басманова. Внизу шумела толпа, в свою очередь, накинулась на безжизненное тело того, перед кем недавно трепетала: Нет ничего хуже раба, ставшего внезапно господином. Натешившись, положили трупы Лжецаря и Басманова близ Лобного места.
– Теперь за ляхов! Бей ляхов! Бей! – послышались крики, и толпа рассыпалась по городу.
XXXVСчастье боярина Белого-Туренина
Разбуженный колокольным звоном и шумом народа, Павел Степанович наскоро оделся и выбежал на улицу.
Там боярин замешался в толку. Прежде всего она вынесла его к Лобному месту. Тут было что-то, напоминавшее водоворот. Масса люда теснилась и медленно крутилась вокруг одной точки.
Павел Степанович протолкался и ахнул: он увидел трупы Лжецаря и Басманова. Их едва возможно было узнать – до того их изуродовали.
Белый-Туренин снял шапку и перекрестился.
– Ты чего это крестишься? Не об этом ли падле Бога молишь? – заметил ему какой-то оборванный парень, подозрительно косясь на него.
– Если они точно грешны, то за них и надо молиться – праведного Господь и так помилует, – ответил боярин.
– Вот еще! Не в рай ли ему попасть? Ха! – сказал оборвыш и ударил самозванца по лицу.
– Чего глумишься? Давно ли сам пред ним ниц падал? – с негодованием вскричал боярин.
– Ладно, ладно! Не больно-то учи! – огрызнулся оборванец.
Народная волна набежала и закрутила их. Павел Степанович сам не знал, как очутился в Китай-городе. Здесь толпа поредела, но зато здесь кипел заправский бой. Чернь осаждала дома ляхов. Сцены, которые боярину пришлось увидеть, леденили ему кровь.
Он видел, как вытаскивали из домов прекрасных женщин, как те, рыдая, целовали руки и ноги мучителей и были умерщвляемы самым варварским образом при громком хохоте опьяневшей от крови толпы; он видел, как применялись самые ужасные пытки… Толпа вспоминала все обиды, все оскорбления, и все вымещала на несчастных ляхах.
Из одного дома выбежала женщина, за которою свались мужик с топором и два стрельца.
Женщина, одетая в одну сорочку, маленькая, с распущенными волосами, в ужасе металась.
Павел Степанович с удивлением и ужасом узнал в ней Лизбету. Он бросился к ней. Она узнала его.
– Павел!.. Спаси!.. – лепетала Лизбета.
Несколько грубых рук оторвали ее от него.
– О, Матерь Божья! – только успела крикнуть Лизбета и упала замертво от удара топором.
Павел Степанович не успел и опомниться, так быстро это произошло. Придя в себя, он бросился на мужика.
– Зверь! Душегуб! – крикнул он, схватив его за горло: при нем не было никакого оружия.
– Это из ополяченных!
– Наших бьют! Э, гей!
– Я видел, как он крестился над падлом-расстригой. Бей его!
– Бей его! – подхватили десятки голосов, и Белый-Туренин был моментально сбит с ног.
Его топтали ногами, били чем попало. Он потерял сознание.
Когда он пришел в себя, солнце уже высоко стояло на небе. Улицы Москвы были тихи. Над собой боярин увидел морщинистое старческое лицо.
– Жив, слава Господу! – проговорил старик. – Как бы нам его теперь, девунька, в наш домишко перенести? – продолжал он, обращаясь к миловидной бледной девушке с венком из полевых цветов на голове. – Эй! Добрый человек! – окликнул старик какого-то прохожего.
– Что, старче?
– А вот, будь добр, помоги-ка мне болящего сего в мою лачугу дотащить. Бог зачтет тебе это.
– Тоже побит… Эх, грех! И какой парень-то матерый! Ох, много крови сегодня пролилось! И я тоже, грешным делом, баловался. Как и замолю грехи свои тяжкие – не знаю! Такие дела творил, что вспомню теперь – волосы дыбом становятся! А тогда ничего. Одно слово, сатана оплел! Куда тащить-то?
– Я покажу… Как же мы с тобой его понесем?
– Один стащу. Ну, коли что, присяду отдохну.
В старце Павел Степанович узнал Варлаама, в добросердечном прохожем – убийцу Лизбеты.
Боярин долго находился между жизнью и смертью. Старец и девушка ухаживали за ним, как за родным. Наконец крепкая натура одолела болезнь; он стал поправляться, но левая рука его отказалась служить – она была страшно искалечена. Повреждена была также одна нога. Поправляясь, Павел Степанович наблюдал за жизнью старика и девушки.
Это была мирная, трудовая жизнь. Старик плел лапти, корзины и продавал их. Девушка помогала ему.
– Ну вот, боярин, с Божьей помощью мы тебя и на ноги поставили! – довольно сказал Варлаам, когда боярин впервые поднялся с ложа.
– Спасибо тебе, старче. Я тебя награжу. А только… право, незачем мне было в живых оставаться! – печально промолвил Белый-Туренин.
– Не гневи Господа! – вскричал старик.
– Правду говорю. Грешен я, старче! Давят меня грехи. Я двоеженцем был, от веры отступил!..
– Тяжкие грехи, что говорить! – тихо перебил его Варлаам. – Только Бога надо молить, чтобы Он прощал, ну и делами добрыми по мере сил грехи покрывать.
– Мне одно осталось – в монастырь уйти.
– И незачем вовсе! Оставайся в мире, твори добро да молись – легко жить тебе будет.
– Попробую, попробую! – повеселел боярин.
– Попробуй, касатик, – ответил Варлаам.
Через десять лет вряд ли в Москве отыскался бы хоть один бедняк, который не знал бы «доброго боярина Павла Степановича».
Белый-Туренин нашел свое счастье.
Б. Е. Тумасов
Лихолетье
Глава I
Моровые лета. В кузнице у Демида. Тайные думы князя Василия Ивановича. Хлопко Косолап. Княжий сговор. Смерть Демида.
Сумерки, сгущаясь, тронули небо. Скупо нагретая осенним солнцем земля отдавала последнее тепло. Москва изготовилась ко сну. Разошлись с торга редкие купцы, затихли ремесленные слободы.
На каменных папертях церквей нищие и бродяги, за долгий день вдоволь переругавшись меж собой из-за скупого подаяния, угомонились, но не спали, вслушивались. Учуяв бряцание оружия сторожей, нехотя поднимались. Тех, кто еще оставался лежать, суровые стрельцы гнали пинками за городские ворота.
– Вон, вон, нечисть!..
Широким поясом охватывали Москву костры. С крепостных стен казалось, будто многочисленное вражеское войско подступило к городу.
Прогонять бродяг из Москвы повелел государь Борис Федорович Годунов. Не приведи Бог, в темень татю приволье. А толпы бездомных наводнили Москву еще в прошлом голодном тысяча шестьсот первом году. Саранчой заполонили город. Приставили было пришлый люд к работе, да где на всех дел напасешься? А новые все прибывают. Мор не то что окрест Москвы, но и в самом городе вовсю гуляет. Покойников хоронить не успевали, в одну могилу иной день до сотни зарывали. Великая беда навалилась на Русь…
Под самый вечер добрался Артамошка Акинфиев до Москвы. Темнело быстро. Лес на глазах сливался с полем, и дорога угадывалась с трудом. На небе звезды редкие, чуть приметные. К полночи они сделаются крупными, яркими. Над лесной кромкой высунула рожок луна. Сиротливо поскрипывает на ветру сухостой.
Голая, не покрытая зеленью земля тверда, как камень. Земля не пила влаги всю весну и лето. Сызнова быть голодной зиме.
Артамону страшно думать об этом.
…В прошлое лето дожди как зарядили, так и не прекращались до заморозков. Рожь не выколосилась, налилась сочной зеленью, а потом, с холодами, потемнела, сгнила на корню. И ползимы не миновало, как кончились у крестьян припасы. К весне запустели села и деревни. Ветер гулял в покинутых избах. Дико и смрадно. К толпам бездомных крестьян приставали боярские холопы. Князья и бояре разгоняли многочисленную дворню, отказывались кормить челядь. Голодно, безотрадно, и несть числа мукам человеческим.
Бродили крестьяне по Руси, осаждали монастыри и боярские усадьбы, а там, за крепким караулом, манили голодный люд бревенчатые амбары, полные зерна.
Не раз видел Артамошка Акинфиев, как народ громил житницы, а стрельцы усмиряли мужиков и баб бердышами и саблями.
Миновал Артамошка лес, обрадовался: вдалеке мерцали огни. Заспешил. К огню бы побыстрей да уснуть. А может, какая добрая душа расщедрится, подаст сухарь.
Акинфиев высок, сухопар. От долгого недоедания выперли острые мослы, под рваным зипуном ребра пересчитать можно.
Ему и тридцати нет, но волосы и бороду уже посеребрило.
Нет у Артамошки ни избы, ни семьи. Раньше не обзавелся, а нынче до того ли? Сам не упомнит, когда вдосталь есть доводилось…
У первых костров Артамошка приостановился. Куда ни глянь, лежат и сидят мужики, бабы, дети малые. Будто со всей земли русской сошелся люд к Москве.
Посмотрел Артамон, никому до него дела нет. У костра, где народу поменьше, примостился. Мужик с сердитым лицом, борода куделью, огрызнулся:
– Чего липнешь, аль тобой зажжено?
Не успел Артамошка и рта открыть, как другой мужик вступился:
– Пущай, огня на всех хватит.
И тут же забыли Артамона, о своем речь повели:
– Слыхивал я, на Северской украйне жизнь вольготная и голода нет.
Монах в скуфейке, грея руки над костром, протянул, окая:
– Насытиться и отогреться!
– В тех землях али на украйне холопы казакуют, – указал сердитый мужик. – Гойда!
Другой вставил:
– То казаки, а я доподлинно знаю, в Комарицкой волости мужицкая рать на бояр сбирается.
Монах заохал:
– Ох, ох, разбой! Богом власть дадена, и не нам судить ее. – Перекрестился.
– Тьфу! – сплюнул сердитый мужик. – Да поди ты к лешему! Власть! Вона, чай, рядом с тобой баба лежит, а жива она аль с голоду околела, поутру поглядим. Небось в своем монастыре утробу набьете, а до других и ладно.
Артамошка молча согласился с мужиком. Вспомнилось ему, как жил он на землях Иосифо-Волоцкого монастыря. Взволновались в ту пору крестьяне. Все забирал у них монастырский тиун. Сторону мужиков монах Антон принял. Написал он царю жалобу. Так-де и этак, в нужде превеликой живем.
Разбирать жалобу приезжали именитые бояре. Уговаривали крестьян смириться, но мужики монастырский хлеб обмолотили и по своим избам развезли.
Больше всех против монахов кричал он, Артамон, и за то велел настоятель изловить его и кинуть в яму. Но Артамошка Акинфиев оказался проворным. И поныне обходит он стороной Иосифо-Волоцкий монастырь.
– Страдания терпим, – проронил сердитый мужик и закашлял надрывно и долго.
Наконец у костра угомонились, в сон потянуло. Задремал и Артамошка.
Когда в предрассветной рани растворился Татарский Шлях [14]14
Млечный путь.
[Закрыть]и отпели последние петухи, затрезвонили к заутрене колокола московских церквей: «Динь-динь!» И разом: «Дон-дон!»
Пробуждался город!
Оживали Арбат и Таганка, Неглинная и Замоскворечье, Китай-город и Кремль.
Сначала, будто пробуя, робко стукнул по наковальне какой-то мастеровой, а потом заколотили молоты, зачастили молоточки, и потянуло гарью из Кузнецкой слободы.
Артамошка стряхнул последний сон, протер глаза. Вокруг колготился народ, переругивался незлобно, шел к городу.
Вчерашних мужиков и монаха уже не было. Видать, ушли, когда Артамошка еще спал. Поднялся, поежился. Утро зореное, холодное, даже с легким морозцем. Вслед за людом вошел Артамон Акинфиев в город. Нищие, кто попроворней, уже успели занять места на церковных папертях. Опоздавшие обгоняли Артамошку, толкались, спешили. Артамон внимания на них не обращал. Он пришел в Москву не для того, чтоб елозить задом на паперти и стучать деревянной миской о камни, канюча подаяние. Акинфиев работу искал. Его руки еще не совсем отвыкли ходить за сохой. Помнилось то время, когда пахал он монастырскую землю, а после побега попал в холопы к князю Черкасскому, жил в далекой от Москвы княжеской вотчине и выполнял разную дворовую службу.
В голодный год князь Черкасский отказался кормить холопов из загородних вотчин, и тиуны [15]15
Тиун – княжеский или боярский слуга, управляющий феодальным хозяйством в Российском государстве в 15–17 вв.
[Закрыть]прогнали их. Вместе с ними и Артамошку…
Идет Артамон Акинфиев по Москве, не торопится. Куда спешить? Вон купец обогнал его, чуть не рысцой трусит, ему лавку открывать, покупателя дожидаться. Гончарник покатил тележку с посудой. На ухабах горшки знай свое тренькают. Только кому нынче посуда нужна?
Прислонившись спиной к забору, вытянув ноги, сидела баба. Глянул на нее Артамошка, лицо у бабы водянистое, ноги распухли и дышит еле-еле. По всему видать, не жилец.
Едва бабу миновал и за угол свернул, – в пыли парнишка мертвый распростерся. Прохожим дела нет до покойника. Кому надо, заберут, схоронят. По Москве телеги, что мертвецов собирают, часто ездят.
Обошел Артамон парнишку – и ни жалости у него, ни печали. Подумал об этом, ужаснулся. Ужли звереет человек в голодный год?
Толпа таких же бездомных, как и Артамошка, вынесла его на торговую площадь. В охотных рядах людно, едва пробраться. К бабам с пирожками и вовсе не протолкнуться. Да Артамону и без пользы. В кармане у него всего и богатства, что единая денежка, а за пирожок копейку ломят. В прошлые лета, когда не было голода, за этакие деньги пяток пирожков – бери не хочу.
Потоптался Акинфиев у лавки, где стрелецкий десятник торговал кусками старого желтого сала, порезанного четвертинками, сглотнул слюну. Стрелец покосился на Артамона, прогнал:
– Коли есть за что купить, бери, а нет – отойди, не засти.
И уже вслед Артамошке проворчал:
– Шляются, того и гляди, сопрут.
Еще дальше, за лавкой оружейника, другой стрелец капустой квашеной торг вел. Артамону без удивления. Хоть стрелецкая служба и воинская, а стрельцы народ хозяйственный, мастеровой, и им самим царем дозволено торг вести. С того живут.
Купец из иноземцев с головы до ног обвесился собольими шкурками – волок с торга. Видать, закупил в полцены. Рад голоду на Руси. Пушнина нынче дешевая, а уж воск и пенька – и слов нет, задаром.
Там, где пирожками торговали, зашумели, баба визжит, словно режут ее. Артамошка ничего не разберет. Спросил у проходившего парня:
– Чего там?
– А-а, – отмахнулся тот. – Ктой-то пирожок купил, думал, с мясом, а ен с кошатинкой. На зуб коготь попал. Вот и орет. Он слово, а баба ему ответно десять.
Башмачник, подперев плечом шест с товаром, вмешался в разговор:
– Эвона! Надысь я миску холодца на пару сапог выменял. Принес домой, есть начали, а там крысиный хвост.
Достал Артамон деньгу, повертел в руке, спросил, ни к кому не обращаясь:
– Ну-ка, кто так умеет, едрен-корень?
И, положив деньгу на ладонь, зажал в кулак. Потом разжал, нет деньги. Снова сжал и разжал, есть деньга. Вокруг народ стал собираться, просят:
– Ну-к, повтори!
Показал Артамошка еще, удивил люд. Будто кладет деньгу в рот, все видят, проглотит ее, руки всем покажет, смотрите, мол, нет у меня деньги, в животе она, и тут же хлопнет ладонь об ладонь, и вот она, деньга.
Зубоскалит народ, и голод не голод, за смехом о еде забылось.
Тут какой-то тщедушный монашек продрался к Артамону, за рукав схватил, заверещал:
– Тать он, люди! Кличьте пристава!
Хихикнул злорадно:
– Как лета миновали, так мыслишь, не узнать тебя? Нет, Артамон Акинфиев, глаз у меня вострый!
Толпа заволновалась:
– Вот те и ловок!
– Может, ошибаешься, монах?
Сапожник, позабыв про товар, наперед подался:
– Сказывай, кого убил?
– Крестьян он в нашем Иосифо-Волоцком монастыре на смуту подбивал, – верещал монах.
– Эко, – удивился сапожник, – какой же он тать?
Толпа закричала, зашикала:
– На вас, гривастых, работать не хотел и других наущал, то и правильно. Вам бы самим землю пахать, а не дожидаться, когда мужики готовое в ваши закрома засыпят.
Вырвался Артамошка, нырнул в народ. Монах охнул, кинулся за ним, но толпа сомкнулась, хохочет:
– Лови его теперя, чернец!
– В рясе не запутайся!
Какой-то молодец заложил два пальца в рот, свистнул протяжно:
– Де-ержи!
Толпа расходилась медленно, потешаясь над незадачливым монахом.
Выбрался Акинфиев из Охотных рядов, на Лубянке оказался. Здесь ко всему щепным товаром торг ведут. Повертелся Артамошка возле толстой бабы с калачами, сглотнул слюну, даже рукой за калач взялся, но баба такой крик подняла – еле ноги унес.
К обеду попал Артамон в Кузнецкую слободу. Утомился, в ногах нет силы, от голода мутит. Остановился возле первой кузницы, оперся плечом на косяк двери.
Кузница по самую крышу в землю вросла, дерном крыта, а мастер, не поймешь, старый ли, средних лет, кривой, один глаз кожаной повязкой закрыт, посмотрел на Артамошку, ничего не сказал, своим делом продолжал заниматься.
Присел Артамон. Сколько времени прошло, не помнил, только очнулся, когда кузнец толкнул его:
– Вставай, парень!
Поднял глаза Артамошка, у кузнеца на наковальне лепешка и луковица. Разломил лепешку пополам, луковицу разрезал, протянул Артамону:
– Ешь!
И больше ни слова не вымолвил до самого вечера. Только когда стемнело и время настало кузницу закрывать, сказал:
– Коль жить негде, здесь ночуй.
* * *
Кузнец Демид был немногословен. Приглянулся ему Артамошка, приютил.
«Изголодался», – думал Демид, вспомнив, как жадно ел Артамон ржаную, пополам с соломой, лепешку.
Лежал Демид на лавке, и сон его не брал, хоть время давно за полночь перекатило.
Блеклый свет луны не пробивается через затянутое бычьим пузырем оконце, и в избе мрак. Единственный глаз Демида, привыкший к темноте, смутно различал балку под соломенной крышей. Чуть в стороне дыра для дыма. По-черному топилась изба.
Когда Демиду удавалось добыть немного муки, он надергивал из-под стрехи прелой соломы, тер в порошок и добавлял в муку. Все же надольше хватало. А время такое настало – день ото дня все голодней и голодней. Только и спасение Демиду – замки искусные делать. Мастерил такой хитрости, ключа к нему не подобрать. Бояре и князья Демидовы заказчики. Им есть что запирать. Когда кузнец ставил замки на боярских амбарах и житницах, то видел там столько съестного, что хватило бы прокормить не одну сотню голодных.
Демид встал, ковшиком почерпнул из бадейки воды, тут же, отвернувшись в угол, промыл вытекший глаз, надел повязку и, толкнув ногой дверь, вышел во двор.
Светало. Едва зарозовело на востоке. На подворье князя Шуйского стучал в колотушку сторож, лениво лаяли псы.
Поднял голову Демид. Рваные тучи на небе. Видать, скоро быть снегу. Вздохнул Демид, сказал сам себе:
– Эхма, перезимовать бы!
Кузницу открывать было рано, и Демид присел на пенек под старым тополем. Нынешним летом не помнит Демид, чтобы дерево шелестело сочной листвой. Поправив повязку, кузнец перетянул тесьму на волосах. На ум пришло оброненное бабкой-знахаркой: «Теперь тебе, Демидка, через одно око полсвета видеть».
Правду сказывала старая, одно око – не два. Не забыть ему тот день, как окривел. Три лета назад это случилось. Накануне умер царь Федор. Бояре и попы порешили возвести на царство боярина Годунова. Он-де шурин царский. А Борис Годунов, по всему видать, цену себе набивал, в монастырь к сестре Ирине уехал, выжидал, когда его попросят.
В феврале-снежнике выгнали приставы народ к стенам Новодевичьего монастыря, велели голосить, кричать Бориса на царство. Да еще чтоб люд притом слезы источал. Те же, кто плакать не горазд, слюной щеки мазали. А ежели кто того не исполнял, приставы палками поучали.
На Демидову беду, рядом с ним пристав оказался. Почудилось ли то ему иль на самом деле кузнец не очень рот раскрывал и ретивость не выказывал, ну и перетянул пристав Демида плеткой. На беду, удар по оку пришелся, вытек глаз, и окривел кузнец.
* * *
В ту же ночь не спалось и князю Василию Шуйскому. Не голод тревожил его. Что князю! Хлеба да иных припасов у него вдоволь, а коль холопы с крестьянами мрут, так впервой ли? Бог даст, настанет час, уродит земля, расплодятся смерды.
Иное не дает покоя князю Василию. Три лета всего сидит на царстве Борис, а вона как круто забрал. Хотя что и говорить, разве до царства иным был? Почитай, со смерти Грозного Бориска всю власть в России на себя принял. Безвольный государь Федор только числился на царстве.
Поворотился Шуйский на бок, жалобно скрипнуло дерево. Князь Василий поморщился: «Надобно плотникам наказать иное ложе смастерить».
Опять мысль к прежнему воротилась… А род Годуновых ничем не примечательный, неровня Шуйским. Шуйские от Рюрика тянутся, Годуновы от татарских мурз пошли. Начало их не дальше княжения Калиты.
Сам-то Бориска при царе Грозном женился на дочери первого опричника Малюты Скуратова. А когда же Борисова сестра Ирина вышла замуж за царевича Федора, тут совсем Годунов в милость к царю Ивану Васильевичу попал. И стоило умереть Грозному, как царица Ирина без труда уговорила мужа, чтобы тот Борису все заботы о государстве передал. Федору в радость. Позабыв о царском сане, он, знай себе, шлялся по церквам, юродствовал да в колокола вызванивал. Вона и дозвонился, что худосочный боярин Бориска Годунов после Федоровой смерти на царстве оказался. Куда было углядеть Федору с его скудным умишком, как Борис загодя, еще при живом царе, власть к рукам прибирал. Бояр и князей, кто его руку не держал, от царя отстранил. На патриаршество российское своего человека возвел. За то патриарх Иов Борису верой-правдой служит. А раз Иов, то и вся церковь.
Кому-кому, а Шуйскому доподлинно все известно. Разве не Шуйские тайно подбивали против Годунова московский люд?
Торговые мужи взбунтовались против Бориса еще пять лет назад. Тогда сторонники Годунова едва отсиделись за кремлевскими стенами. Кабы не стрелецкие приказы, подавившие мятеж, быть бы сейчас Шуйским на царстве.
Князь Василий приподнял голову. Луна ярко светила сквозь заморские стекольца окон. Шуйский потер волосатую грудь. Усмехнулся. На голове эвона плешь какая, в бороде тоже перечесть можно волос, а там, где не надобно, сколь выросло.
Василий Иванович неказист и роста малого, от худобы горбится, а на морщинистом лице непомерно длинный нос.
Шуйский зевнул, перекрестился. Вспомнил, как посылал его Борис по делу царевича Димитрия, малолетнего сына Ивана Грозного от седьмой жены. Тогда Василий, воротившись из Углича в Москву, показал на следствии так, как того желал Годунов, дескать, царевич Димитрий зарезался сам, по нечаянности. А уж один Бог ведает, как хотелось Шуйскому сказать иное: зарезали, мол, Димитрия люди Бориса. Но князь Василий испугался. Знал, царь Федор не поверит ему и сошлет его, а еще того хуже, живота лишат.
Откинув теплое одеяло, Шуйский всунул тонкие жилистые ноги в растоптанные валенки, прошелся по опочивальне. В покоях тишина. Днем тоже не шумно в княжеских хоромах.
Под пятый десяток князю Василию, а до сих пор не женился. Полон двор холопок, выбирай любую. Седни одна, завтра другая. А Годунов и рад, что нет жены у Шуйского, не раз говаривал: «Зачем тебе семья, князь Василий, еще успеется».
Остановился Шуйский в углу, увешанном иконами. На золотых цепях висит лампада, тлеет блекло, освещая большие, строгие глаза Спасителя. Василий перекрестился. Припомнил, как избирали на царство Годунова. С Шуйским тогда даже хворь приключилась. Видано ли, на царство не родовитого князя сажать, а потомка ордынских мурз?
Снова князь Василий идет к ложу, умащивается, кряхтит.
Свое недовольство Борисом Шуйский таил, вслух не высказывал. Ране, бывало, соберутся Черкасские, Голицыны да еще Романовы, посудачат, посетуют. Они, как и Шуйский, на Годунова в обиде превеликой. Особенно Романовы. У этих род многочисленный: тут и Шереметевы, и Колычевы… Романовы, почитай, с царями кровью связаны. Не от того ль Борис замыслил Романовых извести? Братьев Александра, Василия и Михаила в ссылку отвезли да там удавили, а четвертого брата, Федора Никитича, с женой в монахи постригли. Теперь Федор Филаретом именуется. А детей их в Белоозеро отвезли, на малолетство не поглядели. Тяжко! Изводит Годунов древние роды. Неспроста. Не только сам на царстве сидеть хочет, но и сыну своему Федору дорогу расчищает.
Взгляд Василия скользит по золотым окладам икон, натыкается на Спасителя. Темные очи Бога недвижимы, напоминают князю глаза патриарха Иова.
Иов… Его стараниями уселся Бориска на царство.
Когда умер Федор, Иов намерился царицу Ирину возвести на престол, да та отреклась, в монастырь ушла. Тут Иов с ближними Годуновым боярами на Борисе выбор остановили.
Мысли Шуйского резко оборвались. Он заметил, что сторож во дворе перестал выбивать в колотушку. Князь Василий приподнял голову. Так и есть. Подождал немного. Не стучит. Удивился. Едва рот раскрыл позвать спавшего за дверью верхнего холопа, чтоб тот сбегал, узнал, как ударила колотушка, застучала весело.
Опустился Шуйский на мягкие подушки, думы к прежнему воротились: а Борис хитер, сразу не пожелал престол рюриковский занять, в монастырской келье отсиживался. Иову и боярам, уговаривавшим его, сказывал: «Коли изберут меня Земским собором, тогда и возьму ношу тяжкую, уступлю гласу народа».
И дождался-таки.
Князь Василий усмехнулся иронически, думает: «Ха, собор Земский! Собрали спешно, не собор, смех. Чать, заране Иов все предрешил. Небось никого иного, кроме Бориса, и не выкрикнул. Уж коли по чести, то собору бы его, Шуйского, избирать, либо кого из Романовых, аль Черкасского. А то едва Иов Годунова назвал, так и завопили с ним зодно…» Он, князь Василий Иванович Шуйский, на соборе за Годунова тоже голос подавал. По-иному и не мог. Воспротивься он тогда, вымолви слово поперек, Борису донесли б, и гнил бы нынче князь Василий где-то в Белоозере, а то и того хуже.
Годунов неспроста ждал Земского собора. Разве то от Шуйского и других тайна? Захотел Бориска, чтоб царство отныне родом Годуновых продолжалось. Теперь в закон возведено, после Бориса престолом сын его Федор наследовать должен.
– Эх-хе-хе! – вздохнул Шуйский и вслух произнес: – Сколь веков сидели именитые Рюриковичи, первые на Руси люди. А теперь роду худосочных уступили.
* * *
Демид открыл широкие двустворчатые двери кузницы, и утренний свет выхватил из темени затухший горн и висящие над ним старые, покрытые сажей и пылью мехи с длинными деревянными ручками. Посреди кузницы на торцом поставленной дубовой колоде – наковальня. Тут же на растрескавшейся от суши земле валялся молот. У черной закопченной стены с нитями паутины свалены куски железа. Под крышей – полка с разными инструментами.







