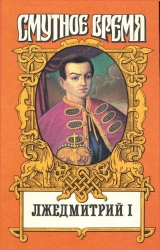
Текст книги "Лжедмитрий I"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Николай Алексеев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Глава 7
Сомнения вельможных панов. Ватикан – государство папы. «Не холоп я, а атаман комарицких ватажников». Царские посулы боярину Басманову. И снова Артамошка в Москве. Агриппина-кузнец. «Памятуй, люд, как государевых ослушников карают!» «Нашему, годуновскому, роду укорениться надобно…» Новые победы самозванца.
Февраль выдался снежный. Холопы расчистили дорожки, залили горку. С утра и допоздна Марина Мнишек в забавах. Паче всего любила она катание на санках, да не как-нибудь, а чтоб возили ее быстроногие шляхтичи, какие заполонили замок сандомирского воеводы с той поры, как пани Марина обручилась с русским царевичем.
Марине нравилось, как шляхтичи наперебой ухаживали за ней, исполняя любые ее капризы.
Особо привечала она застенчивого и красивого Яся Замойского, мелкопоместного шляхтича. Марина зазывала его в опочиваленку, когда холопки одевали ее, смеялась, глядя, как он краснеет, говаривала: «Пан Ясь – мой верный рыцарь, и я возьму его в Московию…»
Рано оставшись без матери, пани Марина росла своевольной. Папскому нунцию Игнатию Рангони не пришлось уговаривать ее обручиться с самозванцем, она и сама хотела стать московской царицей.
Возвращение воеводы Мнишека из Московии и его рассказ о неудачах самозванца ломали все планы пани Марины. Разрушилось, казалось, уже свершившееся. Марина знала, отец тоже рассчитывал, что, став московской царицей, дочь пополнит его пустой кошелек.
Невеста самозванца, опозоренная вельможная шляхтичка, кому из именитых панов она теперь нужна?
Марина Мнишек не скрывала зависти к старшей сестре, ставшей несколько лет назад женой князя Вишневецкого. «Ах, если бы не было этой шумной затеи, какую придумал нунций Рангони! Откуда взялся этот самозванец!» – вздыхала Марина.
Паны вельможные в Польше и Литве злословили:
– Воевода Мнишек в Московию за медвежьей шкурой ходил, да еле свою уберег.
– Пан Юрко дочь за царевича сватал, хе-хе, а тот – расстрига…
Радовались паны беде Мнишеков. Воеводе Юрко нечем гордиться, а то возомнил себя царским тестем!
Позабыли гости замок сандомирского воеводы. Тихо, пусто в просторных залах, и только не забывал Марину Ясь Замойский.
Тоскливо Марине и обидно.
Явился к Мнишекам нунций Игнатий. Колобком выкатился из колымаги, благословил Марину и воеводу. В тот день Рангони и пан Юрий с глазу на глаз вели долгий разговор. Вышли к ужину. За столом ели молча. Но вот воевода не выдержал, отодвинул серебряную чашу, сказал угрюмо:
– Пан епископ помнит тот разговор, какой вели мы с ним прошлым летом?
– Неисповедимы пути Господни!
– Ца-аревич! – передразнил Мнишек, – Чтоб ему пусто!
Подняла Марина голову, встретилась с отцом взглядом, догадалась, о чем он думает, и, сама того не ожидая, вступилась за Лжедимитрия:
– Но царевич Димитрий мой нареченный!
– О, сто чертей его матке! – воевода схватился за голову.
Побледнела Марина, глаза холодные, злые. Раздуваются крылья тонкого носа.
– Але я его выискала? Не вы ли со святым отцом принудили меня?
Воевода кулаком по столу хватил:
– Сто чертей!
– Паненка Марина, – затряс пухленькими ручками епископ. – И ты, пан Юрко. Стыдно! У вас погибла вера в царевича? Ай-яй! Крепите свой дух и не оставляйте надежд в помыслах своих. Вижу, настанет час, сядет Димитрий на царство, и исполнятся желания твои, дочь моя. Амен!..
В ту ночь Марина нашла утешение не в словах отца святой церкви, а в ласках пана Яся.
* * *
Простившись с гостями, Сигизмунд задержал канцлера Сапегу и князя Адама Вишневецкого. И канцлер, и князь догадывались, о чем поведет речь король, но почтительно молчали, не сводили с Сигизмунда глаз. А он, повернувшись к ним спиной, стоял у камина, грел руки. Короля одолевал ревматизм. Особенно ныло в плечах.
Березовые поленья полыхали жаром. Сигизмунд разогрелся, но боль не унималась. Он морщился, потирал сначала одно плечо, потом другое. Вишневецкий кашлянул. Король повернулся, сказал недовольно:
– Когда вы, вельможные панове, отыскали холопа, назвавшегося русским царевичем, я уверился в вашем выборе и защитил самозванца от царя Бориса. На сейме мы отказали московскому послу и не выдали его Московии. Я надеялся, что самозванец заручится помощью русских бояр и, севши на царство, отдаст Речи Посполитой Смоленск и Новгород. Но, вельможные панове, вашего царевича побили воеводы Годунова, а московские бояре не признали его за сына Грозного!
Замолчал. Сапега осмелился:
– Ясновельможный король, самозванца не мы сыскали, его прислали к нам московские бояре.
– Хе, – усмехнулся Сигизмунд, – они его вам подкинули и сами от него отреклись. Вы же ему приют дали!
– Але фортуна не изменчива? – вставил Вишневецкий.
– Фортуна подобна арфе, на ней играть надо умело, – ответил король. – На вашей же арфе, вельможные панове, лопнули струны.
Сигизмунд сел в кресло возле камина, вытянул ноги к огню. Сапега сказал:
– Ясновельможный король, если Речь Посполитая так много ожидала от самозваного царевича, так почему она дала ему слишком мало, чтоб обрести ему власть? Отчего шляхта не оседлала своих коней и не взяла в руки сабли? А те вельможные паны, какие и ходили с царевичем, в трудный час покинули его. Даже воевода Мнишек и тот не остался с ним, хотя и просватал за царевича свою дочь.
– Я ожидаю от вас ответа, вельможные панове, – снова прервал Сапегу Сигизмунд.
Канцлер и князь переглянулись.
– Подождем доброго часа, ясновельможный король, – ответил Сапега. – В Московии смута в разгаре.
– А коли самозванец прибежит в Речь Посполитую и снова почнет искать у нас приюта? – спросил Сигизмунд. – Пришлет царь Борис своих послов, и станут они домогаться самозваного царевича?
Сапега ждал такого вопроса:
– Але царевич Димитрий у ясновельможного короля искал защиты? Он гость воеводы Мнишека и князя Адама, пускай послы царя Бориса и разговор ведут не с королем, а панами, какие приютили царевича.
– Так, так, – согласился Сигизмунд. – Вчера епископ Рангони вернулся из Самбора и собирается в Рим. Что скажет папа Климент?
– Папа надеется обратить московитов в латинскую веру, – промолвил князь Адам.
– Разве мне и иным это не ведомо? – произнес Сигизмунд. – Не для того ли епископ и самозваного царевича склонял к нашей вере? Я о другом мыслю. Не станет ли папа понуждать нас слать войско в Московию, самозванцу в помощь?
– Укажи, король, и мы обнажим наши сабли, – гаркнул князь Адам.
Сигизмунд поднял брови.
– Князь, верно, забыл, что Мнишек с панами вернулся из Московии. Шляхтичи недовольны самозванцем, и на сейме они будут орать против ополчения, даже если я, король, хочу того и папа римский.
– Истинно так, – согласился с ним Сапега, – самовольность нашей шляхты известна. Но коли ясновельможный король и без сейма пошлет полки на московский рубеж, у царя Бориса поубавится гордыни, когда с Речью Посполитой говорить придется!
– Вельможный пан Лев дело сказывает, – поддакнул Вишневецкий. – При том и царевичу Димитрию помощь. Воеводы царя Бориса воевать с ним будут, оглядываясь на Речь Посполитую.
Канцлер вставил:
– Не для царевича Димитрия стараемся, ясновельможный король, а отчизны ради.
Сигизмунд насупился. Думал долго, наконец промолвил:
– Гетмана Жолкевского пошлем на рубеж.
* * *
Епископ Рангони подъехал к Риму с севера, город лежал на холмах. Над каменными домами богачей, дворцами вельмож и лачугами бедноты, над Колизеем – древним цирком, где на потеху публике в древности смертельно бились гладиаторы, над развалинами крепостных стен высился купол Святого Петра.
Не выходя из кареты, епископ пристально разглядывал город, потом, натянув на лоб капюшон сутаны, проговорил сам себе:
– Кто позволил тебе, Игнатий, предаваться праздному созерцанию?
Запряженные цугом коли потащили карету к городским воротам. Вот и постоялый двор на отшибе. Вдоль дороги вьется по деревьям виноградная лоза. За воротами потянулись темные улочки, грязные, зловонные. На площадях, где мраморные плиты и фонтаны, бродили козы. Кони осторожно ступали по разбитой мостовой. Иногда улицы были настолько узкие, что встречные кареты не могли разъехаться, а прохожие едва не терлись плечами друг о друга.
В долгом пути Рангони устал, и тело просило отдыха. Ему не терпелось добраться до гостиницы.
На рыночной площади, где крикливые торговки продавали все, начиная от овощей и мяса до бархата и парчи, меж рядами ходили важные синьоры и монахи, сновали бродяги и вольные девицы, менялы и ростовщики звенели серебром.
Епископ Рангони любил Рим, но папа Климент доверил ему быть своим нунцием при короле Сигизмунде, и он этим гордился. С появлением царевича Димитрия дел у епископа прибавилось.
В монастырской гостинице полумрак и прохлада. Монах-служитель налил в медный тазик родниковой воды и, когда епископ умылся, подал чистое полотенце. Не дожидаясь сумерек, Рангони улегся на жесткое ложе и, сморенный, мгновенно уснул.
Пробудился он рано, когда покинул гостиницу, город уже ожил. Часто встречались монахи всех возрастов. Их было тем больше, чем ближе подходил епископ к Ватикану. Папское государство Ватикан отгораживала от города стена. Перед собором Святого Петра площадь.
У дворца папы стража из швейцарских солдат. Камергер ватиканского двора, худой высокий епископ, передал Рангони, что папа Климент примет его после завтрака. Рангони покинул дворец и отправился в собор Святого Петра. Маленькие быстрые глазки епископа Рангони умильно взирали на роспись и отделку стен и колонн. Он знал, сокровища Ватикана неисчислимы, а фрескам, написанным Микеланджело, нет цены…
К Рангони подошел папский секретарь. В поклоне, блеснув бритым затылком, сказал:
– Его преосвященство ждет епископа Игнатия.
Когда Рангони вступил в ватиканский дворец, папа Климент восседал на малом троне в окружении придворных. Рангони приблизился, опустился на колени, поцеловал его сухую, морщинистую руку.
Маленького, высохшего старца, одетого в белое полотняное одеяние, отороченное горностаем, боялся весь католический мир. «Папа – наместник Бога на земле», – возвещали с кафедр соборов святые отцы церкви.
– Мы ждем, нунций Игнатий, твоего пояснения.
У папы голос сильный и властный.
– Ваше святейшество, напутствуемый вашим словом, я немало потрудился, чтобы приобщить русского царевича Димитрия к латинской церкви.
– Мы недовольны тобой, нунций! – Папа вскинул правую руку. – Царевич Димитрий не воск в твоих руках, а живая плоть, в душе которой сидит греческая вера!
Рангони стало страшно. Сурово говорил папа. Стоило повести ему бровью, и Игнатий мигом лишится сана и очутится в глухом подземелье, откуда нет возврата. Румяные щеки епископа побелели.
– Святой отец! – заспешил Рангони. – Не одну бессонную ночь провел я с царевичем, и многому внял он.
– Умолкни! Ты не завершил начатое. Мы надеялись, что ты приобщишь его к нашей вере, а через царевича заблудшая паства на Руси обретет свое лоно в нашей церкви. Но ты уступил царевича Димитрия греческим попам. Посеяв в его душе семена, ты не взрастил их. Кто должен был поливать всходы, пока они не окрепнут? Ты, епископ Рангони, наш нунций и наше око!
Одобрительно закивали головами кардиналы. Их красные мантии чудились Игнатию разлившейся кровью. Боже, и откуда, зачем объявился этот русский царевич? Если бы не он, жил бы себе Рангони в Кракове в великом почете, ибо король не мог забыть ни на минуту, что епископ поставлен самим папой.
– Нунций Рангони! – высоким, звенящим голосом продолжал Климент. – Ты отправишься к королю Сигизмунду с нашим повелением не оставлять русского царевича без поддержки, и не только дукатами и злотыми, но и воинами, каких у польского короля в предостатке. Царевич Димитрий должен вернуться на родительский стол. Мы хотим видеть его царем!
* * *
Царево войско, вдвойне превосходившее самозванца, отходило. Шуйский с Мстиславским не осмеливались дать боя. Валуйки и Воронеж, Царев-Борисов и Елец, Ливны и другие города сдавались самозванцу. Люд присягал Отрепьеву. Целовали крест на верность самозванцу бояре и дворяне, не успевшие сбежать в Москву.
Передовые полки вел донской атаман Межаков, за ним двигался Отрепьев с запорожцами и шляхтой, а третьими шли казаки Корелы, бояре со своими дружинами, холопы. Тут же Артамошка Акинфиев с ватажниками.
Весельчаки комарицкие мужики, завидев толстого гетмана Дворжицкого, потешались, зубоскалили:
– И что за бочку возят шляхтичи?
– А усы, сивые и длинные, как поводья!
– Что усы, вы на нос гляньте! Ха-ха!
Гетман по-русски не понимал, но догадывался: смеются над ним мужики. Грозил кулаком, ругался:
– Холопы! Песья кровь!
Село при дороге либо деревня, всюду шляхта крестьян грабила. Комарицкие мужики возмущались: «Ляхи к царевичу пристали, чтобы русским добром поживиться!»
Как-то вступили ватажники в большое село. Не успели разойтись, как услышали, в ближней избе баба голосит. Видят комарицкие мужики, два шляхтича волокут ее из избы, а третий, пузатый, в дверях едва не застрял.
Узнал Артамошка в нем пана Дворжицкого, кинулся к шляхтичам. Одного оттолкнул от бабы, а гетмана пнул ногой в живот, тот и сел на зад. Проворные шляхтичи мигом в седлах очутились, а пан Дворжицкий, покуда на коня взгромоздился, изрядно изведал мужицких кулаков.
Посмеялись комаринцы над незадачливым гетманом: «Пан Дворжицкий спешил, но зад кобылы с мордой не спутал!»
Расположились ватажники в селе, костры развели, кашу гречневую варят. Приехал казачий сотник, велел Акинфиеву к царевичу явиться.
Пока Артамошка на другой конец села шел, все гадал, для чего зван? Отрепьеву под дворец отвели избу-пятистенку. Ивовым веничком тараканов повымели, разогнали, у сеней караульных казаков выставили. Оружно во дворец не сметь объявляться. Отстегнул Артамон саблю, порог избы переступил. Видит, в передней горнице царевич на лавке восседает, а с ним рядышком стоят полковники казачьи, паны. Тут же князь Татев, Масальский и дворянин Хрущов. Едва Акинфиев в избу вступил, гетман Дворжицкий на него накинулся с бранью:
– Он, собачий сын!..
Паны угрожающе зашумели. Нахмурился Отрепьев.
– Как смел ты, холоп, поднять руку на вельможного пана?
Обидно сделалось Артамону, и гордость в нем взыграла. Глянул он в глаза самозванца:
– Не холоп я, а атаман комарицких ватажников и в войске твоем состою, царевич Димитрий. А гетман со своими шляхтичами крестьянам обиды чинят. За дело побили комарицкие гетмана Дворжицкого.
Отрепьев встал. Палец в перстнях уперся в Артамона:
– За дерзость и своевольство палок ему, дабы иным холопам неповадно было!
Свалили Акинфиева дюжие паны, из избы выволокли и тут же, оголив спину, били, покуда не потерял сознание.
Очнулся Артамошка. Караульные казаки помогли подняться, рубаху натянули. Горит огнем тело. Сцепил зубы от боли.
Увидели ватажники, как царевич их атамана потчевал, призадумались: «Еще царем не стал, а что дале будет?..»
В тот же вечер Артамон Акинфиев вместе с комарицкими мужиками покинул самозванца.
* * *
У царевны Ксении мамушек и нянюшек хоть отбавляй, шагу без надзора не ступишь, все ахают да охают: «Ах, свет наш! Ох, красавица ненаглядная!»
Царевна из горенки в горенку – они следом, выскочит во дворик – они толпой.
Едва царевна Ксения очи продерет, мамушки и нянюшки, боярышни-подруженьки постель окружат, взахлеб новости выкладывают.
С подружками царевна любила в тайнике сиживать. Великим княгиням и государыням в Боярской думе либо каких торжествах, что устраивал государь, участвовать не дозволялось, но строители Гранатовой палаты придумали тайник, комнатку над сенями, что вели к резному белокаменному порталу – главному входу в Грановитую палату. Из тайника через зарешеченное оконце великие княгини и государыни подглядывали, что происходило в Грановитой палате.
Особо нравилось царевне Ксении смотреть, как батюшка иноземных послов принимал. Пышно!
Иноземцы – в камзолах куцых, цветастых: синих, зеленых; безбородые, не то что бояре: кафтан до пят, ворот высокий, бороды до пояса.
Сегодня царевна Ксения прибежала в тайник по особому случаю. Прильнула к оконцу, а позади боярышни-подружки хихикают, толкаются, сами норовят посмотреть, что там, в палате? Ксения их отталкивает. Уймитесь! В Грановитой палате бояре вокруг трона стоят, государь с ними беседует, но царевна одного только и видит, Петра Федоровича Басманова. Млеет Ксения, глядит на боярина, и радостно ей. Когда намедни шел Басманов в Грановитую палату, в узком переходе дворца столкнулся с царевной. Посторонился, пропуская. Не упомнит Ксения, как ноги пронесли ее мимо боярина Петра, только и учуяла, сказал он ласково: «Ровно солнышко засияло».
Ксения думала, что отец, наверное, догадывается о ее чувствах к Басманову, и ужель оттого он так благоволит к нему?
Увлеклась царевна, теснятся за спиной подружки и не заметили, как в тайник поднялась царица Марья. Всплеснула руками:
– Негодницы, охальницы!
И давай раздавать подзатыльники направо и налево.
С шумом и смехом убежали царевна Ксения и боярышни, а у царицы Марьи волнение: пора дочь замуж отдавать, не за кого…
О том разговор вела с Борисом до полуночи. Однако у Годунова один ответ: «Изведем самозванца, сыщем жениха для Ксении…»
* * *
В конце марта вскрылась речка Десна, понесла ледяную шугу к студен-окияну.
В Антониево-Сийском монастыре богомольцы иноку Филарету всякие были и небылицы плели. Имя царевича Димитрия поминали, ругали царя Бориса. Сказывали, в Москве на Красной площади собака человечьим голосом говорила, а какая-то беспутная женка в мужика обернулась. Содом и Гоморра!
Брел Артамошка Акинфиев в Москву, а инок Варлаам, остерегаясь государевых ярыжек, обогнул ее стороной. Пусто на почтовых ямах, неспокойно на трактах. Тащился монах, псалмы пел, христарадничал, и случилось такое, попал на ту самую дорогу, какой шел в Москву Артамошка.
Может, и разминулись бы они, не признав друг друга, тем паче ночью встретились, да Акинфиев полюбопытствовал, кто это так жалобно псалмы выводит? Песнопение слезливое, тоненькое.
Приблизился Артамон к костру, нищие у огня ютятся, меж ними монах тощий, лик знакомый. Признал Артамошка Варлаама. Ай да инок, ай да монах!
– Молви, беспутный, откель и куда ноги несут, едрен-корень?
– Птица в лето на север ладится, я к югу. А кой ветер тебя, перекати-поле, гонит?
– Мне часом попутный дует, и то глаза застит. В ненастье на Москве мыслю отсидеться. Трень-звон молотом по наковаленке. Уразумел?
И разошлись…
* * *
Смутно на Москве! Люди Отрепьева народ прелестными письмами смущают. Слух о самозванце множится. Смятение – превеликое.
– Царевич-то у Тулы-города замечен.
– Не-е-е, давно те места минул!
– Оскудела, извелась Русь за царем Борисом. Ох-хо!
На паперти Покровского храма стрельцы юродивого схватили, богохульствовал и поносил Годунова. Это Божий-то человек, блаженный, и на кого голос возвысил, на царя!
На Боярской думе никто слова не желал обронить, каждый опасался, вдруг государь вместо Шуйского и Мстиславского на воеводство упечет!
А Борис наседает, хочет слышать, кому дума приговорит место Шуйского и Мстиславского занять.
Мнутся бояре, друг на друга косятся. Царевич Федор не выдержал, голос подал:
– Я бы, батюшка государь, Басманову-боярину доверил. Боярин Петр Федорович и молод, и в ратном деле искусен. Аль кто запамятовал, как он Новгород-Северск держал?
Зашушукались бояре. Ну и царевич Федор Борисыч! Сказано, сам рода-племени неизвестного, да еще на этакое воеводство, куда, считай, почти все стрелецкое войско собрано, тянет послать неродовитого боярина. Как можно?
Царю Борису, однако, слова сына по душе. Но с заменой воевод покуда решил повременить. Лишь велел отъехать к войску князю Василию Голицыну. Нечего ему в Москве портки протирать.
В тот же день за обеденной трапезой Годунов сказал Басманову:
– Тебе, боярин Петр Федорович, верю. Ты измены на меня не затаишь.
У Басманова глаза преданные.
– От добра, государь, добра не ищут. Ты меня возвеличил, тебе и служить буду до скончания.
Борис уловил, как Ксения глянула на боярина, сказал:
– По всему видать, боярин Басманов, быть тебе в родстве с государем. Изничтожим вора, уймем смуту и женим тебя.
Басманов на царевну ласково посмотрел.
Семен Никитич Годунов, царские слова заслышав, метнул на боярина Петра суровый взгляд. А когда покидали Трапезную, словно невзначай, обронил:
– В великую честь входишь, боярин Басманов. Уж и не пойму, отчего к тебе щедр царь Борис? Аль вора боится? Будто и впрямь настоящий царевич Димитрий Москве грозит…
И понес к выходу седую голову на широких плечах.
Боярин Басманов от неожиданности остановился. Что и помыслить теперь, коли царский дядька и тот засомневался в самозванстве Отрепьева?
* * *
На московских заставах сторожа рьяные. Куда пришлый человек ни сунется, всюду допросы с пристрастием: откуда и зачем в Москву-город явился? Кого в чем заподозрят, в приказ волокут для дознания.
Артамон, к Москве подходя, в толпу нищих и калек затесался, с них, известное дело, спрос меньше. Поравнялись с заставой. Из будки сторож высунулся, глянул на толпу строго:
– А, Божьи угодники! – И сплюнул сквозь зубы. – Без вас, побирушек, Москва не Москва!
Но в город впустил.
Артамошка по Москве не бродил, сразу же в Кузнецкую слободу направился. По пути успел заметить, мертвые на улицах не валяются, как три года назад. Прошлое лето выдалось доброе, урожайное, и отступили голод и мор.
Вот и слобода. Тихо, безлюдно. Колодец с замшелым срубом и журавлем, на одном конце булыжник привязан, на другом шест с темной от влаги и времени бадейкой. От колодца рукой подать до кузницы Демида. Вон крыша дерном крыта. За кузницей изба, старый тополь…
Подошел Артамошка поближе. От тревожного предчувствия сжалось сердце. Наглухо закрыты двери кузницы, сразу видно, никто не открывал их. Бурьян-сухостой у самых дверей в рост человека вымахал.
Обогнул Артамон кузницу, вошел в избу. Крыса человека не испугалась, как сидела посреди избы, так и продолжала сидеть. Артамошка нагнулся, поднял ком земли, запустил в нее. Она не торопясь убежала в нору.
Осмотрелся Акинфиев: бычий пузырь на оконце выдавлен, солома совсем сгнила и провалилась. Местами в дыры видно небо. Вспомнилось Артамону, как в голодные дни Демид, бывало, надергает из крыши соломы, потрет в порошок и добавляет в муку, когда печет лепешки. По всему видать, давно не живет здесь Демид.
Обернулся Артамошка, узнал в вошедшей Агриппину, сестру кузнеца Ивана, чья кузница была по соседству с Демидовой. Маленькая, глазастая, смотрит и смеется.
– Дивуешься? Я тебя, Артамон, узнала, когда ты мимо моей избы проходил. Где ты пропадал, куда ноги носили? – И, не дожидаясь ответа, сказал: – Нет Демида. Вскорости, как ты от него ушел, замерз под забором у князя Шуйского. А я прошлым летом брата Ивана схоронила.
– Да, вести не радостны, – почесал затылок Артамошка. – Ты-то как живешь, чем кормишься?
– Жизнь наша известная, потужила, ан живой в яму не заляжешь. Огородом пробиваюсь, капустой, морковкой. Лук уродился. Обо всем сказывать, много времени надобно. Пойдем-ка лучше ко мне в избу, оголодал небось. Вдвоем удумаем, как жить тебе? Аль ты и сам знаешь? – Агриппина заглянула Артамону в глаза. Тот плечами пожал.
– Не ведаю. На Москву пробирался, мыслил у Демида кузнечному ремеслу обучиться, а тут, вишь, кака беда… Половину земли российской обошел, горем людским пресытился, а чем промышлять дале, не знаю.
* * *
Топчут казачьи и шляхетские кони апрельскую землю копытами, сметают длинными хвостами последний снег в низинах. Куда устремят они свой бег?
Указал самозванец путь на Москву, но царская рать сильна. Стрельцы пятятся, огрызаясь больно.
Беглые холопы рассказывали, Годунов объявил новый набор в войско. О том повсюду читают царский указ.
Знал Отрепьев, по теплу, когда явится в царские полки пополнение, счастье может изменить ему, и тогда первыми покинут его шляхтичи. Они идут с ним, надеясь на легкие победы и большую поживу. Потом уйдут казаки, разбегутся холопы.
Польско-литовские паны укроются в Речи Посполитой, казаки – на Дону и в Запорожье, холопов, кого изловят царевы слуги, тех казнят люто, кто в лесах затаится. А куда Отрепьеву податься? В Речь Посполитую нельзя, король и вельможные паны, замирившись с Годуновым, выдадут его московскому царю. Бежать с казаками? Зачем? Он нужен был им как царевич… Те из бояр и дворян, кто изменил Годунову, и ныне служат ему, такие, как князь Татев либо дворянин Хрущов, эти поспешат головой Григория вымолить у Бориса себе жизнь. И кто ведает, может, они уже сегодня готовят ему измену?
Мысль обо всем этом страшила Отрепьева, но на людях он не подавал вида, держался уверенно.
* * *
С тех моровых лет сильно поубавилось мастеровых в кузнечном ряду. Не одна кузница заросла высоким бурьяном, не чадят горны. Кузнечное ремесло не обычное, враз кузнецом не сделаешься. И то-то было удивление, когда распахнулись широкие двустворчатые двери Демидовой кузницы. Ожили, задышали кожаные мехи, застучал молот по наковальне.
Со всей слободы собрался народ поглазеть, кто это в Демидовой кузнице хозяйничает. Увидев, хихикали, злословили:
– Гляди-тко, Агриппина!
– Ох, уморила! Отродясь такого не случалось, баба – кузнец!
Артамон на зубоскалов внимания не обращал, знай себе молотом помахивал, на иное он в кузнечном ремесле не горазд.
Подкатил молодой боярин, из возка выпрыгнул, в кузницу заглянул – и в глазах озорство:
– Ай да потеха! Кузне-ец!
На Агриппине поверх сарафана фартук кожаный старый, братов, волос тесьмой перетянут, чтоб не рассыпался.
– Ты, боярин, не насмехайся, в деле испытай.
– Во какая! – Волосы у боярина редкие, белесые, а глаза с косинкой. – Языкаста. У меня колеса на возке сыпятся и конь расковался.
Обошла Агриппина возок, потрогала колеса. Потом коню ногу подняла.
Толпа затихла, ждет ответа. Агриппина ладони о фартук вытерла, сказала спокойно:
– На возке колеса еще годные. Разве только левое заднее. А вот коня подковать давно след. Коня, боярин, беречь надобно. – И позвала Артамона: – Выпряги коня да сними колесо.
Люд от кузницы не расходился, покуда Агриппина колесо чинила и коня подковывала. А когда она молоток отложила и боярин кошель вытащил, весело загалдели:
– Ужо держись, мужики-кузнецы! Это она по новине, а как поднатореет…
– Вот те и баба!
– Чать, у братца Ивана хватку переняла!
* * *
В воскресный день казнили на Красной площади холопов, каких в лесах изловили, и тех, кто в Москве ратовал за царевича Димитрия. Рубили им головы, рвали языки. Не подстрекайте люд против царя Бориса!
Со всей Москвы согнали народ казнью полюбоваться. У бояр и здесь места почетные, сразу же, за стрелецким караулом.
В то утро Артамошка с Агриппиной на торг выбрались. Так просто, поглазеть. После голодных лет торг помаленьку оживал, и по рядам бойкие торговки зазывали на пирожки, орали сбитенщики, стучали топоры мясников.
А как приставы люд на Красную площадь погнали, Артамошку с Агриппиной тоже завернули. Они вблизи помоста очутились и казнь от начала до конца видели. Сначала дьяк наперед ступил, свиток развернул, загундосил, потом палачи свое вершить начали.
Агриппина глаза пялит, лицо бледное.
– Ты не гляди на страхи-то, Агриппина, не гляди, – шепчет Артамошка.
Проехал через стрелецкое ограждение боярин Семен Никитич Годунов. У помоста коня остановил, крикнул зычно:
– Памятуй, люд, как государевых ослушников карают!
– Аль Москву удивить мыслишь? – дерзко выкрикнули из толпы. – Мы к казням привычны!
Боярин Годунов в толпу глазами впился, норовя узнать, кто голос подал. Да куда тут. Семен Никитич в сердцах махнул плеткой:
– Делайте свое, палачи!
– Погодь, Семенка! – снова раздался из толпы голос. – Явится царевич Димитрий!
– Кто тут народ смущает? – насупился Годунов и приподнялся в стременах.
На площади шум поднялся, крики. Артамошка с Агриппиной с трудом из толпы выбрались и, обогнув Покровский храм, спустились к Москве-реке. Шли молча. Дул теплый апрельский ветер, пробивалась трава на склонах. Весна катилась на Москву, но Артамошке с Агриппиной было не до этого.
– Нагляделась, тошнит, – сказала Агриппина и села на камень-валун у самого берега. – Люто. Палачами народ стращают. А имя царевича и перед плахой поминали, слыхал?
Молчал Артамошка, не отвечал. Устал он. За свою жизнь намотался по свету. Выбили из него веру в царевича. Теперь Артамону покоя бы и работы. Вдвоем с Агриппиной пробивались они помаленьку кузнечным ремеслом. Не голодны, и на том спасибо.
– Что рта не открываешь?
– О чем говорить, едрен-корень? Борис ли, Димитрий – холопам одна честь.
Не хотелось ему рассказывать, как расправился с ним царевич за пана Дворжицкого. Нет, Артамошка никогда не забудет, какие слова произнес Димитрий в тот час: «…дабы иным холопам неповадно было!»
– Передохнула? – спросил Артамон. – В таком разе поспешаем, а то ненароком царские ярыжки наскочат, к ответу поволокут за то, что казнь не до конца выстояли. Вот и будет нам лихо.
* * *
Думы о смерти не покидали Бориса. Тщетно гнал он их. Они назойливо лезли в голову. В тревожном забытьи тянулись ночи. Днем ломило затылок и виски, в очах кружение…
Смерть страшила Годунова. Бывали моменты, когда Борис видел ее. Она посещала его ночью, останавливалась у постели, смотрела на него пустыми глазницами.
Вот и сегодня Годунов маялся. В опочивальне от тлеющей в углу лампады полумрак. Скрипнула дверь. Борис вздрогнул, приподнял голову над подушкой. Смерть снова пришла к нему. Она тихо приблизилась в белом одеянии. Годунов мучительно застонал, и смерть засмеялась.
– О Господи! – просил Борис и выставлял наперед руки. – Доколь такое будет…
Утра дожидался с нетерпением. Оно наступило не скоро. С рассветом вздремнулось маленько.
Утром, едва глаза раскрыл, явился Семен Никитич Годунов с докладом о казни татей, какие распускали всякие слухи.
Борис дядьку выслушал, кивнул одобрительно:
– Искореняй их, боярин, яко плевел.
В Крестовой палате дожидались государя бояре, а он до самого обеда, закрывшись в Тронной, вел долгий разговор с сыном. Никто им не смел мешать. Сидели рядышком, плечо к плечу. Отец грузный, под глазами темные набрякшие мешки, а в смолистых волосах полно седины. Сын помельче в кости, борода русая, курчавится.
– Недужится мне, сыне, – сказал Борис.
Федор насупил брови. Годунов покосился на него, подумал, что вот сию минуту сын лицом особливо похож на деда Скуратова. Вслух же иное проговорил:
– Хочу, сыне, чтоб знал ты. Жалуюсь я на недуг не оттого, что ищу твоего участия ко мне. Нет! Чую смерть свою.
Вскинул Федор глаза на отца:
– Не надобно об этом, отец. Не желаю слышать о твоей смерти!
Борис усмехнулся:
– Я, сыне, тоже жить хочу, как и все. Однако не от нас сие зависит. Так уж устроено на грешной земле: одни умирают, другие рождаются. Я же тебе о смерти своей говорю неспроста. После меня ты станешь царем, а время смутное, и тебе опора добрая потребна. Ищи ее в патриархе Иове да в родне нашей, годуновской. Особливо в Семене Никитиче… Еще верным слугой будет тебе боярин Петр Басманов. Он разумен и в делах ратных искусен, ты и сам то ведаешь. Я бы его давно воеводой поставил над войском – доколь Шуйскому с Мстиславским раком от самозванца пятиться, – но опасаюсь именитых бояр. Не знатного Басманов рода, а выше их, Рюриковичей, поставлен. Ох-хо!







