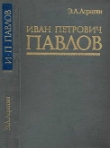Текст книги "И.П.Павлов PRO ET CONTRA"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 61 страниц)
хр. 14476. 15. БончБруевич В. Д . Об отношении В. И. Ленина к деятелям науки и
искусства // На литературном посту. 1927. № 20. 16. Письмо Правления делами Комиссии по снабжению рабочих при
Наркомпроде РСФСР в Секретариат СНК от 31 января 1921 г. //
ГАРФ. Ф. 130. Оп. 5. Ед. хр. 633. Л. 25. 17. Письмо Митрофанова об отказе Павлова принять спецпаек // Рос
сийский Центр хранения и изучения документов новейшей истории.
Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 125. 18. Babkin B. P . Pavlov Biography. Chicago, 1949. P. 113. 19. Самойлов В. О., Виноградов Ю. А. Иван Павлов и Николай Буха
рин // Звезда. 1989. № 10. С. 94—121.
* СанктПетербургский филиал Архива Российской Академии наук. 20. Гредескул Н. А . Условные рефлексы и революция // Звезда. 1924.
№ 3. 21. Письмо Павлова Бухарину 27 декабря 1931 г. // СПФ АРАН.
Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 42. 22. Письмо И. П. Павлова о революции – [б. д.] // СПФ АРАН. Ф. 259.
Оп. 1а. Ед. хр. 38. Л. 1. 23. Письмо И. П. Павлова в Биологическую группу АН СССР. 30 мая
1932 г. // Переписка И. П. Павлова. Л., 1970. С. 39. 24. Интервью Павлова // Известия. 1934. 27 сентября. 25. Письмо И. П. Павлова в Химическую группу Академии наук СССР.
3 сентября 1930 г. // СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1930. Ед. хр. 3. Л. 420. 26. Записка И. П. Павлова по поводу системы выборов в АН СССР —
после 17 января 1928 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 14.
Л. 1. 27. Ольденбург Е. Г . Записка о работе Сергея Федоровича в качестве
непременного секретаря АН в 1928—29 . // АРАН. Ф. 208. Оп. 2.
Ед. хр. 57. 28. Письмо А. П. Карпинского В. М. Молотову // СПФ АРАН. Ф. 265.
Оп. 3. Ед. хр. 23. Л. 3—3 об. 29. Письмо И. П. Павлова в СНК СССР по поводу ареста профессоров
Д. Н. Прянишникова в Москве и А. А. Владимирова в Ленинграде.
20 августа 1930 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 19. 30. Вступительное слово на торжественном заседании Общества россий
ских физиологов по случаю столетней годовщины со дня рождения
И. М. Сеченова 26 декабря 1929 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1.
Ед. хр. 207. Л. 6—7. 31. Письмо И. П. Павлова в СНК СССР по поводу системы выборов в АН
17 октября 1928 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 18. Л. 2. 32. Письмо И. П. Павлова к акад. Н. С. Державину о своем взгляде на
подписку на заем 7 мая 1934 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед.
хр. 29. Л. 1. 33. Письмо И. П. Павлова наркому здравоохранения Г. Н. Каминско
му // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 4. Ед. хр. 209. 34. Черновые записки И. П. Павлова во время болезни – [б. д.] // СПФ
АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 39. Л. 23 об. 35. Крепс Е. М . Иван Петрович Павлов и религия // И. П. Павлов в вос
поминаниях современников. Л., 1967. С. 131. 36. Петрова М. К . И. П. Павлов. Черновой материал к статье // СПФ
АРАН. Ф. 767. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 8. 37. Черновой набросок письма И. П. Павлова В. М. Молотову // СПФ
АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 39. Л. 20 об. 38. Ответ В. М. Молотова И. П. Павлову на его письмо от 8 декабря
1935 г. по вопросу об ограничениях в отношении детей лиц из ду
ховенства 28 декабря 1935 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед.
хр. 37. Л. 1—2. 39. Нестеров М. В . И. П. Павлов и мои портреты с него // И. П. Пав
лов в воспоминаниях современников. Л., 1967. С. 338. Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 685 40. Бухарин Н. И . Памяти великого ученого // Известия. 1936. 28 фев
раля. 41. Семашко Н. А. // Прожектор. 1934. № 10/344. 42. Служебная записка и письмо Лен.отделения Коммунистической
академии при ЦИК СССР с приложением статьи «Рефлекторная
теория в свете теории отражения Ленина» и письма Н. Н. Никити
на 23 февраля 1932 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 22.
Л. 2—3. 43. Бухарин Н. И . Письмо Н. И. Бухарина В. В. Куйбышеву // Вопро
сы истории КПСС. 1988. № 11. С. 44. 44. Три письма Н. И. Бухарина И. П. Павлову // СПФ АРАН. Ф. 259.
Оп. 1а. Ед. хр. 41. Л. 4—4 об. 45. Интервью И. П. Павлова // Известия. 1935. 25 августа. 46. Моисеев Н. Н . С мыслями о будущем России. М., 1977. С. 69, 70,
73. 47. Выступление на научном заседании Института физиологии и пато
логии высшей нервной деятельности (начало «среды») 6 февраля
1935 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 112. Л. 1. 48. Письмо И. П. Павлова В. И. Репиной, дочери И. Е. Репина (1930) //
СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 2. Ед. хр. 1078. Л. 1. 49. Выступление И. П. Павлова на заседании Общества русских врачей
в память о Д. И. Менделееве // Мозжухин А. С., Самойлов В. О.
И. П. Павлов в Петербурге—Ленинграде. Л., 1977. С. 15. 50. Письмо И. П. Павлова Ю. В. Каннабиху // Самойлов В. О., Мозжу
хин А. С. Павлов в Петербурге—Петрограде—Ленинграде. Л., 1989.
С. 233. 51. Ответ на приветствия при посещении г. Рязани в августе 1935 г. //
Павлов И. П. ПСС. М.; Л., 1951. Т. 1. С. 20. 52. О перспективах работы в 1935 г. (интервью газете «Известия»,
№ 157, 6 июля 1935 г.) // Павлов И. П. ПСС. М.; Л., 1951. Т. 1.
С. 15. 53. Интервью И. П. Павлова // Известия. 1935. 18 августа. 54. Речь И. П. Павлова при открытии XV Международного конгресса
физиологов // Павлов И. П. ПСС. М.; Л., 1951. Т. 1. С. 17. 55. Отклики иностранцев о СССР // За рубежом. 1937. № 11. 56. Майский И. М . Павлов в Англии // И. П. Павлов в воспоминанияхсовременников. Л., 1967. С. 334.
* Статья опубликована в журнале «History and Philosophy of the Life
Science» (1995. N 17. Р. 379—418). Русский перевод опубликован в
журнале «Вопросы истории естествознания и техники» (1998. № 3.
С. 26—59).
Д. ТОДЕС
Павлов и большевики *
Павлов наш целиком, и мы егоникому не отдадим.
Николай Бухарин (1936)
В сентиментальном и одновременно воинствующем некроло ге Николай Бухарин объявил Ивана Павлова достоянием рево люции. Павлов – «наш целиком», писал большевистский лидер, по его материалистическим взглядам в «решающих пунктах» его учения и «потому, что он после большой внутренней борьбы, со мнений, колебаний признал историческую правоту нашего де ла» [1]. В последующие пятьдесят лет советская историография, следуя Бухарину, пересказывала простую и показательную ис торию о великом ученом, который, верный своим представлени ям об объективности, окончательно преодолел предубеждения в признании успехов советского эксперимента. Соглашаясь с тем, что Павлов первоначально «не понял» революции, стандартный советский рассказ быстро переключался от краткого периода так называемого заигрывания Павлова с идеей об эмиграции к щед рой поддержке ученого государством после декрета Ленина в 1921 г. и торжественно завершался воодушевленной похвалой знаменитого физиолога в адрес большевистской власти на Меж дународном физиологическом конгрессе (1935) и в его «Обраще нии к молодежи» (1936).
Тенденциозность этого официального рассказа была хорошо известна ряду ученых России. Начиная с 1989 г. В. Есаков, В. Самойлов и Ю. Виноградов, воспользовавшись преимуществами периода «гласности», обратились к обсуждению прежде закры тых материалов, что перевернуло привычный советский миф с ног на голову. Страстная критика Павловым политики больше виков в 1920—1934 гг. стала стержнем новой версии притчи об ученом, созвучной демократическим чаяниям русской интелли генции времен перестройки. Триумфальное завершение отбро шенного советского варианта – поддержка Павловым политики большевиков накануне его смерти – обернулось загадочным и вызывающим некоторое замешательство эпизодом *.
В этой статье я использую архивные материалы, чтобы понять сложные отношения между авторитарным государством и все мирно известным ученым в их развитии. С моей точки зрения, эти материалы показывают, как отношения между Павловым и большевиками складывались в противоречивое сотрудничество, движимое с обеих сторон различными интересами, идеологией и средствами. Это история не только о моральном и идеологиче ском противостоянии, но и о сложных взаимосвязях между со здателем научной империи и ее государственным патроном.
* Задолго до периода гласности Н. М. Гуреева и В. Л. Меркулов широ
ко использовали скрытые от глаз советской общественности архи
вные материалы во втором томе «Летописи жизни и деятельности
академика И. П. Павлова», в котором подробно освещалась жизнь
Павлова после Октябрьской революции. Этот прекрасный том остал
ся неопубликованным, в настоящее время рукопись находится в
материалах личного архива Меркулова. В 1972 г. В. Есаков сделал в
Комиссии по документальному наследию И. П. Павлова также хоро
шо документированный доклад о переговорах Павлова с большеви
ками об эмиграции. Ему удалось опубликовать этот доклад только в
1989 г. [2]. В настоящей статье используются интервью со знакомы
ми и коллегами И. П. Павлова, записанные на магнитофон в 1960—
1980 гг. Ю. А. Виноградовым. Так как выявленные Виноградовым
воспоминания не вписывались в официальную историографию, эти
интервью тоже не подлежали публикации. В. О. Самойлов занимал
ся исследованием архивных материалов годами, но смог открыто ис
пользовать их только в 1989 г. [3—5]. Писатель Борис Володин так
же собрал и изучил большое количество материалов о Павлове и
большевиках, но смог опубликовать исследовательские очерки толь
ко о жизни Павлова до Октябрьской революции. Когда я в 1990 г.
начал собственные архивные разыскания, я был поражен, обнару
жив чрезвычайно интересные и, как я думал, неизвестные материа
лы, которые как будто ждали меня. Но во многих случаях в листах
использования документов я увидел подписи этих исследователей,
просмотревших их задолго до меня. На их публикации в соответству
ющих местах сделаны ссылки. См. также [6]. 688 Д. ТОДЕС
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НАКАНУНЕБОЛЬШЕВИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В октябре 1917 г. Иван Петрович Павлов (1849—1936) был ученым с мировым именем, его взгляды и политические убеж дения за 68 лет жизни вполне сложились – сциентизм *, усво енный в юности, самодисциплина и профессиональный успех, до стигнутые в период зрелости, и пылкий, но противоречивый патриотизм, закалившийся в последние десятилетия царской России.
Во время учебы в семинарии в 1860е гг. Павлов страстно защищал радикальный сциентизм, пропагандировавшийся Дмитрием Писаревым и другими шестидесятниками. Нарушив семейные религиозные традиции, он поступил в Петербургский университет и стал учиться на естественном отделении физико математического факультета. Его приверженность науке про должала укрепляться, но радикализм быстро угас. В универси тетские годы конфликт со студентами и коллегами прервал карьеру глубоко уважаемого и любимого им учителя – физио лога И. Ф. Циона. Эта история оставила Павлова без наставни ка и оттолкнула его от либеральной интеллигенции.
Последние десятилетия царской России были благоприятны ми для Павлова. В 1890 г. он стал экстраординарным профессо ром на кафедре фармакологии в Петербургской военномедицин ской академии. Годом позже принц Ольденбургский назначил его заведующим отделом физиологии во вновь созданном Инсти туте экспериментальной медицины. За исследования по физио логии пищеварения в 1890х гг. Павлов был удостоен Нобелевской премии (1904). Через три года он был избран действительным членом Академии наук и получил в свое распоряжение третью лабораторию. В эти годы ученый с женой и четырьмя детьми жил в просторной квартире, коллекционировал книги и картины, а лето проводил на даче в Лифляндии, где плавал, ездил на вело сипеде и общался с культурной элитой. Самым главным для Пав лова, однако, была его научная империя, которой он управлял в твердых патриархальных традициях, вдохновенно продолжая свои исследования по условным рефлексам **.
* Вера в решающую роль науки в совершенствовании природы, обще
ства и человека.
** О научном стиле Павлова и организации деятельности его научных
лабораторий в период работы ученого над проблемами пищеварения
см. [7]. Павлов и большевики 689
Павлов считал себя «русским либералом» [8, л. 29], но под держка им постепенной эволюции к конституционной монархии относила его вправо от партии конституционных демократов (кадетов) – партии, популярной среди его коллег. Впрочем, у него не было ни времени, ни склонности к политической деятель ности. Однако потрясенный поражением России в русскояпон ской войне, он во время революции 1905 г. принял участие в организации нелегального союза профессоров, за что попал в черный список царской тайной полиции [9, л. 3]. Спустя неко торое время после этого он серьезно намеревался выставить свою кандидатуру в члены Думы от партии октябристов, но ничего из этого не вышло *.
* См. [10, л. 1—2]. Я благодарю Элеонору Филиппову за выявление
этого письма и сообщение мне его содержания.
Вскоре разочарованный в политике Павлов «замкнулся в научноисследовательской работе» **.
** Записано А. А. Сергеевым со слов семейного доктора Павловых. См.
[11, л. 6].
Характерными чертами его идеологии были сциентизм и то, что один из его знакомых назвал «государственным патриотиз мом», – отождествление себя с «достоинством и интересами ро дины» [12, л. 4]. Вместе с тем этот «государственный патрио тизм» сосуществовал у Павлова с убеждением, что, возможно, в силу исторических причин «русский тип» уступает в сравнении с английским и немецким типами. В 1916 г. он писал: «Когда отрицательные черты русского характера: леность, непредпри имчивость, равнодушное или даже неряшливое отношение ко всякой жизненной работе навевают мрачное настроение, я гово рю себе: нет, это не коренные наши черты, это – дрянной нанос, это проклятое наследие крепостного права» [13, с. 312].
Первая мировая война воспламенила патриотизм Павлова. В своей вступительной лекции в начале 1914/15 академического года и в последующих лекциях он горячо одобрял цели России в войне и с горьким сожалением говорил о продолжающихся по ражениях русской армии ***.
*** Зимницкий М. Ф. Интервью, записанное Ю. А. Виноградовым 13 ап
реля 1968 г. Данное интервью, а также другие интервью, записан
ные на магнитофон Ю. А. Виноградовым и упоминаемые далее в тек
сте, хранятся в особой коллекции АРАН ПО в разряде XVI.
Два его сына были на фронте, и он жадно следил за ходом военных событий и убеждал своих кол лег, что, «если бы не мой возраст, я все бы бросил и поступил добровольцем в армию» [14, л. 2; 15, л. 50]. Когда поражения обернулись полным разгромом, он презрительно называл Николая II «дураком» и «вырожденцем» *. Поглощенность события ми на войне отдалила его от коллеглибералов по кадетской партии, и он негодовал в ответ на попытки вовлечь его в их ряды: «Да разве вы не понимаете, что совершаете преступление, уст раивая переворот во время войны! Ведь это к добру не приведет! Нет, никогда я не приму участия в погибели моей родины!» [17, л. 221].
К свержению царя в феврале 1917 г. Павлов отнесся «в выс шей степени пессимистически» [15, л. 61]. Однако он объявил о своей лояльности по отношению к Временному правительству и был воодушевлен обещанием правительства расширить свободы и оказать содействие развитию науки **. Углубление социально го брожения и поражения на фронте вскоре оправдали его самые серьезные опасения.
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1917—1921)
Павлов воспринял большевистскую революцию с болью и ужасом. «Он говорил постоянно о гибели родины, – вспоминал один из его близких друзей, – враждебно и недоверчиво отно сился к большевикам, открыто выражая свое неудовольствие “различным их мероприятиям”» [15, л. 148]. Эти чувства разде лялись большинством его коллег. Военномедицинская академия и Институт экспериментальной медицины приняли в ноябре 1917 г. резолюцию, в которой обличались «насильники, захва тившие власть» ***. Враждебность Павлова усиливалась по мере роста анархии и материальных лишений вследствие большеви стской «механической, централизующей все» политики по от ношению к науке, предоставления независимости отдельным частям царской России и подписания Россией в марте 1918 г. «постыдного», по мнению Павлова, сепаратного мирного дого вора с Германией. Прощаясь с ушедшим из жизни другом, на его похоронах Павлов сокрушался и о судьбе России: «Я завидую тебе. Ты более не видишь… все растущего раздирания и опозоре ния родины…» [20].
* Конради Г. П . Интервью, записанное Ю. А. Виноградовым 18 июня
1969 г. В «Русском уме» (1918) Павлов снова охарактеризовал Ни
колая II «вырожденцем» [16, л. 18].
** Об одобрении Павловым признания ИЭМом нового правительства см.
[18, л. 11 об.].
*** Фраза из резолюции, принятой Академией наук и вскоре одобрен
ной ИЭМом [19, л. 288]. Павлов и большевики 691
Революция вскоре коснулась семьи и самого Павлова. Один из его сыновей, Всеволод, офицер, сообщал своим родителям с фронта об унижении офицеров и об «анархическом урагане», пожиравшем армию [21]. Вскоре он присоединился к «белому движению». Другой сын, Виктор, отправился в таинственную поездку на территорию, занятую белыми, и, заразившись по до роге тифом, скончался *. Во время «красного террора» 1918– 1920 гг. ВЧК несколько раз производила обыски в доме ученого и на короткое время арестовала и Павлова, и его старшего сына Владимира **. Политических арестов не избежало и ближайшее окружение Павлова, включая его друга, бывшего директора ИЭМа С. М. Лукьянова ***.
Гражданская война между красной и белой армиями (1918– 1921) сделала условия жизни на всей территории России ката строфическими, очень трагично они сложились и в «голодном Петрограде» ****. Жизнь петроградских ученых стала невыно симо тяжелой. Правительство большевиков, само на грани вы живания, почти не выделяло средств на поддержание научного сообщества, которое, по его мнению (не лишенному оснований), было политически враждебным. Из своей просторной квартиры академического дома на 7й линии Васильевского острова Пав лов видел бедственное положение русской ученой элиты. Два академика, жившие в том же доме, умерли от холода и голода: другие беспомощно наблюдали, как коммунистические власти подселяли в их квартиры жилтоварищей *****. Павлов сам за нимался поиском дров и кормил семью с огорода, устроенного
* Виктор вез с собой письмо от Совета Народных Комиссаров, удо
стоверявшее, что он занимается сбором продуктов для своего отца,
«гордости русской и мировой науки» [22, л. 8]. В своих мемуарах
М. К. Петрова намекает, что Виктор намеревался присоединиться к
белой армии [15]. Г. А. Билов, который встретил Виктора на желез
нодорожной станции, утверждает, что он собирался лишь продол
жить научную работу вместе с членами факультета Новороссийского
университета (из интервью с Биловым, записанного Ю. А. Виногра
довым в октябре 1967 г.).
** Рассказ об обыске в доме Павлова, который закончился арестом
Владимира, см. [17, л. 380].
*** Лукьянов был арестован в ноябре 1919 г. [23, л. 21]. О других арес
тах в ИЭМ см. [24]. **** СанктПетербург был переименован в Петроград в 1914 г., в Ленин
град – в 1924 г. и в СанктПетербург – в 1991 г. ***** О возмущенной реакции президента Академии наук см. его письмо
в Народный комиссариат просвещения в марте 1919 г. [25, л. 448]. 692 Д. ТОДЕС им на территории Института экспериментальной медицины. Его Нобелевская премия была реквизирована, так же как и золотые медали, которые он получил в Петербургском университете и Академии наук.
К 1918 г. работа в лабораториях Павлова практически оста новилась, прекратились находящиеся на взлете исследования по условным рефлексам. Число ассистентов, собак и количество продовольствия для тех и других сократились до минимума. Он жаловался одному из коллег на то, что его лаборатории не могут больше обеспечивать демонстрации опытов на лекциях, не гово ря уже об исследованиях. «Работа почти совсем прекратилась, – писал ученый, – а приближается мрачная и холодная зима. Све чей и керосина нет, и электричество подается на ограниченное количество часов. Плохо, очень плохо. Когда же наступит пово рот к лучшему?» [26, л. 7—8].
Павлов выразил свое отношение к революции большевиков в том же году в серии публичных лекций. Названные «Об уме вообще», «О русском уме» и «Основа культуры животных и че ловека», эти лекции, в основу которых были положены его ис следования по условным рефлексам, объясняли национальную трагедию России слабостью «русского типа». Их тон очевиден из вступления к его первой лекции: «Если я, в теперешнем своем виде, никогда не певший, никогда не протягивавший голос для пения, никогда пению не учившийся, – воображу, что я обла даю приятным голосом и что у меня исключительное дарование к пению, – и начну угощать моих близких и знакомых ариями и романсами, – то это будет только забавно. Но если целый на род, в своей главной низшей массе недалеко отошедший от раб ского состояния, а в интеллигентских слоях большею частью лишь заимствовавший чужую культуру, и притом не всегда удачно, народ, в целом относительно мало давший своего само стоятельного и в общей культуре, и в науке, – если такой народ вообразит себя вождем человечества и начнет поставлять для других народов образцы новых культурных форм жизни – то мы стоим тогда перед прискорбными, роковыми событиями, кото рые могут угрожать данному народу потерей его политической независимости» [27, л. 1—1 об.].
Он относил эти «прискорбные, роковые события» – включая Февральскую и Октябрьскую революции, позицию Троцкого в мирных переговорах с Германией и распад Российской импе рии – на счет фундаментальной слабости «русского ума». Рус ские не были реалистами, настаивал Павлов; они были склонны Павлов и большевики 693 к экстремальным обобщениям, пренебрежению фактами и отсут ствию дисциплины.
Наглядным примером, по мнению ученого, был большевизм. В то время как европейские социалдемократы резонно стреми лись защищать интересы рабочих, русские социалдемократы довели это до диких крайностей и абсурда: «Мы загнали эту идею до диктатуры пролетариата. Мозг, голову поставили вниз, а ноги вверх. То, что составляет культуру, умственную силу нации, то обесценено, а то, что пока является еще грубой силой, которую можно заменить и машиной, то выдвинули на первый план. И все это, конечно, обречено на гибель как слепое отрицание дей ствительности» [16, л. 13 об.—14].
Ссылаясь на лабораторные эксперименты с собаками, Павлов утверждал, что «правильное соотношение с окружающим ми ром» требует равновесия между «возбуждением, или свободой в широком смысле», и «торможением, или дисциплиной, уздой» [8, л. 24]. Англичане и немцы представляют модель такого ба ланса, а русским всегда не хватает дисциплины. Результаты этого были особенно драматичны «в наше революционное вре мя».
«Это великолепная и ужасная иллюстрация. Что такое рево люция вообще? Это есть освобождение от всех тормозов, о кото рых я говорил, это есть полная безудержность, безуздность. Были законы, обычаи и т. п. Все это теперь идет насмарку. Старого не существует, нового еще нет. Торможение упразднено, остается одно возбуждение. И отсюда всякие эксцессы и в области жела ния, и в области мысли, и в области поведения».
Отсутствие торможения, считал Павлов, сказывалось во всех проявлениях русской жизни, от протестов студентов и ассистен тов лабораторий против власти опытных профессоров до восста ния национальных меньшинств империи против русского госу дарства.
«Какой же в этом толк? Когда мы вместе, мы обладаем сила ми, а в отдельности с нами расправится всякий, кто сильнее. Так оно уже и есть. Какой же смысл в этом отделении? Все челове чество стремится к слиянию, а мы стремимся к тому, чтобы жить врозь. Ясно, что наши стремления не отвечают потребностям человечества, а являются лишь результатом того, что с нас сня та узда. Это есть проявление вольности, свободы без всякого уча стия другой половины жизни – дисциплины, торможения» [8, л. 41—43].
В этих публичных лекциях проявляется антропоморфическое начало в мышлении Павлова, противореча его тщательно куль 694 Д. ТОДЕС тивируемому образу чистейшего объективиста. Торможение и возбуждение у Павлова становились центральными понятиями в учении о высшей нервной деятельности, и метафоричная связь между торможением и дисциплиной, с одной стороны, и возбуж дением и свободой – с другой, я думаю, играла важную роль и в его научных исследованиях, и в оценке им политических ситу аций *.
Эти речи ярко отразили отношение Павлова к революции, которую он связывал с хаосом разрушения, крахом русского национального могущества, угрозой автономии и гибели вообще русской науки и потерей своего собственного социального поло жения и привилегий.
УЕХАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ?
В апреле 1918 г. Павлов говорил о «самом разгаре большеви стской власти» в прошедшем времени, полагая, как и многие другие, что большевики вскоре будут изгнаны [16, л. 4 об.]. Од нако в период между октябрем 1919 г. и весной 1920 г. ход граж данской войны в России повернулся решающим образом в пользу Красной Армии [29, с. 423].
Думая о перспективе провести остаток жизни при большеви стской власти, Павлов послал в июне 1920 г. в Совнарком про низанное болью письмо, прося разрешения «начать переписку (хотя бы контролируемую) с моими заграничными научными то варищами и друзьями о приискании мне места вне родины» **. Он объяснял, что продолжать научную работу в России невоз можно. Ученый жаловался на «непреодолимые материальные затруднения всякого рода в теперешних русских лабораториях и отсутствие общения, связи со всесветной научной работой». Он не мог работать продуктивно также и потому, что жалования, получаемого им за его три академические должности, было не достаточно для поддержания семьи: «Я принужден исполнять в соответствующий сезон работу огородника, в мои годы не всегда легкую, и постоянно действовать дома в роли прислуги, помощ
* Роджер Смит дает широкий анализ концепции торможения в своей
прекрасной книге [28].
** См. [30]. Архивные документы, касающиеся вопроса об эмиграции,
были впервые тщательно исследованы В. Есаковым, который в
1972 г. сделал на эту тему доклад (изза советской цензуры публи
кация была невозможна). Исаков опубликовал этот материал, вклю
чая многие из документов, цитируемых ниже, в статье [2]. Павлов и большевики 695 ника жены по кухне и содержанию квартиры в чистоте, что все вместе отнимает у меня большое и лучшее время дня. Несмотря на это, мне и жене приходится питаться плохо и в количествен ном и в качественном отношениях и годами не видеть белого хлеба, неделями и месяцами не иметь ни молока, никакого мяса, прокармливаясь главным образом черным, большею частью не доброкачественным хлебом, пшеном, тоже плоховатым, и т. п., что, естественно, ведет к нашему постоянному похуданию и обес силеванию. И это после полувековой (поденнейшей) научной работы, увенчавшейся ценными результатами, признанными всем научным миром» [30].
Успешно продолжать работу ему было также очень тяжело психологически. Вопервых, он был «глубоко убежден, что про делываемый над Россией социальный опыт обречен на непремен ную неудачу и ничего в результате, кроме политической и куль турной гибели моей родины, не даст. Меня безотступно гнетет эта мысль, – писал Павлов,– и мешает сосредоточиваться на моей научной работе» [30]. Вовторых, он не мог представить себя в роли «крепостного, раба только для других». Он не мог подчи ниться контролю государства над его работой и ее плодами: «Я хочу иметь в моем полном распоряжении плоды моей умствен ной работы, которая ее идейной стороной, в виде научных резуль татов, и без национализации есть и будет полезна всем людям. Я хочу помимо создания для себя некоторых удобств и удоволь ствий отблагодарить тех, кто помогал мне самоотверженно в течение моей жизни…» [30].
Содержание письма Павлова понятно, но причины его напи сания – не совсем. С помощью друзей и заграничных связей он мог, вероятно, эмигрировать и без разрешения большевиков. Это подразумевалось в первой строке письма: «Всю мою жизнь я предпочитал прямой, открытый образ действия». Павлов дей ствительно обладал исключительным чувством личного достоин ства, и мы не можем не учитывать этого фактора в его поведении.
Вместе с тем мы имеем веские причины рассматривать это письмо как вступление в переговоры и выяснение альтернатив. В свои 70 лет Павлов без энтузиазма относился к перспективе по кинуть Россию и начать все заново, притом что его возможно сти за границей не были ясными. Через неделю после письма в Совнарком он объяснил своему коллеге: «Жить мне осталось не много. Вступил в восьмой десяток лет, но мозг еще работает ис правно, и мне очень хочется более или менее закончить мою мно голетнюю работу о больших полушариях. Оставаясь здесь, я не достигну цели. Помехи и материальные, и нравственные, и ум 696 Д. ТОДЕС ственные прямо неодолимые. За границей надеюсь найти нуж ную мне, хотя и невзыскательную обстановку жизни и работы. У меня там так много друзей и добрых товарищей… Смею наде яться, что у них найдется место и для меня. Тяжело, страшно тяжело, да еще в мои годы оставлять родину, но что же делать. Сил нет жить здесь при теперешних условиях» [31].
Письмо Павлова было направлено комиссару народного про свещения А. В. Луначарскому, который быстро передал его В. И. Ленину. Луначарский напомнил Ленину, что ранее «мы дважды предлагали ему уехать за границу». Павлов, писал он, ответил, что «я хочу быть лояльным по отношению к Советской власти, между тем я за многое ее осуждаю. Если меня будут спра шивать за границей, я должен буду сказать правду, а поэтому предпочитаю не давать никаких обещаний о молчании». Как, спрашивал Луначарский, ему нужно поступить? *
Ленин считал отъезд Павлова за границу недопустимым и решил рассматривать письмо ученого как основание для начала переговоров. Он сообщил Г. Е. Зиновьеву, председателю Петро совета, о том, что Павлов хочет покинуть страну «ввиду его тя желого в материальном отношении положения» и что отпустить его было бы «вряд ли рационально, так как он раньше высказы вался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не смо жет в случае возникновения соответственных разговоров не высказаться против Советской власти и коммунизма в России. Между тем ученый этот представляет собою такую большую культурную ценность, что невозможно допустить насильствен ного удержания его в России при условии материальной необес печенности» [32]. Ленин предложил предоставить Павлову «сверхнормальный» продовольственный паек, улучшить его жи лищные условия и положение в его лабораториях. Зиновьев пе реправил письмо Ленина своему помощнику Митрофанову с указанием выяснить все, в чем нуждается Павлов, и «непремен но это устроить» [32].
Павлов между тем, полный нетерпения, написал другое пись мо, на этот раз управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч Бруевичу, с которым он познакомился до революции в доме их общего друга. Коротко пересказав содержание своего первого письма, он попросил БончБруевича поддержать его ходатайство [33]. БончБруевич вновь обсудил этот вопрос с Лениным, кото