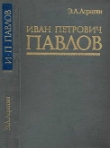Текст книги "И.П.Павлов PRO ET CONTRA"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 61 страниц)
Благодаря этой черте характера – его способности увлекать других – могло так долго функционировать гимнастическое об щество врачей. Дабы разохотить одних, подзадорить других и привлечь всех, И. П. выдумал особую табель о рангах и давал шу точные звания «столбов» тем, кто не манкировал вовсе, «подпо рок» – кто мало пропускал, и т.д. И это поддерживало азарт, так что общество это распалось лишь в 1914 г., когда война сра зу вырвала массу членов из Питера. Эти качества сказались и в качестве руководителя лабораториями.
Живой и веселый, И. П. умеет вдохнуть энергию и интерес самым, казалось, апатичным натурам. Кроме того, он удивитель но ясно и просто умеет представить все предметы и тем подгото вить новичка к решению стоящего на очереди вопроса.
Вообще И. П. обладает громадным педагогическим талантом, оттого его лекции всегда привлекают массу слушателей. Дело в том, что И. П. излагает чрезвычайно просто и образно весь пред мет, довольно-таки трудный для новичка. Оттого его лекции, изданные чуть ли не 25 лет назад, еще до сих пор являются желанной книгой для студента: все там так просто и ясно! Его лекции часто переходят в живой диалог, так как студенты всегда переспрашивают, что им осталось еще непонятно. Это придает его лекциям еще более живости, зато является очень трудным делом застенографировать их, ибо И. П. порой из-за вопросов забегает то вперед, то назад.
Благодаря «контрам» с Пашутиным И.П. долго не имел по стоянных учеников. Все, кто оставался у него, неизбежно про валивались на конкурсе на заграничную поездку, несмотря на хорошие работы. За это время только один его ученик попал за границу, да и то только благодаря личным связям среди хирур гов. Таким образом, работа у него производилась главным обра зом военными врачами, которые были прикомандированы на время к Академии и в это время защищали диссертации. Все это были практические врачи без всякой специальной физиологиче ской подготовки. С таким материалом И. П. сумел организовать живую работу в большом масштабе. Конечно, сам И. П. являлся истинной киназой (катализатором. – Сост.) работы: где он на ходился, там и кипела она. Сам И. П. входил в мельчайшие де тали, часто измерял количество переварившихся миллиметров белковой палочки. При этом он был очень пунктуален относи тельно времени. В назначенное время он всегда был на месте, никогда не опаздывал. В других отношениях у него не было вов се подобной точности. Так, на письма всегда отвечал с большим запозданием или вовсе даже не отвечал, и вообще это для него – большой труд.
В 1897 г. И. П. написал свои замечательные лекции о работе пищеварительных желез, где суммировал достижения за десяти летний промежуток времени. Живость и образность изложения так же содействовали успеху этой книги, как обилие и новизна сообщенных фактов. По манере изложения И. П. приближается больше к французскому ученому, чем к немецкому с его обстоя тельным, но утомительным писанием. Эта книга была переведе на на немецкий, французский, английский языки и обеспечила широкую известность И. П. за границей. Общее признание заслуг И. П. выразилось в получении Нобелевской премии в 1904 г. Надо еще прибавить, что в лабораторию И. П. приезжало из-за границы много лиц из числа квалифицированных физиологов, дабы поучиться у И. П., пройти курс операций для изучения во просов пищеварения. После выхода его книги началась эра осо 304 В. В. САВИЧ бенно сильного интереса ко всем вопросам пищеварения, и не только в лабораториях И. П., но и за границей. Все это было след ствием его книги. Здесь И. П. сыграл роль фермента для под нятия продуктивности работы. Чтобы наглядно показать ту энергию, с которой продолжалась работа у И. П., достаточно со поставить две даты. Его лекции появились в 1897 г. и имели перечень 26 работ. Второе издание вышло через 20 лет, в 1917 г., имея уже добавочных 126 (да и то не совсем полно собранных) работ.
Обилие работ объясняется тем, что в начале нового столетия у И. П. начинает образовываться кружок лиц, посвятивших себя полностью физиологии, конечно, благодаря воздействию самого И. П. Оттого продуктивность работ по пищеварению возросла, не смотря на то что главное внимание И. П. стало обращаться уже в другую область. Тут мы подходим к последнему циклу работ И.П., к вопросу о механизме работы головного мозга. Прежде всего этому содействовала его главная тенденция интересоваться «нервизмом». А изучение вопросов пищеварения дало в руки средства подойти просто к решению этой проблемы. Слюна от деляется, если мы вольем собаке кислоту в рот; но потом один вид кислоты вызовет у нее слюноотделение. Вот этот просто опыт и положен И. П. в основу методики для изучения функци мозга. Секреция гораздо лучше анализируется, чем мышечные реакции, сложные, запутанные. Нисколько не отвергая их с са мого начала, И. П. обратил внимание на другую сторону, на сек рецию слюны, как легче анализируемое и регистрируемое явление. Новое столетие было ознаменовано первой попыткой этого рода вместе с дром Толочиновым.
Так возникло учение об условных рефлексах, приобретаемых в течение индивидуальной жизни опытом самого животного в отличие от унаследованных «безусловных» рефлексов, которые прежде только и составляли предмет изучения. Первая работа Толочинова опубликована в 1902 г., и с тех пор это учение об ус ловных связях вызвало огромное количество работ и значитель ный интерес. С этой точки зрения работа высших отделов мозга приобретает характер машинности, и оттого это учение привет ствуется людьми материалистического мировоззрения и встре чается недружелюбно их противниками. Конечно, И. П. ожидал нападок на свое новое детище и пережил огромный ряд сомне ний и колебаний. Даже много лет спустя, когда новый метод уже ясно зарекомендовал себя, И. П. частенько говорил: «Вот этот новый факт все же оправдывает наш подход: вряд ли мы сильно ошибаемся». Итак, только пройдя через сомнения и критику, И. П. твердо остановился наконец на своем пути изучения моз говой деятельности. В последнее время он собрал все работы по этой области вместе в виде книги: «Двадцатилетний опыт объек тивного изучения высшей нервной деятельности животных».
С 1906 г. работа в лабораториях пошла усиленным темпом. Теперь исследования велись уже в двух направлениях: с одно стороны, продолжалась разработка вопросов пищеварения, с дру го й– создавалась новая область – условных рефлексов. В это время И. П. был выбран академиком в Академии наук. К тому же надо добавить, что в 1905 г. физиологическая лаборатория Во енномедицинской академии перешла в новое, только что вы строенное здание. Таким образом, И. П. получил прекрасную ла бораторию. Все это и позволило развернуть работу в пределах, значительно превосходящих прежние. Зато обилие работ, выхо дящих из лаборатории И. П., создало ему много недоброжелате лей. После признания И. П. заграничным научным миром в виде присуждения Нобелевской премии перестали нападать на рабо ты пищеварительного цикла, теперь о них говорят с почтением, хотя бы внешним. Зато тем сильнее нападали на работы об ус ловных рефлексах. «Какая это наука. Ведь это всякий егерь давно знает, дрессируя собак!» Так и не поняли суть дела. Ко нечно, получение Нобелевской премии дало сильный повод за висти. Однако в первое время после получения внешне относи лись к И. П. с почтением, но чем далее, тем больше и больше чувствовалось и нарастало раздражение. Конференцией Акаде мии была даже не одобрена одна из диссертаций, вышедших из лаборатории И. П.
Конечно, он отлично понимал, что все это делается только с целью насолить ему. Около того же времени один его ученик, возвратившийся из заграничной командировки, был забалло тирован при соискании звания приватдоцента. Случай прямо исключительный! Вот та почва, где возник следующий характер ный инцидент. Общество русских врачей состояло преимуще ственно из членов, имевших то или другое отношение к Акаде мии. И.П. был почетным членом этого Общества, много лет состоял помощником председателя, проф. Л. В. Попова, а за смертью его был избран председателем. Почти никогда не про пускал заседания; когда не хватало докладов для очередного заседания, всегда выручал работами своих учеников. А это все более и более раздражало других членов: почему так много пав ловских докладов? Никто не дал ответа, чтоде потому, что у клиницистовто их было мало. 306 В. В. САВИЧ
Чувствуя общее недовольство, И. П. сам сложил звание пред седателя осенью 1912 г. Председательствующий заявил, что он ставит тем не менее на предварительную баллотировку И. П., ибо уверен, что он останется, если его снова выберут. Сейчас же по шла агитация, и И. П. был забаллотирован. Затем председатель ствующий дальше повел заседание, считая возможным для себя выставить свою кандидатуру. В протоколе Общества об этом за баллотировании, конечно, нет и следа; когда же другие члены настаивали на этом, то председательствующий обратился даже к самому И. П., дабы он своим авторитетом прекратил бы все это грязное дело. Само собой разумеется, Общество не стало процве тать после подобной милой истории!
Теперь остается сказать об И. П. как руководителе работ. И здесь он занимает совершенно особое место. Живой, общитель ный, И. П. сам всегда увлекается и оттого может возбудить го рячий интерес к лабораторным занятиям у своих сотрудников. Романтик – вот как определил бы его Освальд. Увлечение до полного самозабвения часто приводило к бурным вспышкам, и тут воспитание в бурсе оставило свой след в привычке И. П. бра ниться подчас достаточно сильным выражением. И все-таки невзирая на все это, он всегда привлекал к себе много работни ков, увлеченных страстной работой И. П., который не пропус кал прежде ни дня большого праздника, ни Нового года. Отпус тив на эти дни своих сотрудников, он сам тем не менее шел в лабораторию и смотрел, сколько и где переварилось. Какой гро мадный след оставляла его работа в лабораториях, лучше всего видно из следующего эпизода, произведшего на меня глубокое впечатление. Во время беспорядков, связанных с отступлением армии после Ляоянского боя, я встретил в Мукдене одного ти пичного главного врача прежнего времени. И вот, увидя меня, он с радостью бросился говорить о лаборатории И. П.; вспоми нал о своих собаках, своего Гектора, который так хорошо пока зывал ему опыты. О войне, японцах не было ни слова! Вот како ва была сила возбуждения в лаборатории И. П., что могла и этому человеку вдохнуть интерес к исканию истины! Кроме того, И. П. всем своим примером заставлял любить всякую работу, будь то игра в городки или решение новых проблем. Во все он умеет вдохнуть интерес. А главное, он учил своих учеников правиль но мыслить, кладя в основу суждения фактическое содержание, а не догму теорий, я бы сказал: это мышление фактами, а не тезисами. Когда видишь, как быстро в лаборатории создаются и гибнут всякие теории, научаешься относится к ним достаточно критически.
Разбирая способы его руководства, можно увидеть, как они с течением времени меняются. Вначале И. П. интересовался од нойдвумя работами и сидел у сотрудников, выполняющих ее, почти все время; остальным работам уделялось относительно мало времени. Затем очередь переходила к другим работам, ко торые и начинали быстро двигаться вперед. Таким образом, гос подствовал «ударный принцип». Теперь, при оживлении лабо раторий после 1918—1919 гг., И. П. руководит уже поиному: это уже шахматный игрок, играющий сразу на многих досках. Дан ными, полученными у одного, И. П. усиливает продвижение другого, и обратно. Как раз теперь условные рефлексы разраба тываются в таком масштабе, как никогда раньше. Интерес к ним, особенно среди молодежи, сильно растет. Какникак, учение об условных рефлексах создает новое понимание психиче ской жизни человека, а следовательно, войдет рано или поздно в основу нового грядущего мировоззрения.
И. П. чрезвычайно быстро схватывает все новые отношения, случайно встретившиеся в опыте. И тут дает полную волю свое фантазии. Но вот факт замечен, повторен. Теперь начинается длительная полоса сомнений, критики, проверки. Огромное число теорий тут и гибнет, остается только то, что выдержало эту строгую критику.
Таким образом, постоянно чередуются две эти фазы: с одно стороны, полета фантазии, с друго й– сомнений и критики. Надо еще отметить, что интерес к работе у И. П. так велик, что он обычно лучше знает подлинные цифры опыта, полученные у кого-нибудь из сотрудников, чем даже сам работающий. Хотя у И. П. и очень много работников, однако все существенные ново сти он держит в голове. Порой бывает, что И. П. журит своего сотрудника за то, что тот по памяти не может рассказать ход опыта, и тогда И. П. не только восстанавливает последователь ность хода опыта, но и приводит даже полученный результат в цифрах.
<1925>
А.Ф. САМОЙЛОВ
Общая харатеристиа исследовательсоо облиа И. П. Павлова
30 лет тому назад я, совсем еще молодой человек, впервые вступил в лабораторию И. П. Павлова в Институте эксперимен тальной медицины, где провел больше трех лет, часть этого вре мени выполняя обязанности ассистента. Об Иване Петровиче тогда уже начали говорить. Уже было сделано мнимое кормление, произведено усовершенствование экковского свища. На моих глазах было достигнуто в лаборатории несколько крупных завоеваний: доказано действие кислоты на отделение поджелу дочного сока и осуществлена операция маленького желудка, или «желудкасвидетеля».
На первых же порах моего знакомства я был поражен импе ративным темпераментом, силой и мощью научного облика Ива на Петровича. В задачах, которые он себе ставил, и в ухватках при их выполнении чувствовалась какаято отвага, и если бы я не опасался, что меня могут неправильно понять, то я сказал бы – удаль. Когда он утром входил или, вернее, вбегал в лабо раторию, то вместе с ним вливалась сила и бодрость, лаборато рия буквально оживала, и этот повышенный деловой тонус и темп работы держались на той же высоте вплоть до позднего вечера, когда он уходил; но и тогда еще, у дверей, он быстро давал иногда наставления, что еще следует непременно сегодня же сделать и с чего начать завтрашний день. Он вносил в лабо раторию всего себя, и свои мысли, и свои настроения. Все, что им было вновь надумано, обсуждалось совместно со всеми сотруд никами. Он любил споры, он любил спорщиков, он подзадори вал их. Он любил споры, потому что во время дебатов ему само му нередко еще лучше вырисовывалась какая-нибудь новая, еще только замеченная идея, острее оттачивалась новая мысль, от шлифовывался какойлибо новый изгиб ее. Для молодых же ученых лучшей школы, чем эти дебаты и споры, вероятно, и не придумать.
Однажды, вскоре после моего вступления в эту лабораторию, я сидел в библиотеке Института и читал какуюто статью. Во шел Иван Петрович. Он начал быстро перебирать новые журна лы. Я видел, что он остался чемто недоволен. Держа в руках книжку журнала, он перечитывал заголовки статей и сказал в сердцах: «Да, если работать над такими вопросами и над такими объектами, то далеко не уедешь». Он бросил книжку на стол и, уходя, еще добавил: «Не смотрели бы мои глаза на все это».
Я был очень озадачен. Сейчас же я взял брошенную книжку и стал рассматривать ее содержание. Там излагались исследова ния над отдельными клетками, мышцами, нервами, трактова лись вопросы о природе возбуждения, о проводимости. Мне все это казалось тогда в высшей степени интересным и ценным. Признаюсь, что и теперь, через 30 лет, я смотрю на это, как и тогда. Общая физиология возбудимых тканей оправдывает свое существование и не нуждается в специальной защите. Но мне кажется, я понимаю, что руководило Иваном Петровичем, ког да он так неодобрительно и даже неприязненно относился к упо мянутому направлению физиологических исследований.
Все эти исследования, которые касались уединенных частей тела, казались ему слишком оторванными от животного меха низма в целом, от целого организма, они казались ему слишком абстрактными, отвлеченными, они казались ему несвоевремен ными, они не стояли в его представлении на очереди. Талант увлекал его совсем в другую сторону, и это великое счастье для науки, что Иван Петрович умел и дерзал отметать многое из тех направлений в физиологии, которые были у него на пути. Он тем полнее мог отдаваться тому направлению, которое его влекло. Область явлений, где он чувствовал себя легко и свободно, охва тывает все животное целиком, в его связи с окружающей и воз действующей на него средой, и в этом влечении сказывается сильный биологический уклон дарования Павлова. Он выше всего ставит эксперимент над целым, ненаркотизированным животным, над животным с его нормальными реакциями на раздражение, над животным бодрым и жизнерадостным. Я по мню, как он с удовольствием смотрел на собак с эзофаготомией и желудочным свищом, вбегавших радостно в комнату в пред вкушении приятности мнимого кормления. Он гладил, ласкал собак и неоднократно говорил: «И где у людей головы, если они могут думать, что между нами и животными качественная раз ница. Разве у этой собаки глаза не блестят радостью? Почему не исследовать феномен радости на собаке; здесь все элементарнее и потому доступнее».
И в продолжительных беседах, спорах Иван Петрович неод нократно затрагивал тему о том, почему наиболее реальные жизненные результаты можно извлечь из опытов над целым животным, в котором все процессы протекают вполне нормаль но. По этому поводу он высказывался и печатно. В своей книге «Лекции о работе главных пищеварительных желез» он говорит следующее: «Простое резание животного в остром опыте, как это выясняется теперь с каждым днем все более и более, заключает в себе большой источник ошибок, так как акт глубокого нару шения организма сопровождается массою задерживающих вли яний на функцию разных органов. Весь организм как осуществ ление тончайшей и целесообразной связи огромного количества отдельных частей не может остаться индифферентным по своей сущности к разрушающим его агентам и должен в своих интере сах одно усилить, другое затормозить, т.е. как бы временно, ос тавив другие задачи, сосредоточиться на спасении того, что мож но. Если это обстоятельство служило и служит большой помехой в аналитической физиологии, то оно кажется непреодолимым препятствием для развития синтетической физиологии, когда понадобится точно определить действительное течение тех или других физиологических явлений в целом и нормальном орга низме».
Еще более определенно он высказывается по этому вопросу в другом месте своей книги: «Оживление в разбираемом отделе знаний за последний год становится заметным и на Западе; с нашими работниками соединяются за тем же делом многочис ленные европейские товарищи, и наш предмет, раз он вышел на настоящую дорогу, по сущности дела, подлежит скорому и пол ному изучению. Это не вопрос о сущности жизни, о механизме или химизме деятельности клеток, окончательное решение которого останется еще на долю бесчисленного ряда научных по колений как постоянно увлекающее, но никогда вполне не удов летворяемое желание. На нашем, так сказать, ярусе жизни в органной физиологии (в противоположность клеточной), во мно гих отделах ее, уже с правом, трезво можно надеяться на возмож ность совершенного уяснения нормальной связи всех отдельных частей прибора (в нашем случае пищеварительного канала) меж ду собою и с объектами внешней природы, стоящими к ним в спе циальном отношении (в данном случае с пищей). На ступени органной физиологии мы как бы абстрагируемся от вопросов, что такое периферическое окончание рефлекторных нервов и каким образом оно воспринимает того или другого раздражителя, что такое нервный процесс, как, в силу каких реакций и какого мо лекулярного устройства возникают в секреторной клетке те или другие ферменты и приготовляется тот или другой пищевари тельный реактив. Мы примем эти свойства и эти элементарные деятельности как готовые данные и, улавливая правила, зако ны их деятельности в целом приборе, можем в известных преде лах управлять прибором, властвовать над ним».
Вы видите, как в цитированных словах сквозит некоторая ирония по отношению к вопросам о сущности жизни, о сущнос ти нервного процесса, молекулярного устройства клетки. Вы видите, что все симпатии Ивана Петровича на стороне, как он выражается, органной физиологии. В этом влечении – одна из существенных сторон исследовательского облика Ивана Петро вича. Понять причину этого влечения – значит понять основ ные черты его таланта.
В сторону изучения функций животного в целом Павлова увлекал прежде всего особенный характер его эксперименталь ного искусства. Иван Петрович, несомненно, гениальный хи рург, но направивший свое хирургическое дарование не в сторону клиники, а в сторону физиологических изысканий. Он – гени альный хирург не только в смысле неподражаемой хирургиче ской техники, но и в смысле изобретательности хирургических заданий и планов. Он, несомненно, создал и привил в физиоло гии новое, если можно так выразиться, хирургическое направ ление.
Для того чтобы исследовать физиологические особенности данного органа, можно идти прежде всего такими путями. Мож но, вопервых, удалить из тела данный орган и следить за тем, какие недочеты проявляет животная машина, лишенная данно го органа. Этот прием применяется уже издавна в физиологии. Но Иван Петрович при помощи своей техники, хирургической изобретательности и физиологического умения осуществил при этом такие приемы, которые до него никому раньше не удава лись. Операция экковского свища, достигающая выведения из строя печени, была настоящим образом впервые осуществлена им. В эту же категорию удаления частей тела я поставил бы и иссечение обоих блуждающих нервов – операция, которая ма нила многих, но удалась впервые И. П. Павлову, так как он знал на основании своих исследований некоторые особенные стороны функций блуждающего нерва, которые другим были неизвест ны, и потому знал, как предостеречь животное от губительного влияния недочетов, связанных с устранением функций этого нерва. Его собака (знаменитый Вагус) с перерезанными блужда ющими нервами жила более полутора лет и затем была убита для исследования перерезанных нервов.
Второй прием, практиковавшийся Иваном Петровичем еще более ревностно, – это, так сказать, прием просверливания от верстия в какойлибо полостной орган для того, чтобы следить за тем, что совершается в этом органе. Отсюда берет свое начало весь ряд фистул органов пищеварительного канала со всеми их сложнейшими комбинациями друг с другом, в производстве которых Павлов не имеет себе соперников. Я был свидетелем разработки операции так называемого маленького желудка. Я помню, как очаровывала меня смелость и вера Ивана Петрови ча в правильность надуманного им операционого плана. На пер вых порах операция не удавалась, было загублено около 30 боль ших собак, было затрачено без результата много трудов, много времени, почти полгода, и малодушные теряли уже бодрость. Мне припоминается, что некоторые профессора родственных физиологии дисциплин утверждали тогда, что эта операция не может и не будет иметь успеха, потому что расположениеде кровеносных сосудов желудка противоречит идее операции. Над такими заявлениями Иван Петрович смеялся и хохотал так, как умел хохотать один только он; еще несколько усилий, и опера ция стала удаваться.
Когда впервые вышла книга Павлова о работе пищеваритель ных желез и была затем переведена на немецкий язык, то изве стный германский физиолог Г. Мунк, знаток физиологии пище варения, в своей рецензии об этой книге, изумленный блеском техники, остроумием фистульных операций и значительностью достигнутых результатов, писал, что «со времен Гейденгайна не было еще случая, чтобы один исследователь в течение несколь ких лет сделал в физиологии столько открытий, сколько описа но в книге Павлова».
Влечение И. П. Павлова в сторону исследования цельного жи вотного объясняется, однако, не одним только техническим его дарованием, давшим ему в этой области такой простор. Мы встре чаемся здесь с соотношениями гораздо более серьезными. Мы теперь приближаемся, в сущности, к наиболее центральному пункту нашей темы.
В устройстве и в функциях организма, в приспособленности организма к окружающим условиям, в приспособленности его к восприятию раздражения со стороны внешнего мира, в приспо собленности его реакции на эти раздражения существует ярко выраженная целесообразность. То, что составляет самую сильную сторону таланта Ивана Петровича, есть его совершенно не постижимая способность проникать во все тайники этой целесо образности. Дар его интуиции, дар нащупывания, отгадывания истин в области сложных реакций и соотношений организма совершенно исключителен и единствен в своем роде – кажется, что сама истина идет ему навстречу. Мы встречаемся здесь с даром непосредственного как бы поэтического откровения.
Не раз ставился вопрос, как вообще в голове исследователя за рождается научная мысль. По этому поводу однажды высказался Гельмгольц в своем прекрасном очерке, озаглавленном «Гете и предчувствие грядущих естественноисторических идей». Эта работа Гельмгольца должна найти живой отклик в душе всякого естествоиспытателя. Сильными, яркими чертами рисует Гельм гольц значение нашего индуктивного способа в естествознании. Раз, говорит он, мы принимаем, что наши ощущения, получае мые при помощи органов чувств, способны быть нашими верны ми руководителями, то этим уже предрешается весь дальнейший путь индуктивного метода естествознания. Существенно здесь нахождение естественных законов явлений в виде хорошо дефи ницированных словесных выражений. Первые попытки обнару жения закона можно обозначить гипотезами. Все следствия этих гипотез, доступные наблюдению, испытываются при изменен ных условиях на опытах. Работа эта ведется различными иссле дователями и в конце концов может привести к установлению закона. Это длинный, томительный путь, успех которого, как подчеркивает Гельмгольц, зависит от возможности выразить закон словами. Однако, несмотря на сложность этого пути, мы уже теперь в различных областях явлений природы, в особенно сти в пределах более простых соотношений в неорганизованной природе, имеем точные, хорошо обоснованные законы. Тот, кто владеет законами явлений, приобретает не только знания, он приобретает и мощь, и силу внедряться в течение природных явлений и направлять их по своему желанию на свою пользу. Он приобретает способность проникать в будущий ход явлений, он на самом деле приобретает способности, которые в суеверную эпоху приписывались пророкам.
Но, говорит Гельмгольц, есть еще помимо науки другой путь, при помощи которого можно также проникать в игру сил при роды и человеческого духа, и приобретение этим последним спо собом может быть также сообщено другим, так что оно вызыва ет полное убеждение в истинности сообщенного. Этот путь мы имеем в области наших искусств. Представим себе какое-нибудь образцовое произведение в области драматического искусства. Вы видите, как развиваются человеческие чувства и страсти, как они нарастают, как из них развиваются возвышенные или ужа сающие деяния. Вы хорошо понимаете, что при создавшихся ус ловиях и трагических коллизиях результат должен быть таким, как поэт вам его рисует. Вы чувствуете, что вы сами в подобных условиях испытали бы ту же страсть и поступили бы так же, как герой трагедии. Вы испытываете глубину и силу ощущений, которые в спокойной повседневной жизни никогда бы не посе тили вас. Вы уходите с глубоким убеждением об истинном и правильном освещении представленных душевных движений, хотя вы ни на одну минуту не сомневаетесь, что все, что вы виде ли, происходит лишь в воображении поэта. Эта истина, которую вы признаете, есть, следовательно, только внутренняя истина представленных движений души, их правильная последователь ность. С большою убедительностью Гельмгольц рисует дальше, как это непосредственное, как бы само собой вспыхивающее откровение истины имеет место не только в области художествен ного изображения наших внутренних чувств, но и в области художественного восприятия и изображения внешнего мира. В своем изображении художник не копирует природу – это дела ет ремесло, фотография, – художник дает в своем изображении тип и этим уже вскрывает некоторую до него не осознанную ис тину. Равным образом и поэт в своем непосредственном созерца нии природы способен находить между объектами и явлениями черты сходства, указывать аналогии, скрытые для других лю дей, и этим путем способен опять-таки вскрывать истину.
Спрашивается, имеется ли у нас достаточно оснований при нимать, что оба указанных пути улавливания истины совершен но различны. Один дается тяжелым систематическим трудом, логически оправдываемыми методами наблюдения и экспери мента, другой приходит сам собой, так сказать, без труда, путем откровения. Гельмгольц доказывает, что оба пути имеют одина ковые корни, одинаковые исходные точки, и эти исходные точ ки нужно искать в опыте. У художника тоже есть свой опыт, свой запас наблюдений, впечатлений, которые особенным образом претворяются в определенные формы его творчества.
Гельмгольц указывает дальше, как поэт с его развитым чув ством непосредственного овладевания истиной может сделаться даже провозвестником новых научных идей. Мы это видим на примере Гете, который, несомненно, высказал зачатки идей, впоследствии подробно развитых и научно оформленных Дарви ном.
Но если это так, то разве мы не можем предположить такого сочетания, когда ученый при полном владении научной методи кой, приемами систематического экспериментального анализа может в то же время обладать даром поэтического откровения, даром непосредственного нащупывания, улавливания истины. Гельмгольц по этому поводу вспоминает Фарадея, который, как Гете, был врагом абстрактных понятий, с которыми Фарадей не умел обращаться. Все понимание его физики основано было на непосредственном восприятии феноменов, и он старался при объяснении физических явлений исключить все, что было чуждо непосредственному восприятию наблюдаемых явлений. Возмож но, говорит Гельмгольц, что изумительная способность Фарадея интуитивно находить истину в области физических явлений была связана с тем, что он был свободен от всяких теоретических предрассудков современных ему физиков. Но, конечно, если мы и находили точки соприкосновения в творческих процессах у людей науки и у людей искусства, то это относится только к первым моментам, к первым шагам овладевания истиной, к са мому акту интуиции, к «предчувствию», как выразился в своем заголовке Гельмгольц. Дальше пути ученого и художника рас ходятся: художник лишь варьирует свою мысль в художествен ных образах, ученый же пропускает ее через анализ логическо го испытания и того индуктивного метода, о котором была речь выше.