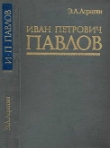Текст книги "И.П.Павлов PRO ET CONTRA"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 61 страниц)
Дж. БАРКРОФТ
Профессор И. П. Павлов – иностранный член Британсоо королевсоо общества
Профессор Иван Петрович Павлов был общепризнанным стар шиной физиологов. Этого положения он достиг благодаря свое му весьма почтенному возрасту, своим выдающимся способнос тям и своей огромной жизненной энергии. Столь значителен был его возраст, ибо в 1934 г. он праздновал 85летие своего рожде ния, что среди живущих ныне научных работников Великобри тании найдется весьма немного таких, которые могли бы при ближенно считаться его современниками, а для большинства годы первых научных работ Павлова кажутся уходящими в от даленное прошлое. Но даже, помимо этого, вплоть до послево енного периода Павлов представляется английским работникам несколько далекой фигурой. Может быть, это объясняется тем, что он не был особенно хорошим лингвистом: он говорил поне мецки и одно время работал в Германии, но английским языком он никогда не владел свободно.
Но хотя Павлов был лично малоизвестен в Англии, его имя благодаря его трудам по пищеварению приобрело в конце 90х гг. истекшего столетия силу авторитета. Его книга «Лекции о ра боте главных пищеварительных желез» произвела глубокое впе чатление во всем научном мире и сразу выдвинула Павлова не только в первые ряды первоклассных физиологов, но и ученых вообще. Что касается технической стороны работ Павлова по пи щеварению, его великие достижения были обусловлены двумя установленными им принципами: вопервых, получаемые из его опытов выводы будут обманчивы, если подопытные животные будут испытывать болевые ощущения или даже если их психиче ское состояние окажется нарушенным; вовторых, результаты окажутся столь же неудовлетворительными, если животные будут находиться под действием общего наркоза. Поэтому Павлов поставил себе задачей так расположить при помощи остро умных хирургических приемов отдельные органы подопытных животных, чтобы они оказались доступными для изучения и чтобы вместе с тем животные чувствовали себя прекрасно и были вполне здоровы. Таким образом, он мог наблюдать свойства глав ных пищеварительных соков, а также те условия, при которых происходило выделение этих соков, и их взаимоотношения. С тех пор многие из результатов, добытых Павловым путем опытного изучения животных, были проверены и на людях. Но все это в целом никогда не может быть проведено на одном больном или в одно время на многих больных, так как проверка на человеке какого-нибудь одного наблюдения Павлова зависит от случайно го совпадения двух условий: чтобы больной стал жертвой како го-нибудь необычного несчастного случая и чтобы этот больной попал в руки врачу, обладающему научной подготовкой и спо собностью воспользоваться таким случаем. Работа Павлова на со баках, все органы которых составляют неразрывное целое, мо жет быть прoверена на людях – одна часть, скажем, на одном больном в Чикаго, другая – на другом больном в Бостоне, тре тья – в Лондоне и т.д. – с тем, однако, чтобы все данные сопо ставлялись с этой основной работой Павлова как с руководящей нитью. Иногда встречается полное тождество между человече скими данными и данными у собак, а иногда обнаруживаются видовые различия: и хотя ничего особенно нового нам не откры вают последствия этих несчастных случаев, но все-таки приоб ретаемые отсюда сведения должным образом сводятся вместе в одно целое на основе работ Павлова.
Необходимо упомянуть и иную, совершенно своеобразную сто рону работ Павлова над пищеварительными железами, которая вместе с тем находится в полном соответствии с его характером; именно они имели и чисто человеческую сторону. Эти работы от личались не только тщательными правильными рассуждения ми, не только таблицами, сосредоточивающими в себе те или иные данные, но в конечном итоге они подводили обоснованный фундамент под пришедшие из давних времен человеческие обы чаи: почему именно меню является таким, а не иным, почему закуски должны предшествовать супу, суп – жаркому. Может быть, самым важным было то, что диететика была освещена по новому и выяснилось, что при равных условиях переваримост какой-нибудь приправы должна, вероятнее всего, соответство вать своей привлекательности на вкус. Для конца эпохи Викто рии это составляло почти что революцию. Именно за свою рабо ту над пищеварительными железами Павлов получил вскоре после учреждения Нобелевского фонда Нобелевскую премию по физиологии и медицине (1904).
После мировой войны Павлов неоднократно посещал по раз ным поводам страны, где господствует английская речь: по следним его посещением был приезд летом 1935 г. в Лондон по случаю Неврологического конгресса. В 1928 г. он прочел перед Британским королевским обществом Круниевскую лекцию. Естественно, что всем тем, кто его знал только как выдающегося исследователя, было очень интересно познакомиться с тем, что представляет собой как личность этот знаменитый приезжий гость. Обаяние, которое до того Павлов оказывал на умы, сразу столь же сильно охватило и чувства. Павлов привлек к себе всех тех, с кем он соприкасался. Он, конечно, прибыл при весьма не обычных обстоятельствах. Его родина только что пережила са мую, возможно, глубокую революцию всех времен и вышла из нее победительницей: ее учение гласило, что человека надо оце нивать за его личные качества, а не по обстоятельствам его рож дения.
Павлов был как бы создан для такой роли; на больших тор жествах, куда все другие ученые являлись украшенными всеми атрибутами внешности, во всеоружии своего положения, Павлов, из них всех самый великий, выступал в простом одеянии из гру бого синего сукна и возвысил этот костюм до мундира, затмив шего своим достоинством все остальные. Он имел выправку воен ного, был несколько худощав, но энергия в нем била ключом: он являлся олицетворением благородства и сердечной доброты.
Можно вспомнить один случай, который покажет одновремен но и сосредоточенность Павлова, и его чувство юмора. В 1928 г. Павлов читал лекцию в Кембриджском университете перед пе реполненной аудиторией студентов. Было установлено, что Пав лов будет говорить порусски полминуты, а затем др Г. В. Ан реп переведет сказанное. После примерно трех таких циклов Павлов так увлекся своей темой, что совершенно позабыл о том, что аудитория его не понимает. Он продолжал говорить, вероят но, минут пять, затем опомнился. Он свел руки вместе и расхо хотался, вся аудитория вслед за ним покатывалась со смеху. Павлов полностью завладел студенческими сердцами.
Нет необходимости подробно останавливаться на втором пе риоде работ Павлова по условным рефлексам: он хорошо изве стен и был подробно освещен покойным проф. Старлингом в «Nature» (1925, 3 января), где была дана и фотогравюра с порт рета Павлова. Из главных идей его работы над высшими нерв ными центрами укажем следующие: поведение в значительной степени зависит от равновесия возбуждающих и тормозящих по ступков, от «делай» и «не делай», которые могут быть превра щены в «условные», т.е. быть связаны посредством привычки с каким-нибудь раздражителем, имеющим, повидимому, мало об щего с данным поведением (как, например, если свет всегда ту шится за три минуты до дачи собаке пищи, то в конце концов собака будет выделять слюну через три минуты после освещения вне зависимости от того, будет ли задана ей пища или нет); вслед ствие различий в темпераменте некоторые животные легче реа гируют на положительные раздражители, другие на тормозящие; сон является формой условного торможения; уравновешивание рефлексов, требующих действий противоположных направ лений, может вызвать борьбу и в конечном итоге сильный невроз.
Возможно, что наиболее поразительным фактом последних лет жизни Павлова является тот огромный престиж, которым он пользовался у себя на родине. Все такие примитивные утверж дения, будто своим возвышенным положением Павлов был обя зан тому, что материалистическое направление его работ над условными рефлексами служило опорой для атеизма, представ ляются несправедливыми как в отношении самого Павлова, так и советской власти.
По мере того как культура отбрасывает сверхъестественное, она начинает все более и более считать человека наивысшим предметом человеческого познания, а природу его умственной деятельности и ее плоды предметами наивысшей фазы науки о человеке. К подобным исследованиям в Советском Союзе отно сятся с величайшим вниманием. Поразительные коллекции скифского и иранского искусства в Эрмитаже в Ленинграде ни когда так не лелеялись бы, если бы они не являлись памятника ми развития человеческой мысли. Благодаря случайностям судь бы получилось, что жизнь того человека, который сделал больше коголибо другого для экспериментального анализа умственной деятельности, совпала по времени и по месту с культурой, кото рая возвысила человеческий разум.
Выдающиеся научные заслуги сами по себе не дали бы еще Павлову того влияния, которым он пользовался. К этим заслу гам присоединилась его горячая любовь к России и полная ло яльность по отношению ко всем ее учреждениям.
Следует заключить эту скромную дань уважения впечатлением о семейной жизни Павлова. Насколько он любил свою ро дину, настолько же он любил и свою семью. Его вкусы были простые; он любил копать землю и значительную часть своего досуга проводил в работе в саду. Возможность получения, скажем, каких-нибудь новых семян наполняла его энтузиазмом; однако это должны были быть семена какого-нибудь простого, но яркого вида, например нового сорта мака.
Нельзя найти более удачного примера родства простоты и ве личия, чем тот, который являл сам Павлов.
<1936>
Е.А.ГАНИКЕ
Об одной мечте Ивана Петровича
В физиологический отдел Института экспериментальной ме дицины я поступил штатным работником в начале 1894 г. и проработал с Иваном Петровичем непрерывно в течение 42 лет. Пришлось мне быть очевидцем многих интересных событий в жизни отдела и павловской школы. Часто наблюдал я Ивана Пет ровича на опытах, помогал ему оперировать животных и присут ствовал при его разговорах с врачамипрактикантами, работав шими у него, или с русскими и иностранными учеными.
Много приезжало к Павлову ученых из-за границы, некото рые из них желали посмотреть опыты, операции, познакомиться с Иваном Петровичем, другие оставались работать у него. Несколько раз я ездил за границу по поручению Ивана Петро вича для приобретения приборов, аппаратов и инструментов. А когда Леденцовское общество субсидировало постройку специ альной лаборатории в 1910 г., то Павлов командировал меня в Голландию для того, чтобы узнать, как была построена лабора тория проф. Цваардемакера, где имелись звуконепроницаемые комнаты, и применить это при постройке здания, которое поз же называли «Башней молчания».
Сейчас мне вспоминаются два случая из лабораторной жиз ни, которые показывают, какое значение придавал Иван Петро вич технике для прогресса науки. Здесь речь идет о хирургиче ской технике, которой он владел в совершенстве. Репутация ловкого и искусного хирурга успела прочно за ним утвердиться, этим он отличался уже в начале своей научной деятельности. И все славное дело своей жизни он не создал бы, если бы не напра вил своего внимания на изощрение в хирургической технике, которая была больше всего необходима ему при изучении рабо ты пищеварительных желез.
Я помню, как шла его работа с операцией маленького желу дочка. Ивану Петровичу помогал земский хирург П. П. Хижин, приехавший в Петербург для работы над докторской диссерта цией по пищеварению. Сколько собак они изрезали, а успеха не было. Иногда Иван Петрович колебался и начинал сомневаться в осуществимости этой операции. Он стал посещать отдел пато логоанатомический, которым заведовал Н. В. Усков, и совето вался с патологоанатомами. А те сомневались в успехе такой операции, показывали ему рисунки и препараты желудка и до казывали, что если располагать отделяемую от желудка собаки часть его (малый желудочек) так, как этого хочет Иван Петро вич, то кровеносные сосуды будут пересечены и малый желудо чек не получит притока крови. «Ничего не выйдет», – говорили патологоанатомы и трунили над неудачами Павлова и Хижина.
И все-таки Иван Петрович упорно продолжал делать опера ции, и вышло по нему, получился знаменитый пес Дружок. Ра ботая с ним, доктор Хижин успешно защитил в 1894 г. диссер тацию. Теперь была очередь Ивана Петровича подтрунивать над патологоанатомами: «Копаются только в мертвечине, ничего в живом не смыслят».
Фундаментальный объект для изучения процессов пищеваре ния в желудке был им создан. Это было триумфом хирургиче ской техники Ивана Петровича, о чем сейчас пишут во всех учеб никах по физиологии.
Почти одновременно с операциями над малым желудочком имел место и второй случай. У Павлова работал врач Гейнац. Изучая функции щитовидной железы у собак, он ее удалял и наблюдал появление судорог и смерть. Далее Гейнац попытался сшивать кровеносные сосуды оперированных собак и производил перекрестное переливание крови. Павлов очень интересовался таким сшиванием собак и мечтал о том, чтобы способ перекрест ного кровообращения применить для изучения пищеварения. Я помню, только что закончилась одна операция. Все врачи, кото рые участвовали в операции, перешли в другую комнату, Иван Петрович сел на стол, а я мыл инструмент. И вот я бросил фра зу, что вообще научный прогресс будет зависеть от изощрения техники. «Да, – сказал Иван Петрович, – в будущем году всю лабораторию поставлю на сшивание собак». И потом Иван Пет рович не раз говорил о той увлекательной проблематике, кото рая открылась бы перед физиологами, если они сумели бы до биться успеха в операциях перекрестного кровообращения. Однако средств и энергии не хватало у него на то, чтобы осуще ствить эту мечту.
И вот нам – непосредственным продолжателям его дела – следует хорошо помнить о тех методических приемах, деталях хирургической техники, в которых Иван Петрович видел залог успеха экспериментаторов.
<1936>
Д.А. КАМЕНСКИЙ
Мое знаомство с Иваном Петровичем
Я очень затрудняюсь в смысле точной даты моего знакомства с Иваном Петровичем, но, кажется, в то время я был еще сту дентом. Тогда Иван Петрович и его жена Серафима Васильевна жили на Малой Дворянской улице (ныне ул. Мичуринская), где занимали квартиру, а одну комнату сдавали ближайшей подру ге Серафимы Васильевны по гимназии – Евдокии Михайловне Прокопович, у которой я бывал и с которой впоследствии обвен чался
В то время (1881) Иван Петрович уже заведовал физиологи ческой лабораторией терапевтической клиники проф. С .П .Бот кина. Лаборатория эта представляла собой простое деревянное здание, стоявшее в садике. Никакой хозяйственной организации там не было, собаки обыкновенно брались бродячие, платили за каждую собаку по рублю или полтиннику. Служителем там тог да был Николай Харитонов. Нужно сказать, что в этой лабора тории из 32 собак, которых Иван Петрович оперировал для эзо фаготомии, из-за отсутствия чистоты выжила только одна, а в Институте экспериментальной медицины каждая оперированная для той же цели собака выживала
Иван Петрович был всегда оживленным, весьма разговорчи вым и жестикулирующим. Никогда не видно было на нем и тени грусти, как бы плохо ни жилось ему материально
Но надо сказать, что, как ни красноречив и находчив был Иван Петрович, брат его Дмитрий Петрович был еще более ода ренным в этом отношении, так что в присутствии любимого сво его брата Иван Петрович только помалкивал и улыбался. Тот мог занимать своими рассказами самую разнообразную и самую многочисленную публику – такой был весельчак и мастер по говорить. Павлов очень любил своего брата.
После моей женитьбы мы стали сравнительно часто видеть ся, и, надо сказать, Иван Петрович ко мне хорошо относился, и я всей душой любил его, мне он очень нравился
Я был при защите Иваном Петровичем его диссертации «Цен тробежные нервы сердца» (1883). Оппонировал ему проф И .Р .Тарханов. Когда Павлов говорил о свойстве центробежных нервов, то мне казалось, что Тарханов ему возражал с некоторым пристрастием
После возвращения Ивана Петровича из-за границы, по его предложению, я стал работать у него в лаборатории при клини ке проф. Боткина, хотя был врачом по специальности и не пред полагал быть экспериментатором
В 1890 г. состоялось открытие Института экспериментальной медицины, работа там только начиналась, и штатов еще ника ких не было. Нештатным был даже директор Института В .К .Ан реп. В тот год был добыт Кохом туберкулин, и на использование и изучение его набросился весь мир. Принц А .П .Ольденбург ский, организатор Института экспериментальной медицины, ко мандировал Анрепа в Берлин, обязав получить это средство, и был необычайно рад, когда его привезли из-за границы. Принц Ольденбургский вообще желал, чтобы «его» институт был пер вым в мире, и радовался тому, что первые исследования тубер кулина будут проделаны у «него» в Институте. Заменитый Кох полагал, что при определенных условиях туберкулин может стать верным средством для лечения туберкулеза, особенно кож ного. Проверкой этого предположения и занялись в Институте Перевели в Институт волчаночных больных для лечения тубер кулином из Калинкинской больницы. Когда зашла речь о том, кого из врачей пригласить дежурить у туберкулезных больных при лечении их туберкулином, Иван Петрович предложил при гласить меня и В .В .Кудревецкого. В этой проверке, кроме нас, принял участие главный врач Калинкинской больницы, извест ный специалист др Э .Ф .Шперк. Надо напомнить, что после впрыскивания туберкулина у больных повышалась очень силь но температура, до 40°, лицо пылало, наблюдалось значительное учащение дыхания и пульса, состояние больных было очень тя желым. Сутки или двое длилась эта резкая реакция, а затем лицо становилось красным, вздутым. Через сутки или двое явления эти исчезали, и нам казалось, что туберкулин действительно на стоящее хорошее специфическое средство против волчанки. Но Шперк оказался компетентнее нас, он сфотографировал этих больных, когда они были привезены в Институт. Когда через месяц снова сделали снимки, то все увидели, что никакой пользы от туберкулина нет, и тогда прекратили лечение волчанки тубер кулином
Как уже было сказано выше, определенных штатов в Инсти туте в то время еще не было, да и вообще в то время Институт не представлял собой еще ничего определенного. Были частные совещания у принца Ольденбургского: кандидаты, намеченные руководить отделами, посещали будущий Институт, смотрели, что в нем делается. Одним из кандидатов был и Иван Петрович, в то время уже профессор фармакологии Военномедицинской академии. Заискивать перед властями он не умел, навязываться не хотел, и вопрос о штатах оставался нерешенным. Проф В .К .Анреп к тому времени был отстранен от должности дирек тора, и кандидатура проф. В .Я .Данилевского, которого он вы двигал на заведование физиологическим отделом, отпала, и вско ре им стал И .П .Павлов
Иван Петрович, не без нажима друзей, начал изучать в Ин ституте влияние туберкулина на кровяное давление. Надо ска зать, что Иван Петрович был чрезвычайно застенчивым и скром ным, и все его близкие знакомые старались сделать все, от них зависящее, чтобы материально обеспечить его возможно лучше Но Иван Петрович не обнаруживал никакой склонности ни к какой работе, кроме физиологии. Атмосфера вокруг принца Оль денбургского для людей щепетильных не могла быть особенно симпатичной, многие, даже искавшие работу, нелегко мирились с такой обстановкой. Павлов в то время тоже несколько тяготился этим. Он говорил мне, что долго работать в Институте не бу дет, поправится немножко материальное положение, и он оста нется только в Военномедицинской академии. Но затем, когда Павлов убедился, что здесь можно получить все средства для научной работы и сотрудничающие с ним доктора смогут рабо тать, не тратя своих средств на эксперименты, что все им будет предоставлено – и собаки, и корм, а главное, что тут у него бу дет много сотрудников, – это все и привязало его к Институту
<1936>
В.П. КАШКАДАМОВ
Из воспоминаний о работе в Институте эспериментальной медицины (1894—1897 .)
В 1894 г. в сентябре месяце я приехал в Петербург с опреде ленной целью найти возможность попасть в физиологическую лабораторию И. П. Павлова, чтобы под его руководством выпус тить приличную в научном отношении работу в качестве диссер тации на степень доктора медицины.
В первый же день приезда я пришел в лабораторию и от при сутствовавших работников получил весьма печальные вести, что все свободные места заняты и Иван Петрович не примет меня. Как это ни казалось мне убедительным, я все же решил выяс нить этот вопрос с самим Павловым и стал дожидаться его при хода. Время быстро пролетело, и минут через 30—40 появился И. П. Павлов. Я обратился к нему с просьбой принять меня в свою лабораторию. Он пригласил меня в кабинет, и тут произо шел между нами очень любопытный разговор, который ярко об рисовывал личность И. П. Павлова.
«Вы служите?» – спросил он. «Нет». «Вы женаты?» – «Нет». – «Вы чем-нибудь связаны во времени?» – «Нет, я со вершенно свободен». – «Вы ограничиваете срок вашей рабо ты?» – «Нет, я могу отдать работе столько времени, сколько по требуется, 1—2 года, меня ничто не торопит. Меня интересует научная сторона дела. Я желаю этому научиться у вас, так как служба как таковая меня не тянет к себе».
Он на это ответил:
«Вот это хорошо. Я как раз в таких людях нуждаюсь. Я при нимаю вас в свою лабораторию. Имеете ли вы квартиру?» – «Нет, у меня нет знакомых». – «Хорошо, я сейчас же узнаю, есть ли в нашем общежитии свободная комната, и, если возмож но, немедленно вас устрою. Вы сегодня же занимайте комнату».
Иван Петрович пошел узнавать. Оказалось, что имеется ком ната, и в тот же день я переехал в Институт. Итак, в один день мне удалось разрешить два вопроса: найти место работы и место жительства. Но этим Иван Петрович не ограничил своих забот о моем положении. Он поинтересовался моими финансами. Я объяснил ему, что средства у меня скромные, и я был бы не прочь при его содействии получить ту же поддержку, какую имел в Москве, т.е. получать от Медицинского департамента ежемесяч но по 40 руб. в качестве сверхштатного медицинского чиновни ка. И. П. Павлов обратился с ходатайством в Медицинский де партамент о прикомандировании меня к Институту, и я, таким образом, был обеспечен до конца своей работы в нем. Моя обя занность заключалась в том, что я по первому требованию Ме дицинского департамента обязан был ехать для борьбы с эпиде миями.
Таким образом, я устроился в Институте и мог приступить к работе. Для этого необходимо было выбрать тему. Иван Петро вич предложил мне сначала присмотреться к тому, что делается в лаборатории, и, хотя в 1894 г. число работающих у И. П. Пав лова было значительное, я через некоторое время уже ясно пред ставлял, какие вопросы разрабатываются в лаборатории.
Не успел я решить вопрос о выборе темы, как в октябре 1894 г. Медицинский департамент предложил мне командировку в г. Уральск для борьбы с эпидемией дифтерита. Здесь я пробыл до мая 1895 г.
С осени того же года возобновилась моя работа у Ивана Пет ровича. Он дал мне тему по физиологии слюнных желез, кото рая была связана с вырезыванием их и последующим физиоло гохимическим анализом на содержание азота.
Вся операционная часть лежала на Иване Петровиче, а хими ческая – на мне. Нужно было изучить химическую методику, ознакомиться с литературой. Опыты делались сериями из 10 со бак; таких серий (до начала мая 1896 г.) я провел 6. Эта тема отняла у меня не менее 8 месяцев и стоила жизни 60 собакам. Тут произошло событие, которое заставило Ивана Петровича и меня бросить эту тему и взяться за другую, совершенно новую, с новой методикой и с новыми животными – лягушками.
Среди всех месяцев года в Военномедицинской академии май отличался обилием диссертаций. Немалая часть их относилась к физиологии и физиологической химии, по которым неизмен но выступал оппонентом И. П. Павлов. Каждый раз после защи ты диссертации он приходил в Институт и делился с нами свои ми впечатлениями по поводу самих работ и их результатов.
Профессором физиологической химии был А. Я. Данилев ский. Между ним и Иваном Петровичем не раз происходили во время защиты диссертаций различные столкновения. В один и майских дней выступил из лаборатории А. Я. Данилевского Д. И. Кураев с диссертацией на тему «О белковом состоянии мышц покойных и деятельных». В этой работе Д. И. Кураев кос нулся очень важного вопроса: за счет чего протекает работа мы шечной ткани? Несовершенство методики повело к неправиль ным расчетам и выводам. Получилось впечатление, что в работе мышц участвуют белки. Вся отрицательная методическая сто рона так сильно задела физиолога Ивана Петровича Павлова и показалась ему с научной точки зрения недопустимой настоль ко, что он, считая себя правым, решил немедленно проверить свои взгляды, и чем скорее, тем лучше. Приблизительно в таком смысле он изложил перед нами свои соображения. Он очень за интересовался этой темой, очень горячо и заманчиво рисовал пе ред нами перспективы. Сначала он обратился ко всем с опросом, кто желает взять данную тему? Молчание. Тогда он обратился ко мне с этим предложением как наиболее свободному по време ни и обещал всяческое содействие. Я подумал о своей почти на половину проделанной работе и сравнил ее с новой. Как ни жаль было бросать ее, я все же учел, что новая тема представляется более важной по своей научной значимости и обещает более ско рые результаты. В конечном итоге, думал я, она обогатит мой фи зиологический опыт. Я согласился и немедленно приступил к подготовке всего необходимого для специальных опытов над мышцами лягушек. Не буду здесь останавливаться на этой ра боте, так как все это было описано в моей диссертации.
Для доказательства основных положений, выдвинутых темой, пришлось провести 20 серий опытов, каждая из которых состо яла из 10 групп по 6 лягушек. Таким образом, для каждой се рии потребовалось 60 лягушек, а всего – 1200.
Здесь для меня появилась возможность ознакомиться с мето дом раздражения нервов электрическим током (санный аппарат), вырезывания икроножных мышц из обеих ножек и последую щим химическим анализом мышц на их вес, плотный остаток, содержание углеводов и белков.
Иван Петрович и я горячо взялись за работу, а когда я в до статочной степени усвоил методику, то дальнейшие опыты ста вил и проводил самостоятельно, докладывая ему периодически результаты.
Одновременно с этим я знакомился с литературой, по преиму ществу немецкой. Уже в первые месяцы 1897 г. начали обрисовываться выводы, вполне подтверждающие ранее высказанные И. П. Павловым взгляды.
В марте все опыты были закончены, обработаны, составлены таблицы, диссертация написана, просмотрена, отпечатана в нуж ном числе экземпляров (500) и представлена к защите в Военно медицинскую академию. После официального одобрения был назначен и срок защиты. С большим нетерпением Иван Петро вич и я ждали этого дня, а после защиты мы чувствовали себя победителями.
Конечно, было бы смелостью считать, что этот вопрос был окончательно решен моей работой; он был настолько сложным, что требовал постановки новых комбинаций опытов, и все же можно признать, что эта работа уточнила вопрос об израсходо вании безазотистых веществ при мышечной работе.
Защитой диссертации закончилось время моего пребывания в Институте экспериментальной медицины, и моя жизнь пошла по иному руслу. Моя связь с Институтом слабела, интересы ув лекали меня далеко в сторону от лаборатории Ивана Петровича Павлова, тем не менее память о моей работе под руководством И. П. Павлова осталась у меня на всю жизнь. Могу смело сказать, что Иван Петрович вызвал во мне такой глубокий интерес к физиологии, который в значительной степени способствовал правильному подходу при решении тех или иных вопросов общей гигиены (гигиены питания, гигиены умственного труда и др.).
За трехлетний период работы у Ивана Петровича для меня выявился целый ряд особенностей его личности, с одной сторо ны, как научного руководителя, с другой – как научного работ ника.
Прежде всего нужно отметить, что И. П. Павлов предоставлял широкую свободу каждому работающему в пополнении своих знаний, в изучении методики, но требовал от каждого добросо вестного и честного отношения к своей работе. Он приучал нас относиться ко всяким неудачам терпеливо и всегда помнить, что мы учимся на неудачах и что плохо тому, у кого все идет благо получно.
Не менее одного раза в неделю он беседовал с каждым из нас и старался, чтобы в таких беседах принимали участие все ра ботники. Благодаря этому мы всегда были в курсе тех работ, ко торые проводились в лаборатории. Все факты подвергались всестороннему обсуждению и самой строгой критике. Если об наруживалась малейшая небрежность, невнимательное отношение к работе, поспешное заключение, Иван Петрович набрасывался на виновного и делал ему замечание в резкой форме. Та кая резкость, в особенности в первое время, задевала меня, и я реагировал на нее весьма болезненно. Потом, когда я убедился, что гнев у Ивана Петровича через четверть часа совершенно осты вает и он забывает обо всем, обращаясь с виноватым постарому, я стал относиться к этому гораздо спокойнее.
Иван Петрович вел очень регулярную, размеренную жизнь, распределяя всю работу по дням и часам. Почти всегда он был бодрым, оживленным, всегда был чем-нибудь увлечен, но при этом легко сознавался в своих ошибках и отказывался от недо статочно обоснованных выводов.
В 1897 г. появилась книга И. П. Павлова «Лекции о работе главных пищеварительных желез», в которой были изложены в систематической форме результаты работ, проведенных в его лаборатории 21 учеником за период с 1888 по 1896 г. Он удосто ил меня чести преподнесением своей книги с надписью.
Всех нас Иван Петрович привлек к участию в качестве чле нов в Общество врачей, любителей физических упражнений. Мы собирались по вечерам во вторник в гимнастическом зале при Адмиралтействе и здесь усердно занимались гимнастикой под руководством опытного специалиста. Несмотря на свои 45– 46 лет, Иван Петрович считался одним из первых гимнастов на шей группы (в которой было не менее 30 человек). Лето он про водил всегда вне города и при этом всецело отдавался отдыху, понимая под этим прогулки, купанье и различные игры, из ко торых более всего любил городки. Осенью он возвращался к ра боте вполне свежим и отдавал ей достаточно времени.