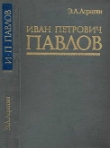Текст книги "И.П.Павлов PRO ET CONTRA"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 61 страниц)
Многие павловские письма в СНК содержат требования о пре кращении преследований священнослужителей и их семей. От числение из Военномедицинской академии сыновей священни ков послужило Павлову в 1924 г. поводом к прекращению работы в своей almae matris, хотя причины его ухода оттуда были гораздо масштабнее. Однако и борьбу за изменение отношения прави тельства к духовенству он считал очень важной и вел ее до по следних дней жизни. За два с половиной месяца до кончины он писал председателю СНК В. М. Молотову: «Прежнее духовное со словие – одно из наиболее сильных и здоровых сословий России. Разве оно мало работало на общую культуру Родины? Разве пер вые наши учителя книжной правды и прогресса не были из ду ховного сословия: Белинский, Добролюбов и др.? Разве наше врачебное сословие до революции не состояло едва ли не на 50 процентов из лиц духовного сословия? А разве их мало и в об ласти чистой науки и т.д., и т.д.? Почему же они какоето от верженное сословие даже в детях (фраза зачеркнута. – Авт .)?.. О нашем (зачеркнуто: о Вашем. – Авт .) государственном атеиз ме я считаю моим долгом говорить моему Правительству потом… и более пространно» [37].
Ответ В. М. Молотова от 28 декабря 1935 г. свидетельствует, что требования И. П. Павлова не остались гласом вопиющего в пустыне. В начале письма предсовнаркома обещал разобраться, насколько была оправдана высылка из Ленинграда «несколько лиц», за которых ручался Иван Петрович: «Могу Вас заверить, что советские власти охотно исправят действительно допущен ные на месте ошибки» [38].
«Теперь, – продолжал Молотов, – насчет ограничений в от ношении детей лиц из духовенства. На это могу Вам ответить только одно: теперь, действительно, в этих ограничениях нет ни какого смысла, кроме отрицательного. Они нужны были в свое время, а теперь подлежат безусловной отмене» [38]. И на самом деле, отношение советского правительства к духовенству и ре лигии изменилось к лучшему в предвоенные годы, а не во время войны, как пишут некоторые современные историки. Полагаю, что Павлову принадлежит не последняя роль в преодолении от верженности духовного сословия. С его требованиями и протес тами правительство считалось благодаря Ленину, а потом – Бу харину.
Выполняя ленинский завет, Бухарин в 20е . сблизился с Павловым, преодолев негативные последствия полемики между ними в 1923—1924 . В статье «Иван Павлов и Николай Буха рин» [19] подробно описано совершенно бесцеремонное вторжение Бухарина в павловскую квартиру и его участие без пригла шения в семейном обеде. Вначале обедали в гнетущем молчании, а потом благодаря компетентной оценке коллекции бабочек, развешанной на стенах столовой, незваный гость сумел заинте ресовать собой Ивана Петровича.
Описание этого эпизода Бухарин закончил фразой: «Так на чался мой роман со стариком». И если поначалу это был роман по расчету (по партийному заданию), то вскоре чувственный Бу харин искренне полюбил Павлова. И немудрено. Вспоминая первую встречу с этим замечательным человеком при работе над его портретом, М. В. Нестеров писал: «Более яркой особы я и представить себе не мог. Я был сразу им покорен, покорен на всегда… Иван Петрович был донельзя самобытен, непосред ствен» [39].
В некрологе 28 февраля 1936 г. Бухарин открыто признался в своих чувствах к Павлову: «Не скрою: я влюбился в этого че ловека, и он отвечал мне взаимностью» [40]. Любовь помогла ему выполнить ленинское задание, несмотря на противодействие как самого Ивана Петровича, так и многих партийных и государ ственных деятелей.
Сначала Бухарин отделил учение Павлова от него самого и объявил, без согласия на то автора, рефлекторную теорию есте ственнонаучной платформой диалектического материализма и политической доктрины коммунистической теории. Далеко не все руководители государства, официальные философы и даже ученые приняли бухаринскую интерпретацию павловского уче ния об условных рефлексах. Например, Н. А. Семашко утверж Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 673 дал: «Слабая сторона его (Павлова. – Авт .) учения состоит в том, что он механический, а не диалектический материалист… И как бывает с механистами, механистматериалист Павлов, много поработавший над разрушением идеализма и поповщины, смыкается с самым доподлинным идеализмом» [41].
Примерно так же оценивал учение своего учителя коммунист Н. Н. Никитин, директор Ленинградского филиала ВИЭМа, в письме к нему: «Наша партия объявила, Иван Петрович, меха нистическую опасность как главную опасность на теоретическом и политическом фронтах. Рефлекторная теория является меха нистической не только по методу своей работы, но и по самому своему существу» [42].
В 1929 г. В. В. Куйбышев вслед за Горьким обозвал Павлова черносотенцем. Бухарин тут же отпарировал: «Что он “Интер национал” не поет, это я знаю. Но он все же воспитывался на Писареве, продолжает дело Сеченова, а антибольшевистские тенденции его – существующие – скорее демократ[ически]бур ж[уазного характера. Но он самый крупный физиолог в мире, материалист и, несмотря на все свое ворчание, идеологически работает на нас (в своих сочинениях, а не в речах)» [43].
Наверное, в этих словах содержится преувеличение значимо сти работ Павлова для правящей партии, а значит, и заслуг са мого Бухарина в выполнении задания ее основателя. О цели это го преувеличения любимец партии проговорился в некрологе: «Павлов наш целиком, и мы его никому не отдадим» [40].
В наши дни, когда охаивание коммунистического прошлого стало политически выгодным, находятся «писатели», чернящие И. П. Павлова за якобы обоснование (и даже оправдывание) его учением о высшей нервной деятельности диалектического мате риализма и диктатуры пролетариата со всеми ее атрибутами, включая красный террор. Но при чем тут Павлов? Так исполь зовали рефлекторную теорию Сеченова—Павлова Бухарин и его последователи в своих интересах, с одной стороны. А с другой стороны, Гредескул, угождая Зиновьеву, доказывал, что учение Павлова – идейная платформа буржуазного строя и борьбы бур жуазии против советской власти.
Беда в том, что любая серьезная естественнонаучная доктри на может быть истолкована политиками как им будет угодно. И чем величественнее творение ученого, тем больше соблазна у разных политических лагерей вести за него конъюнктурнодиа лектическую борьбу. Они напоминают моллюсков«прилипал» к днищу корабля, которые не могут потопить и даже остановить его, но все же служат помехой движению. Сам же Иван Петро вич изо всех сил противился идеологизации науки [21, 22].
Прочитав летом 1931 г. «Материализм и эмпириокритизм», Иван Петрович говорил Никитину, что считает рассуждения автора здравыми, но его коробит грубость ленинских выраже ний. Эту книгу принес Павлову Бухарин, который последова тельно в своей настойчивости, но деликатно и не торопя собы тия старался изменить его отношение к советской власти.
Н. И. Бухарин оказывал реальную помощь Ивану Петровичу в научноорганизационных делах – в строительстве новой пав ловской лаборатории в Колтушах, на что были ассигнованы ог ромные суммы денег, передаче Физиологическому институту АН СССР большого двусветного зала и помещений геологической лаборатории самого президента Академии наук А. П. Карпин ского в доме № 6 на Тучковой набережной (набережной Макаро ва) в Ленинграде. В 1927 г. было подготовлено решение о при своении ИЭМу имени Павлова, но он отказался от такой чести. Через два года в ознаменование его 85летнего юбилея Лопухин ская улица была переименована в улицу Академика Павлова. Одновременно с переименованием она перестала быть прямым лучом между Каменноостровским (тогда улицей Красных Зорь) и Аптекарским проспектами и до сих пор огибает ИЭМ, чтобы его отдел физиологии со знаменитой «Башней молчания» нахо дился подальше от транспортной магистрали, прежде проходив шей рядом с ним.
Выше говорилось о миротворческой миссии Бухарина во вза имоотношениях Павлова с представителями властных структур. Заметим, что он усмирял страсти обеих сторон. Куйбышева он убеждал в том, что Павлов «идеологически работает на нас», а его самого умолял «не ссориться с революцией». Обратимся, например, к цитате из его письма Ивану Петровичу в конце 1931 г.: «За Вами готовы ухаживать как угодно, все готовы идти навстречу всякой Вашей работе, а Вам обязательно хочется вста вить революции перо. Не делайте этого, ради бога. Вы не серди тесь на меня за эту интервенцию. Но мы условились с Вами на счет откровенности. Так уж разрешите обратиться к Вам и с этой горячей просьбой. Не ссорьтесь с революцией. Вы ведь окаже тесь неправы, не говоря о всем прочем. Я уж так Вас об этом прошу. Это важней всего прочего. Ну, до свидания, не гневай тесь» [44]. В этом письме содержалась просьба не оставлять ста рое предисловие (со всякими «инвективами» насчет революции) в новом издании книги «Двадцатилетний опыт объективного Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 675 изучения высшей нервной деятельности (поведения) живот ных». Здесь уместно заметить, что эта книга, опубликованная благодаря знаменитому ленинскому декрету, заняла почетное место в «Списке самых выдающихся книг, вышедших на рус ском языке в 1924 году», составленном Институтом интеллек туального сотрудничества при Лиге наций в Лозанне.
На рубеже 20—30х . Бухарин аккуратно приступил к во влечению Павлова в пропаганду успехов Советского Союза, играя на государственном патриотизме человека, не скрывавшего сво ей безграничной любви к России – даже тогда, когда это расце нивалось как шовинизм. «Весь я русский, – писал он в СНК, – все, что есть во мне, все вложено в меня моею русскою обстанов кой, ее историею, ее великими людьми» [1]. Возвращаясь из своей первой заграничной поездки, тридцатилетний Павлов го тов был, по собственному признанию, расцеловать даже русско го жандарма на приграничной станции.
Заняв в 1934 г. пост ответственного редактора «Известий», Н. И. Бухарин стал систематически, причем все чаще и чаще, публиковать в своей газете интервью с академиком Павловым. Направлял к нему умных и изощренных в своем деле журнали стов, которые интервьюировали Ивана Петровича столь тактич но и корректно, что он не мог их упрекнуть в искажении его мыслей и речей. Вместе с тем они тонко обходили вопросы, в честных ответах на которые ему пришлось бы проявлять нело яльность к советской власти. Постепенно круг таких вопросов становился все уже.
В 1923 г. И. П. Павлов во вступительной лекции к курсу фи зиологии студентам ВМА заявлял, что «по теперешним газетам составить себе понятие о жизни едва ли можно, они слишком пристрастны, и я их не читаю» [3]. А в 30е . он стал активно сотрудничать с советскими журналистами, выступал с обраще ниями к молодежи, шахтерам, колхозникам. В этих обращени ях не было ничего противного советскому государству. Вместе с тем они всегда содержали мысли, далеко не общепринятые. Так, касаясь развития колхозного движения, Иван Петрович писал: «Есть, конечно, своя, и большая, выгода в коллективном труде сравнительно с личным. Лишь бы выдержала это наша русская натура» [45].
В приветствии первому слету стахановцев он желал им «дви гаться по единственно обеспечивающей счастье человека доро ге» – дороге труда, соединяющего «голову с руками», когда в физический труд вносится «какая-нибудь хорошая догадка». Получив ответное письмо, в котором стахановцы заверяли его, что повсеместно развернут свое движение, он радостно восклик нул: «Конец бездельникам!»
Его радовала надежда, что в СССР будет преодолено неуважение к труду, свойственное царской России, о чем он много гово рил прежде, в частности в лекции «О рабстве и барстве», кото рой ежегодно открывал курс физиологии в Военномедицинской академии на протяжении десятка дореволюционных лет. «По чему, – негодовал профессор, – в Европе труд мойщика улиц в почете, а у нас работа дворника презирается обществом? Причи на в том, – отвечал он на свой вопрос, – что в России слишком долго процветало крепостное право – вот и укоренилось у нас не уважение к труду. Его презирают и феодал, который не трудит ся, и крепостной, плоды труда которого принадлежат помещи ку. Капитализм воспитывает уважение к труду, хотя и изпод палки. Европа, став на путь капитализма, далеко опередила нас в воспитании труженика. Российские леность, равнодушие, не брежное отношение к жизненной работе – это дрянной нанос, наследие крепостного права. Оно сделало из барина тунеядца, оставив рефлекс цели без работы. Оно же сделало из крепостно го пассивное существо без всякой перспективы достичь лучшей жизни самоотверженным трудом».
Мне рассказывала В. К. Фадеева, что на одной из «сред» Иван Петрович развил тему воспитания уважения к труду в связи со стахановским движением. Он говорил, что если капитализм вос питывает труженика, используя «отрицательное подкрепление» (не будешь трудиться, не на что будет жить), то социалистиче ское общество пытается достичь той же цели на «положитель ном подкреплении» – моральным поощрением трудовой дея тельности, объявляя лучших тружеников героями страны. На таком подкреплении условные рефлексы вырабатываются гораз до труднее, чем на отрицательном. Павлов сомневался в возмож ности такого воспитания «в массовом порядке» – и все же на деялся на лучшее.
Бухарин точно выбрал время для начала своей «атаки» на Павлова. Если первые послереволюционные годы прошли под знаком разрушения российской государственности, то в конце 20х . наметилось ее возрождение. Иван Петрович не мог этого не заметить и был не одинок в своей оценке событий.
Недавно мне посчастливилось познакомиться с замечатель ным человеком, высказавшим в наши времена примерно те же мысли, которые обуревали Павлова в годы революции. Это ака Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 677 демик Никита Николаевич Моисеев *. В ответ на мой рассказ о метаморфозе политических взглядов Ивана Петровича на рубе же 20—30х . он задумчиво произнес: «Я сейчас вспомнил раз говор моего деда с отцом в 1929 г. Дед тогда сказал: «Смотри, Николай, а ведь большевики не совсем уж прохиндеи – они начали восстанавливать российское государство, может быть, они и вправду хотят возродить Россию». И хотя через год Нико лай Сергеевич Моисеев, работавший заведующим отделом ста тистики в Управлении водных путей сообщения, был арестован по делу Промпартии и сгинул в застенках, хотя Сергей Василь евич Моисеев, которому принадлежали приведенные выше сло ва, умер в 1931 г., переживая гибель сына, хотя другого деда Никиты Николаевича уничтожили еще раньше – в 1928 г., хотя сам он испытывал на себе многие беды «лишенцев», Н. Н. Мои сеев отдал всю свою жизнь родине и сохранил тот же, что был у его родителей и Павлова, государственный патриотизм.
В отличие от внуков ряда видных большевиков он называет недавнюю акцию объявления независимости России «предатель ством по отношению к самим себе, т.е. предательством русско го народа, который на протяжении тысячелетия цементировал государство, создавал его культуру» [46]. Верхом бессмыслицы Н. Н. Моисеев считает разделение современной российской интел лигенции на «демократическую» и «патриотическую»: «…разве может быть демократия без патриотизма или патриотизм без демократии» [46]. И, наконец, почти слово в слово Никита Ни колаевич повторяет павловское объяснение поведения власть предержащих, «гайдарообразных», как он их называет, по от ношению к подвластному им народу при реформировании стра ны – диагноз двух умудренных жизнью людей, вынесенный с интервалом в несколько десятков лет, одинаков: «Пренебрежение к человеку, особенно к русской интеллигенции» [46].
* Н. Н. Моисеев родился в Москве 23 августа 1917 г. В 1941 г. окон
чил математический факультет МГУ и добровольцем ушел на защи
ту родины, служил инженером по вооружению авиационного полка,
был ранен. После войны стал профессором, избран академиком АН
СССР, руководил вычислительным центром Академии наук и внес
большой вклад в освоение космоса и другие актуальные разработки
учреждений Академии наук. В 1983 г. разработал модель биосфер
ных процессов. В 1992 г. стал президентом основанного им Между
народного независимого экологополитологического университета.
Познания Н. Н. Моисеева энциклопедичны, научные интересы
многогранны, вклад в науку уникален. Его считают «своим» пред
ставители многих фундаментальных и прикладных наук.
Смею утверждать, что И. П. Павлов в 30е . изменил свое от ношение к советской власти не потому, что приспособился к ней, а благодаря кардинальной коррекции ею самой своей государ ственной политики. 8 декабря 1935 г. Павлов писал Молотову: «Чем дольше существует ваш режим, тем дальше он от тех край ностей, с которых он начинался, беря теперь во внимание реаль ную действительность, а не теоретические конструкции» [34].
Прежняя теоретическая конструкция провозглашала интер национальную солидарность трудящихся всего мира без государ ственных границ как основу нового мирового порядка. К концу 20х . стали утверждать, что социализм может победить в от дельной стране, а для сохранения себя во враждебном окруже нии необходимо укреплять государство. Мотивы укрепления государственности у Павлова и советской власти были разные, но «реальная действительность», направленная на восстановление могучей российской державы, его устраивала.
В 1935 г. Иван Петрович, ознакомившись с проектом кон ституции, которая гарантировала гражданам СССР основные политические права, стал надеяться на «приближение зари де мократической эры в СССР», о чем сказал на собрании своих со трудников: «Мне кажется, что жизнь меняется к лучшему… Мне хочется верить, что действительно совершается поворот к нор мальному течению жизни» [47]. В этих словах не чувствуется уверенности, но в них присутствует надежда, которую заронил в его душу, а вернее терпеливо и кропотливо взлелеял в его душе Н. И. Бухарин, один из основных авторов первой советской кон ституции.
Позднее не менее сильное влияние на Ивана Петровича стал оказывать другой видный партийный и государственный деятель Г. Н. Каминский, о котором Павлов говорил: «Умный больше вик, с ним все охотно сотрудничают».
Однако сильнее словесных убеждений этих людей действова ли на Павлова факты. Только им он доверял и в лаборатории, и в повседневной жизни. А факты были таковы, что весь мир на зывал в 30е . «русским чудом» колоссальные темпы индуст риализации страны и прогресс в создании нового бесклассового общества. Это отметил профессор Эдинбургского университета Д. Барджер в своей речи на заключительном пленарном заседа нии XV Международного конгресса в Московской консерватории 17 августа 1935 г.; именно в этой речи Павлов был назван «пер вым из физиологов мира» – «princeps physiologorum mundi».
Столь высокая оценка была приятна Ивану Петровичу преж де всего потому, что она выражала преклонение мирового науч Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 679 ного сообщества перед российским гением. В 1930 г. он писал В. И. Репиной: «Когда мы любим, гордимся отечеством – это значит, что мы любим, гордимся его великими людьми, т.е. те ми, которые сделали отечество и сильным, и уважаемым на ис торической сцене. Ваш отец был одним из таких людей» [48].
Через 4 дня после смерти Д. И. Менделеева Иван Петрович говорил на заседании Общества русских врачей: «Русское обще ство, выдвинув из своей среды такую ученую величину, как Менделеев, может с полным доверием относиться к своему бу дущему» [49].
Он очень бережно относился к памяти отечественных ученых, стараясь этим внушить уважение к своей родине. Узнав в 1931 г. о решении правления Московского научного общества невропа тологов и психиатров снять со своего журнала имя С. С. Кор сакова, выдающегося российского психиатра, Павлов кипел от негодования. Оно долго не проходило. Спустя год один из руко водителей этого общества – профессор Ю. В. Каннабих пригла сил Ивана Петровича на научную конференцию. Павлов ответил отказом, который мотивировал так: «Я имею сильное зло про тив Московского общества невропатологов и психиатров за унич тожение им на обложке журнала общества литературного памят ника Корсакову – и потому не имею расположения участвовать в его предприятии» [50].
И если в первые послереволюционные годы ученых относили к представителям эксплуататорских классов, игнорируя их тре бование, чтобы труженики научной мысли были во всех меро приятиях правительства приравнены к трудовым элементам страны, то к середине 30х . ученый стал занимать в обществе почетное место. Отвечая на приветствия при посещении Рязани в августе 1935 г., Павлов говорил: «…у нас теперь чувствует на уку весь народ… Раньше наука была оторвана от жизни, была отчуждена от населения, а теперь я вижу иное: науку уважает и ценит весь народ. Я поднимаю бокал и пью за единственное пра вительство в мире, которое так ценит науку и горячо ее поддер живает, – за правительство моей страны» [51].
Павлова радовало, что за первое пятилетие 30х . средняя заработная плата советского рабочего и служащего поднялась втрое благодаря тому, что золотые резервы СССР увеличились до 1400 миллионов фунтов стерлингов. Ему импонировало укреп ление государственного сектора во всех отраслях экономики, образования, культуры, науки. Если за одинаковую работу зар плата государственного служащего ниже, чем у работника част ного предприятия, то это верный признак слабого государства.
Надежной предпосылкой гармонии в общественных отноше ниях Иван Петрович считал то, что в СССР «уничтожена дикая пропасть между богатыми и бедными» [52], которая и привела Россию к революции. Это мнение Павлова разделяют современ ные европейские политологи, утверждающие, что гарантией предупреждения социальных взрывов может быть не более чем четырехкратная разница в доходах бедных и богатых слоев на селения.
И. П. Павлову доставляло глубокое удовлетворение то, что такой важный атрибут советской государственности, как Крас ная Армия, становится все сильнее, что она пользовалась любо вью народа, хотя на нее затрачивался каждый шестой рубль го сударственного бюджета. 18 августа 1935 г. Иван Петрович вместе с другими делегатами XV Международного физиологиче ского конгресса присутствовал на авиационном празднике в Ту шино, где он, подогреваемый рассказами о советских летчиках его племянника, авиационного командира А. Д. Андреева, вы казал буквально детский восторг.
С Красной Армией Павлов связывал свои надежды в обузда нии фашизма, угроза которого нарастала в Европе, о чем он пре дупреждал Молотова в своем письме. В отличие от некоторых нынешних «гуманистов», в 30е . писатели, ученые, обще ственные деятели Европы и Америки не отождествляли больше вистскую Россию с фашистской Германией. Напротив, только в Советском Союзе и его Красной Армии они видели силу, способ ную пресечь распространение коричневой чумы. Для Ивана Петровича этот коричневый цвет выглядел особенно зловеще, потому что принадлежал германскому фашизму.
Прочитав павловские лекции «Об уме вообще и о русском уме в частности», читатель может убедиться, что их автор, исходя из геополитических соображений и исторического опыта, есте ственную опасность для России и всего славянского мира видел в их «германизации и отуречивании» (Турция тогда еще остава лась главным оплотом мусульманского мира). В 30е . он не сомневался, что Германия нападет на СCCР, и приветствовал политическую доктрину коллективной безопасности, предло женную тогда Советским Союзом мировому сообществу. Беспо коясь за судьбу своей страны, Павлов перестал поощрять даже антисоветские шутки и анекдоты. Его сотрудница В. К. Фадее ва рассказывала мне, как был обескуражен в 1934 г. физиолог, приехавший в павловскую лабораторию из провинции, реакци ей Ивана Петровича на рассказанный им анекдот из той серии, Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 681 которая прежде нравилась хозяину. А теперь он резко оборвал гостя словами: «Тот негодяй, кто хулит собственное правитель ство, когда родина в опасности».
Тема мира была одной из самых важных в публичных выступ лениях И. П. Павлова: «Мы хотим не воевать, а творить… Гос подин Гитлер хочет воевать… Развяжите руки господину Гитле ру – и он немедленно попытается проглотить нас и кого угодно еще как муху. Вот почему мы должны особенно одобрять и под держивать борьбу нашего правительства за мир» [53].
Приветствуя делегатов XV Международного конгресса при его открытии 9 августа 1935 г. в Таврическом дворце, Иван Петро вич прежде всего заговорил о страстном «всесветном» желании и стремлении избежать войны на Земле: «Война по существу есть звериный способ решения жизненных трудностей, способ, недо стойный человеческого ума с его неизмеримыми ресурсами… Я счастлив, что правительство моей могучей Родины, борясь за мир, впервые в истории провозгласило: “Ни пяди чужой земли!”» [54]. Эти слова восторженно, стоя приветствовали все делегаты. Сдержанность проявили только немцы и японцы.
И. П. Павлова радовала воспитанная в СССР молодежь, кото рую его зарубежные друзья признавали «сильнейшей статьей актива Советского Союза». Один из четырех председателей физиологического конгресса Луи Лапик писал во французской газете по возвращении на родину: «Знакомство с советской фи зиологией было настоящим откровением… Советская власть пре доставляет ученым неслыханные материальные возможности… Беседы с научной молодежью ошеломили и обогатили меня са мого… Для СССР очень характерно, что ученый занимает в об ществе первое место… Самое прочное впечатление, которое я вынес из Советского Союза, – это впечатление мощи научного движения» [55]. Очевидно, Лапик не думал бы так, если бы в беседах с Иваном Петровичем не убедился в правильности сво их суждений.
Поведение И. П. Павлова на конгрессе в присутствии 1500 че ловек невозможно интерпретировать иначе как признание совет ского правительства своим, а «большевистский эксперимент» – заслужившим право на проведение. Те, кому не хочется сейчас признать произошедшую метаморфозу в политических взглядах Ивана Петровича, не оспаривают этот широко известный эпизод его жизни. Но они пытаются убедить своих читателей, что в коротком эпизоде Павлов не был самим собой, а действовал чуть ли не под гипнозом Бухарина и Каминского.
Факты опровергают такие домыслы. Уже в 1931 г. Иван Пет рович в частной беседе со своим учеником Никитиным признал ся, что его теперь интересуют только две вещи: как будет раз виваться теория условных рефлексов и что же произойдет с большевиками, каков будет результат их эксперимента. В 1935 г. (до конгресса) он говорил И. М. Майскому, советскому послу в Лондоне: «Пожалуй, ведь вы, большевики, своего добьетесь. Я раньше в этом сомневался, но сейчас уверен – вы выиграе те» [56].
Таким образом, за 18 лет, прожитых И. П. Павловым при со ветской власти, его политические взгляды претерпели глубокие изменения – от полного неприятия «большевистского экспери мента» до лояльного отношения к генеральной линии советско го правительства, когда оно от разрушения России перешло к созиданию могучей державы. Павлова не запугали, не подкупи ли и не обманули. По завету Ленина коммунистическое руковод ство страны боролось за него – долго, терпеливо и настойчиво. Однако хитрые спекуляции на его державном патриотизме не могли бы привести Бухарина и других «борцов за Павлова» к желанному результату. Только приближение объективной реаль ности к павловскому идеалу родины, с которой считается весь мир, позволило ему считать себя гражданином Советского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями в мыслях и делах. При этом он сохранил за собой право говорить правительству правду, протестовать против того, что считал неправильным и вредным для российского государства. Думаю, что никто в СССР не спас от репрессий столько человек, сколько Павлов, и считаю кощунством обвинять его в причастности к варварским деяни ям сталинского режима.
Нередко Павлова называли диссидентом, т.е. инакомысля щим, несогласным с идеологией, господствовавшей в Советской России. По существу так оно и было. Но чтото в душе и созна нии мешает мне применить к Ивану Петровичу это слово, сим волизирующее теперь гражданское мужество. Почему? Не могу пока понять причину. Может быть, дело в том, что у большин ства известных мне диссидентов 60—90х . не было и нет госу дарственного российского патриотизма, составлявшего стержень личности Ивана Петровича Павлова. А у него были все основа ния сказать с достоинством: «Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мне мои силы, прежде всего моему Отечеству» [52]. Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 683
ЛИТЕРАТУРА 1. Письмо в СНК СССР о своих политических убеждениях – 21 декаб
ря 1934 г. // СПФ АРАН *. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 30. Л. 1—2 об. 2. Павлов И. П . Речь на приеме правительством делегации XV Меж
дународного конгресса физиологов 17 августа 1935 г. в Большом
Кремлевском дворце // ПСС. М.; Л., 1951. Т. 1. С. 19. 3. Лекция в ВМА 25 сентября 1923 г. для слушателей курса физиоло
гии // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 12. 4. Павлова С. В . Из воспоминаний // Осн. фонд Материалов Дома
музея И. П. Павлова в Рязани. Д. 173/3366. 5. Павлов И. П . Приветственное письмо председателя организацион
ного комитета I съезда физиологов им. И. М. Сеченова при откры
тии 6 апреля 1917 г. // ПСС. М.; Л., 1951. Т. 1. С. 9—11. 6. Орбели Л. А. Воспоминания. М.; Л., 1966. С. 83—84. 7. Речь И. П. Павлова на могиле Н. Н. Дубовского 1918 г. // СПФ
АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 1. Л. 1. 8. Постановление Конференции ВМА. 25 февраля 1918 г. // Лебедин
ский А. В., Мозжухин А. С. Очерки истории кафедры физиологии
Военномедицинской академии. Л., 1971. С. 122. 9. Об уме вообще (лекция, записанная С. В. Павловой). 15/28 апреля
1918 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 3. 10 л. 10. О русском уме (лекция, запись С. В. Павловой с поправками И. П. Пав
лова). 7/20 мая 1918 г. // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 4. 20 л. 11. Основа культуры животных и человека (лекция, запись С. В. Павло
вой с поправками И. П. Павлова). 14/27 мая 1918 г. // СПФ АРАН.
Ф. 259. Оп. 1а. Ед. хр. 5. 48 л. 12. Письмо И. П. Павлова архиепископу Луке (В. Ф. ВойноЯсенецко
му) // СПФ АРАН. Ф. 259. Оп. 2. Ед. хр. 1190. 13. Фролов Ю. П. Четверть века близ Павлова // Осн. фонд Домамузея
И. П. Павлова в Рязани. Д. 278/3375. 14. Письмо В. И. Ленина Г. Е. Зиновьеву // Российский центр хране
ния и изучения документов новейшей истории. Ф. 2. Оп. 1. Ед.