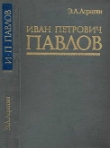Текст книги "И.П.Павлов PRO ET CONTRA"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 61 страниц)
Нетрудно описанную физиологическую работу высшего отде ла головного мозга животного привести в естественную и непо средственную связь с явлениями нашего субъективного мира на многих его пунктах.
Условная связь, как уже указано выше, есть, очевидно, то, что мы называем ассоциацией по одновременности. Генерализация условной связи отвечает тому, что зовется ассоциацией по сход ству. Синтез и анализ условных рефлексов (ассоциации) – в сущности те же основные процессы нашей умственной работы. При сосредоточенном думании, при увлечении каким-нибудь делом мы не видим и не слышим, что около нас происходит, – явная отрицательная индукция. Кто отделил бы в безусловны сложнейших рефлексах (инстинктах) физиологическое, сомати ческое от психического, т.е. от переживаний могучих эмоций голода, полового влечения, гнева и т.д.?! Наши чувства прият ного, неприятного, легкости, трудности, радости, мучения, тор жества, отчаяния и т.д. связаны то с переходом сильнейши инстинктов и их раздражителей в соответствующие эффектор ные акты, то с их задерживанием, со всеми вариациями либо легкого, либо затруднительного протекания нервных процессов, происходящих в больших полушариях, как это видно на соба ках, решающих или не могущих решить нервные задачи разны степеней трудности. Наши контрастные переживания есть, ко нечно, явления взаимной индукции. При иррадиировавшем воз буждении мы говорим и делаем то, чего в спокойном состоянии не допустили бы. Очевидно, волна возбуждения превратила тор можение некоторых пунктов в положительный процесс. Силь ное падение памяти настоящего – обычное явление при нор мальной старости – есть возрастное понижение подвижности специально раздражительного процесса, его инертность. И т.д., и т.д.
В развивающемся животном мире на фазе человека произош ла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельнос ти. Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больши полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды, как общеприрод ной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это – первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, специаль но нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигна лом первых сигналов. Многочисленные раздражения словом, с одной стороны, удалили нас от действительности, и поэтому мы постоянно должны помнить это, чтобы не исказить наши отно шения к действительности. С другой стороны, именно слово сде лало нас людьми, о чем, конечно, здесь подробнее говорить не приходится. Однако не подлежит сомнению, что основные зако ны, установленные в работе первой сигнальной системы, долж ны также управлять и второй, потому что эта работа все той же нервной ткани.
Самым ярким доказательством того, что изучение условны рефлексов поставило на правильный путь исследование высше го отдела головного мозга и что при этом наконец объединились, отождествились функции этого отдела и явления нашего субъ ективного мира, служат дальнейшие опыты с условными реф лексами на животных, при которых воспроизводятся патоло гические состояния нервной системы человека, – неврозы и некоторые отдельные психотические симптомы, причем во мно гих случаях достигается и рациональный нарочитый возврат к норме, излечение, т.е. истинное научное овладение предметом. Норма нервной деятельности есть равновесие всех описанны процессов, участвующих в этой деятельности. Нарушение этого равновесия есть патологическое состояние, болезнь, причем ча сто в самой так называемой норме; следовательно, точнее гово ря, в относительной норме имеется уже известное неравновесие. Отсюда вероятность нервного заболевания отчетливо связывается с типом нервной системы. Под действием трудных экспери ментальных условий из наших собак нервно заболевают скоро и легко животные, принадлежащие к крайним типам: возбудимо му и слабому. Конечно, чрезвычайно сильными, исключитель ными мерами можно сломать равновесие и у сильных уравнове шенных типов. Трудные условия, нарушающие хронически нервное равновесие, – это перенапряжение раздражительного процесса, перенапряжение тормозного процесса и непосредствен ное столкновение обоих противоположных процессов, иначе го воря, перенапряжение подвижности этих процессов. Мы имеем собаку с системой условных рефлексов на раздражители разной физической интенсивности, рефлексов положительных и отри цательных, применяемых стереотипно в том же порядке и с теми же промежутками. Применяя то чрезвычайно исключительно сильные условные раздражители, то очень удлиняя продолжи тельность тормозных раздражителей или производя очень тон кую дифференцировку, или увеличивая в системе рефлексов число тормозных раздражителей, то, наконец, заставляя следо вать непосредственно друг за другом противоположные процессы или даже действуя одновременно противоположными условны ми раздражителями, или разом изменяя динамический стерео тип, т.е. превращая установленную систему условных раздра жителей в противоположный ряд раздражителей, – мы видим, что во всех этих случаях указанные крайние типы особенно быстро приходят в хроническое патологическое состояние, вы ражающееся у этих типов различно. У возбудимого типа невроз выражается в том, что его тормозной процесс, постоянно и в норме отстававший по силе от] раздражительного, теперь очень слабнет, почти исчезает; выработанные, хотя и не абсолютные, дифференцировки вполне растормаживаются, угасание чрезвы чайно затягивается, запаздывающий рефлекс превращается в короткоотставленный и т.д. Животное становится вообще в высшей степени несдержанным и нервным при опытах в стан ке: то буйствует, то – что гораздо реже – впадает в сонное со стояние, чего с ним раньше не случалось. Невроз слабого типа носит почти исключительно депрессивный характер. Условно рефлекторная деятельность делается в высшей степени беспорядочна, а чаще всего совсем исчезает, животное в станке находится почти сплошь в гипнотическом состоянии, представляя его различные фазы (условных рефлексов никаких нет, животное не берет даже предлагаемую ему еду).
Экспериментальные неврозы большей частью принимают за тяжной характер – на месяцы и на годы. При длительных не врозах были испытаны с успехом лечебные приемы. Давно уже при изучении условных рефлексов был применен бром, когда дело шло о животных, которые не могли справиться с задачами торможения. И оказалось, что бром существенно помогал этим животным. Длинные и разнообразные ряды опытов с условны ми рефлексами на животных несомненно установили, что бром имеет специальное отношение не к раздражительному процес су, его снижая, как обычно принималось, а к тормозному, его усиливая, его тонизируя. Он оказался могущественным регуля тором и восстановителем нарушенной нервной деятельности, но при непременном и существеннейшем условии соответственной и точной дозировки его по типам и состояниям нервной систе мы. При сильном типе и при достаточно еще сильном состоянии надо употреблять на собаках большие дозы, до 2—5 г в сутки, а при слабых обязательно спускаться до сантиграммов и даже миллиграммов. Такое бромирование в течение неделидвух иног да уже бывало достаточно для радикального излечения хрони ческого экспериментального невроза. За последнее время дела ются опыты, показывающие еще более действительное лечебное действие, и именно в особенно тяжелых случаях, комбинации брома с кофеином, но опять при тончайшей, теперь взаимной дозировке. Излечение больных животных получалось иногда, и хотя и не так быстро и полно, также и при одном продолжитель ном или коротком, но регулярном отдыхе от лабораторной рабо ты вообще или от устранения лишь трудных задач в системе условных рефлексов.
Описанные неврозы собак всего естественнее сопоставить с неврастенией людей, тем более что некоторые невропатологи настаивают на двух формах неврастении: возбужденной и деп рессивной. Затем сюда же подойдут некоторые травматические неврозы, а также и другие реактивные патологические состоя ния. Признание двух сигнальных систем действительности у человека, надо думать, поведет специально к пониманию меха низма двух человеческих неврозов: истерии и психастении. Если люди, на основании преобладания одной системы над другой, могут быть разделены на мыслителей по преимуществу и художников по преимуществу, тогда будет понятно, что в патологиче ских случаях при общей неуравновешенности нервной системы первые окажутся психастениками, а вторые – истериками.
Кроме выяснения механизма неврозов физиологическое изу чение высшей нервной деятельности дает ключ к пониманию некоторых сторон и явлений в картинах психозов. Прежде все го остановимся на некоторых формах бреда, именно на вариации бреда преследования, на том, что Пьер Жане называет «чувства ми овладения», и на «инверсии» Кречмера. Больного преследу ет именно то, чего он особенно желает избежать: он хочет иметь свои тайные мысли, а ему неодолимо кажется, что они постоян но открываются, узнаются другими; ему хочется быть одному, а его мучит неотступная мысль, хотя бы он в действительности и находился в комнате один, что в ней все же ктото есть, и т.д. – чувства овладения, по Жане. У Кречмера две девушки, придя в пору половой зрелости и получив влечение к определенным муж чинам, однако, подавляли в себе это влечение по некоторым мо тивам. В силу этого у них сначала развилась навязчивость: к и мучительному горю, им казалось, что на лице их видно половое возбуждение и все обращают на это внимание, а им была очень дорога их половая чистота, неприкосновенность. А затем сразу одной неотступно стало казаться, и даже ощущалось ею, что в ней находится и двигается, добираясь до рта, половой искуси тель – змей, соблазнивший Еву в раю, а другой, что она бере менна. Это последнее явление Кречмер и называет инверсией. Оно в отношении механизма, очевидно, тождественно с чувством овладения. Это патологическое субъективное переживание мож но без натяжки понять как физиологическое явление ультра парадоксальной фазы. Представление о половой неприкосновен ности как сильнейшее положительное раздражение на фоне тормозного, подавленного состояния, в котором находились обе девушки, превратилось в столь же сильное противоположное отрицательное представление, доходившее до степени ощуще ния, у одной – в представление о нахождении в ее теле полово го соблазнителя, а у другой – в представление о беременности как результат полового сношения. То же и у больного с чувством овладения. Сильное положительное представление «я один» превращается при тех же условиях в такое же противополож ное – «около меня всегда ктото».
В опытах с условными рефлексами при разных трудных и патологических состояниях нервной системы часто приходится наблюдать, что временное торможение ведет к временному улучшению этих состояний, а у одной собаки отмечено два раза яр кое кататоническое состояние, повлекшее за собой резкое улуч шение хронического упорного нервного заболевания, почти воз врат к норме, на несколько последовательных дней. Вообще надо сказать, что при экспериментальных заболеваниях нервной си стемы почти постоянно выступают отдельные явления гипноза, и это дает право принимать, что это – нормальный прием физио логической борьбы против болезнетворного агента. Поэтому ка татоническую форму, или фазу шизофрении, сплошь состоящую из гипнотических симптомов, можно понимать как физиологи ческое охранительное торможение, ограничивающее или совсем исключающее работу заболевшего мозга, которому, вследствие действия какого-то, пока неизвестного, вредного агента, угрожа ла опасность серьезного нарушения или окончательного разру шения. Медицина в случае почти всех болезней хорошо знает, что первая терапевтическая мера – покой подвергшегося забо леванию органа. Что такое понимание механизма кататонии при шизофрении отвечает действительности, убедительно доказывается тем, что только эта форма шизофрении представляет доволь но значительный процент возврата к норме, несмотря иногда на многогодовое (двадцать лет) продолжение кататонического состо яния. С этой точки зрения являются прямо вредоносными вся ческие попытки действовать на кататоников возбуждающими приемами и средствами. Наоборот, надо ждать очень значитель ного увеличения процента выздоровления, если к физиологиче скому покою посредством торможения присоединить нарочитый внешний покой таких больных, а не содержать их среди беспре рывных и сильных раздражений окружающей обстановки, сре ди других более или менее беспокойных больных.
При изучении условных рефлексов кроме общего заболевания коры многократно наблюдались чрезвычайно интересные случаи также экспериментально и функционально произведенного за болевания отдельных очень дробных пунктов коры. Пусть имеется собака с системой разнообразных рефлексов и между ними условными рефлексами на разные звуки: тон, шум, удары мет ронома, звонок и т.д. – и больным может быть сделан только один из пунктов приложения этих условных раздражителей, а остальные останутся здоровыми. Патологическое состояние изо лированного пункта коры производится теми же приемами, ко торые описаны выше как болезнетворные. Заболевание прояв ляется в различных формах, в различных степенях. Самое легкое изменение этого пункта выражается в его хроническом гипнотическом состоянии: на этом пункте вместо нормальной связи величины эффекта раздражения с физической силой раздражи теля появляются уравнительная и парадоксальная фазы. И это на основании вышесказанного можно было бы толковать как физиологическую предупредительную меру при трудном состо янии пункта. При дальнейшем развитии болезненного состояния раздражитель совсем не дает положительного эффекта, а всегда вызывает только торможение. Это в одних случаях. В други х– совершенно наоборот. Положительный рефлекс делается необыч но устойчивым: он медленнее угасает, чем нормальные, менее поддается последовательному торможению от других тормозны условных раздражителей, он часто резко выступает по величи не среди всех остальных условных рефлексов, чего раньше, до заболевания, не было. Значит, раздражительный процесс данно го пункта стал хронически болезненноинертным. Раздражение патологического пункта то остается индифферентным для пун ктов остальных раздражителей, то к этому пункту нельзя при коснуться его раздражителем, без того чтобы не расстроилась так или иначе вся система рефлексов. Есть основание принимать, что при заболевании изолированных пунктов, когда в больном пун кте преобладает то тормозной процесс, то раздражительный, механизм болезненного состояния состоит именно в нарушении равновесия между противоположными процессами: слабнет зна чительно и преимущественно то один, то другой процесс. В слу чае патологической инертности раздражительного процесса имеется факт, что бром (усиливающий тормозной процесс) часто с успехом ее устраняет.
Едва ли может считаться фантастическим следующее заклю чение. Если, как очевидно прямо, стереотипия, итерация и пер северация имеют свое естественное основание в патологической инертности раздражительного процесса разных двигательны клеток, то и механизм навязчивого невроза и параной должен быть тот же. Дело идет только о других клетках или группах их, связанных с нашими ощущениями и представлениями. Таким образом, только один ряд ощущений и представлений, связан ных с больными клетками, делается ненормально устойчивым и не поддается задерживающему влиянию других многочислен ных ощущений и представлений, более соответствующих дей ствительности благодаря здоровому состоянию их клеток. Сле дующий факт, который наблюдался много раз при изучении патологических условных рефлексов и который имеет явное отношение к человеческим неврозам и психозам, – это циркулярность в нервной деятельности. Нарушенная нервная деятель ность представлялась более или менее правильно колеблющей ся. То шла полоса чрезвычайно ослабленной деятельности (условные рефлексы были хаотичны, часто исчезали совсем или были минимальны), а затем как бы самопроизвольно, без види мых причин после нескольких недель или месяцев наступал больший или меньший или даже совершенный возврат к норме, сменявшийся потом опять полосой патологической деятельнос ти. То в циркулярности чередовались периоды ослабленной де ятельности с ненормально повышенной. Нельзя не видеть в эти колебаниях аналогии с циклотимией и маниакальнодепрессив ным психозом. Всего естественнее было бы свести эту патологи ческую периодичность на нарушение нормальных отношений между раздражительным и тормозным процессами, что касается их взаимодействия. Так как противоположные процессы не ограничивали друг друга в должное время и в должной мере, а действовали независимо друг от друга и чрезмерно, то результат их работы доходил до крайности – и только тогда наступала смена одного другим. Таким образом, получалась другая, имен но чрезвычайно утрированная периодичность: недельная и ме сячная вместо короткой, и потому совершенно легкой, суточной периодичности. Наконец, нельзя не упомянуть о факте, обнару жившемся до сих пор в исключительно сильной форме, правда, только у одной собаки. Это – чрезвычайная взрывчатость раз дражительного процесса. Некоторые отдельные или все услов ные раздражители давали стремительнейший и чрезмерный эффект (как двигательный, так и секреторный), но быстро обры вающийся еще в течение действия раздражителя: и собака при подкреплении пищевого рефлекса еды уже не брала. Очевидно, дело в сильной патологической лабильности раздражительного процесса, что соответствует раздражительной слабости челове ческой клиники. Случаи слабой формы этого явления нередки у собак при некоторых условиях.
Все описанные патологические нервные симптомы выступа ют при соответствующих условиях как у нормальных, т.е. опе ративно не тронутых собак, так (в особенности некоторые из них, например циркулярность) и у кастрированных животных, зна чит на органической патологической почве. Многочисленные опыты показали, что главнейшая черта нервной деятельности кастратов – это очень сильное и преимущественное ослабление тормозного процесса, у сильного типа с течением времени, одна ко, значительно выравнивающееся.
В заключение еще раз надо подчеркнуть, до чего, при сопос тавлении ультрапарадоксальной фазы с чувствами овладения и инверсией, а патологической инертности раздражительного про цесса с навязчивым неврозом и паранойей, взаимно покрываются и сливаются физиологические явления с переживаниями субъективного мира.
<1935>
II. Воспоминания учеников, коллег и современников
Д.А. Кемерский
Иван Петрович Павлов как профессор фармакологии
В 1890 г. Иван Петрович, будучи доцентом физиологии, выс тупил кандидатом на освободившуюся в Академии кафедру фар макологии, на которую значительным большинством голосов был избран в апреле того же года. Для лиц, мало знакомых в под робностях с деятельностью, предшествовавшей избранию наше го физиолога на кафедру фармакологии, такой выбор казался несколько непонятным. Для лиц же, близко знакомых с деятель ностью Ивана Петровича в лаборатории покойного профессора С. П. Боткина, как и для большинства членов конференции, не подлежало никакому сомнению, что именно Ивану Петровичу, помимо прирожденного преподавательского таланта уже имев шему за собою обширный лабораторный опыт в деле разработки специальных фармакологических вопросов, не только будет лег ко справиться со всеми применявшимися в то время способами исследования в фармакологии, но что он окажется в состоянии значительно расширить применение физиологического метода к решению различных фармакологических задач. Для многих членов Конференции не могло остаться неизвестным, что вышед шие из клиники проф. С. П. Боткина работы о действии Adonis vernalis, Convallaria majalis, строфанта, антипирина, цезия и рубидия, наряду с некоторыми другими исследованиями, все в своей экспериментальной части были разработаны с помощью Ивана Петровича, притом с такими подробностями, которые едва ли могли быть выполнены даже заправскими фармакологами. В этом отношении достаточно указать на способы изолированного кровообращения сердца у собак и на разработанную методику ис следования пищеварительных желез, чтобы и тени сомнения не могло остаться в правоспособности такого кандидата. Лицам, близко знавшим Ивана Петровича, его деятельность, его страстную привязанность к делу преподавания, любовь к лаборатор ным исследованиям, редкую способность тонкого анализа фар макологических явлений и при этом обладание выдающейся экспериментальной техникой, избрание Ивана Петровича доста вило много приятного, так как в этом избрании они могли нахо дить утешение в том, что бескорыстная преданность лаборатор ному делу, нашедшая справедливую оценку большинства членов Конференции, придаст энергию и поддержит Ивана Петровича в новой дальнейшей плодотворной деятельности.
Быстро освоившись с новым положением преподавателя фар макологии, Иван Петрович сразу же убедился в рутинности уста новившегося характера преподавания этого предмета и способов, применявшихся в научных фармакологических исследованиях. Почти все профессора фармакологии и почти все учебники по этой прикладной отрасли медицинских наук стремились по от ношению к каждому медикаменту сообщить своим слушателям возможно больше данных, не заботясь о том, насколько необхо димы сообщаемые сведения и, наоборот, не помешает ли слуша телям собрание всевозможных сведений о каждом веществе со ставить себе ясное представление о типических, только данному веществу присущих физиологических свойствах. Если о каждом средстве упоминать, как оно действует на кожу, на слизистую оболочку, на температуру тела, на почки, на сердце, на кровя ное давление, на головной и спинной мозг и т.д., причем обо всех свойствах говорить с одинаковыми подробностями и при этом касаться еще влияния малых, средних и больших доз каждого медикамента, то, прослушав такой курс, решительно невозмож но составить себе сколько-нибудь ясного представления о типич ности того или другого врачебного средства. Многие врачи, ве роятно, помнят, как в былое время трудно было на экзамене ответить: учащает ли то или другое средство сердцебиение или замедляет, и если учащает, то от малых или больших доз, а если и это было известно, то еще нужно было знать последователь ность явлений, а именно, получается ли от известных доз снача ла учащение, а потом замедление, или явления наблюдаются в обратном порядке. Иван Петрович сразу пошел самостоятельным путем; для него было ясно, что врачу необходимо знать прежде всего типичность действия вещества в тех именно дозах, в ка ких данное вещество находит применение во врачебной практи ке, знание же других свойств ничего не может прибавить к по ниманию полезного действия медикамента. Какая в самом деле польза для слушателей, если лектор, излагая механизм действия наперстянки, раньше, чем говорит о действии этого медикамента, будет останавливаться на том, какие это сердечное средство вызывает явления, будучи приложено местно к коже или в виде порошка, дигиталина, нанесено на слизистую оболочку носа или соединительную оболочку глаза. Такие сведения интересны для лиц, занимающихся испорашиванием (фармацевтический пер сонал) наперстянки, или для лиц, специально занимающихся ле карствоведением в широком смысле, упоминание же о них в курсе фармакологии является лишним балластом, мешающим отличить существенное от неважного.
Выкинув из курса несущественные мелочные подробности, Иван Петрович сумел также распределить возможно более отчет ливо фармакологический материал, расположив, как специалист физиолог, все вещества по их физиологическим свойствам. Та ким образом, почти весь материал был систематизирован в наи более ясном и возможно легко запоминаемом порядке. Слуша тели сразу увидели, что фармакологический материал можно распределить на средства, возбуждающие и парализующие не рвные центры, те или другие периферические нервные окон чания, на возбуждающие и парализующие мышцы, притом раз личные средства – различные мышцы (поперечнополосатые, сердечную мышцу и гладкие), на средства, возбуждающие и па рализующие различные секреторные ткани, и т.д. Сам предмет фармакологии при таком распределении сразу получил в глазах слушателей легко усваиваемую цельность, так как подразделение по каждому из обозначенных гру основывается при таком положении на известном студентам 3го курса систематизирован ном материале физиологии.
Хотя невозможно распределить весь фармакологический ма териал в строго систематизированном порядке, исходя только из точки зрения физиологического действия, но несомненно, что гру ировка, принятая Иваном Петровичем, давала начинаю щим наибольшую возможность легко разобраться в изобилии лекарственных средств.
Но главной отличительной чертой преподавания Ивана Пет ровича помимо живости изложения было возможно широкое применение эксперимента как для демонстрирования полезно го действия медикамента, так, в особенности, для разъяснения механизма этого полезного действия. Иван Петрович не стеснялся заявлять студентам, что слушание лекции не дает возможно сти овладеть предметом, что то, что студенты услышат на лек ции, они могут найти в книгах, но чего последние не могут дать, это той ясности, которая получается от непосредственного учас тия слушателей в происходящем на их глазах эксперименте. Уже один вид опыта несравненно больше, чем самая добросовестная теоретическая лекция или удачно составленное руководство. Но если присутствующий при опыте вникает в детали опыта, если опыт вызывает в голове те или другие вопросы или мысли, то при такой постановке можно ожидать наибольшей пользы для уча щегося. Желая заставить слушателей не только присутствовать при опытах, но приучить молодых людей физиологически мыс лить, желая возбудить в них интерес к научному мышлению и к научной постановке вопросов медицинского исследования, Иван Петрович не жалел труда и средств на демонстрацию действия медикамента и на анализ этого действия. Видя предназначение профессора не только в исполнении определенной, установлен ной программы, но и в живой деловой связи учителя с ученика ми, Иван Петрович всегда просил своих слушателей не стесня ясь обращаться к нему с различными неясными для начинающих вопросами, причем повторял, что его можно прервать на любом слове, в любой момент лекции или операции; он сочтет за при ятную обязанность разъяснить все, что может вызвать интерес в слушателях.
Придерживаясь возможно наглядной передачи фармакологи ческих фактов, Иван Петрович не скупился на опыты. Если для демонстрации действия сердечных средств он признавал полез ным показать на теплокровных животных замедление ритма сердечных сокращений и повышение кровяного давления, то для этого показывались кроме валового эффекта действия сердечно го средства на кураризированной собаке различные другие опы ты, имеющие целью расчленить валовый результат, подвергнуть его подробному анализу; с этой целью на другой собаке с перере занным спинным мозгом и со вскрытой грудной клеткой демон стрировались удлинение времени систологического сокращения сердца, и на третьей собаке отдельно демонстрировалось сосудо суживающее влияние наперстянки на кровеносные сосуды ко нечности, изолированные от слияния центральной нервной сис темы. Эти опыты не представляют особенной трудности для производства в лаборатории, но для того, чтобы демонстрировать их перед аудиторией, необходимо действительно быть проник нутым желанием служить всеми помыслами учащейся молоде жи, так как демонстрирование в аудитории подобных опытов при имевшихся в то время средствах и притом параллельно с чтени ем лекций представлялось делом довольно трудным.
Отдавая должное острым опытам, т.е. таким, для которых животные не подготавливаются исподволь и где эксперимента тор не заинтересован собственно тем, чтобы показать действие фармакологического вещества при возможно нормальных усло виях организма, Иван Петрович в очень многих случаях считал необходимым демонстрировать изменение тех или других функ ций органов на животных, находящихся в условиях, близких к нормальным, когда эффект, вызываемый медикаментом, дей ствительно можно было бы отнести именно к влиянию последне го, а не влиянию того оперативного вмешательства, которое само может изменить функцию того или другого органа. И если в производстве острых опытов Иван Петрович не имел соперников, то что же сказать о тех оперированных животных, над которы ми можно было производить некоторые фармакологические опы ты, только следуя методам, выработанным самим Иваном Пет ровичем. Как, например, мог бы фармаколог демонстрировать влияние атропина на рефлекторную отделительную деятельность желудочного сока, не пользуясь для этого животным с желудоч ной фистулой и перерезанным пищеводом? Такой опыт был бы немыслим, если бы не был выработан безупречный способ опре деления влияния рефлексов с полости рта на отделение желу дочного сока, а ведь этот способ выработан Иваном Петровичем. При этом необходимо заметить, что, не говоря уже о мысли, воз никшей у Ивана Петровича и осуществленной его рукой, даже повторение такого опыта доступно далеко не всякому экспери ментатору. Понятно, что аудитория, наблюдая у такой собаки прекращение отделения желудочного сока под влиянием атро пина, в связи с другими острыми опытами, создаст себе ясное представление о характере и механизме действия атропина, при чем студенты получали полное научное убеждение в механизме действия атропина и, зная, что эти факты могли быть обнаруже ны только благодаря находчивости такого экспериментатора, как Иван Петрович, нередко во время опыта выражали своему учи телю живое одобрение, награждая профессора дружными руко плесканиями.
Аудитория любила Ивана Петровича, любила не за одну ка кую-нибудь черту, а за совокупность многих качеств, которые так любит молодежь. Прежде всего особенно нравился студен там способ чтения лекций. Вообще живой от природы душевный склад, не умещающийся ни в какие рамки рутины или форма лизма, отражался и на характере чтений. Иван Петрович читал лекции в форме живой разговорной речи, причем некоторые выражения, несмотря на всю их простоту, замечательно врезы вались в память слушателей и освещали дело так просто и вме сте с тем так ярко, как ни одно другое выражение мысли, выс казанное строгою стройностью книжной речи. Подчас Иван Петрович прибегал к простой народной русской речи, и можно было видеть, что большинству слушателей нравятся такие невы чурные выражения, метко характеризующие положение дела. Студенты ценили также простоту Ивана Петровича в обращении с ними, ценили отсутствие формализма, они чувствовали, что перед ними увлеченный научным делом страстный работник, а не чиновное лицо в известном ранге, мечтающее о своем вели чии, и не сухой педант, поставивший чувство призрачного дол га бездушного преподавания выше товарищеских отношений к своим ученикам.