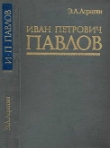Текст книги "И.П.Павлов PRO ET CONTRA"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 61 страниц)
В отделе реакций, т.е. в моторных аппаратах, автор указы вает, что крыса двигается правильно по лабиринту, несмотря на то, что она то быстро несется, то движется медленно, то, нако нец, кружась, в случае повреждения мозжечка. И это для него является возражением против определенной связи раздражения с определенной реакцией. Однако крыса движется постоянно вперед и поворачивает то влево, то вправо одними и теми же мускулами во всех только что указанных случаях, а остальное – прибавочное движение, обусловленное другими прибавочными раздражениями. Затем, в случае исключения мускулов, при образовании навыков, параличом и затем пользования ими по излечении паралича, надо знать, отчего и где происходит пара лич. Ведь мы имеем огромный ряд координированных центров, расположенных с конца спинного мозга до полушарий, и к ним ко всем могут быть провода от полушарий. Дальше мы знаем, что при каждом думании о движении мы производим его фактиче ски абортивно. Следовательно, иннервационный процесс может быть, хоть и не осуществляется в действительности. Затем, если раздражение не может разрешаться по ближайшему пути, то оно на основании суммации и иррадиации должно перейти на бли жайшие пункты. Разве не знаем мы давно случая, что обезглав ленная лягушка, стирающая нанесенную кислоту на бедре од ной конечности лапкой той же конечности, если она не может сделать этого вследствие удаления лапки, пользуется для этого после нескольких неудачных попыток искалеченной конечнос ти лапкой другой конечности?
Указание на отсутствие стереотипности при некоторых фор мах движения, например при делании гнезд птицами, тоже ос новано на недоразумении. Индивидуальное приспособление су ществует на всем протяжении животного мира. Это и есть условный рефлекс, условная реакция, осуществляющаяся на принципе одновременности. Наконец, указание на однообразие грамматических форм совершенно совпадает с нашим ранее при веденным фактом выработки системности в нервных процессах работающих полушарий. Это и есть совмещение, слитие конст рукции с динамикой. Пусть мы не можем сейчас представить себе отчетливо, как это происходит; но это, наверное, лишь по тому, что еще не знаем полностью ни конструкции, ни механиз ма динамических процессов.
Я нахожу излишним останавливаться дальше на доводах ав тора против значения конструкции в центральной нервной сис теме. Общее во всем этом то, что он совершенно не думает об уже известной, а тем более возможной сложности этой конструкции, постоянно предубежденно упрощая ее до самой простой схемы физиологического учебника, которая своей целью имеет только указать на непременную связь раздражения с эффектом – и не больше.
Что же наш автор предлагает взамен забракованной им реф лекторной теории? Ничего, кроме самых отдаленных и совер шенно неоправдываемых аналогий. Неужели можно в вопросе о высшем мозговом механизме, в целях его разрешения, указывать на ткань губок и гидроидов или на эмбриональную ткань, когда мы в высшем отделе головного мозга высших животных до че ловека включительно имеем вершину дифференциации живого вещества! Но во всяком случае, признавая абсолютную свободу предположений, мы вправе требовать от автора хоть самой пред варительной и элементарной программы определенных задач для ближайшего и плодотворного экспериментирования над этим отделом, программы, более выгодной сравнительно с рефлектор ной теорией, программы, способной энергично двигать вперед проблему церебральных функций. Но ее нет, и нет у автора. Настоящая законная научная теория должна не только охваты вать весь существующий материал, но и открывать широкую возможность дальнейшего изучения и, позволительно сказать, безграничного экспериментирования.
В таком положении сейчас и находится рефлекторная теория. Кто будет отрицать чрезвычайную, едва ли кем сколько-нибудь соответственно представляемую сложность структуры централь ной нервной системы в ее высшем представителе в виде голов ного мозга человека и необходимость все более углубленного ее изучения усовершенствованными методами? С другой стороны, точно так же человеческий ум продолжает стоять подавленным загадочностью его собственной деятельности.
Рефлекторная теория стремится дать возможный отчет непре менно в том и другом вместе и понять, таким образом, эту изу мительную, трудно постигаемую игру на этом чрезвычайном при боре из приборов. А возможность экспериментирования над головным мозгом и специально над его высшим отделом с реф лекторной теорией в руках, с ее требованием постоянной детер минизации и неустанного анализирования и синтезирования подлежащих явлений, действительно безгранична. Это я чув ствовал и видел беспрерывно в продолжение последних тридца ти лет, и притом чем дальше, тем все больше и больше.
Раз я впервые выступаю в психологической литературе, мне представляется уместным, с одной стороны, остановиться на некоторых тенденциях в психологии, не соответствующих, по моему мнению, цели успешного исследования, а с другой – рез че подчеркнуть мою точку зрения на наше общее дело.
Я – психологэмпирик и психологическую литературу знаю только по нескольким руководствам психологии и совершенно ничтожному, сравнительно с существующим материалом, коли честву прочитанных мной психологических статей; но был с поры сознательной жизни и остаюсь постоянным наблюдателем и аналитиком самого себя и других в доступном мне жизненном кругозоре, причисляя к нему и художественную литературу с жанровой живописью. Я решительно отрицаю и чувствую силь ное нерасположение ко всякой теории, претендующей на полный обхват всего того, что составляет наш субъективный мир, но я не могу отказаться от анализа его, от простого понимания его на отдельных пунктах. А это понимание должно сводиться на со гласие его отдельных явлений с данными нашего современного положительного естественнонаучного знания. Для этого же не обходимо постоянно самым тщательным образом пробовать при лагать эти данные ко всякому отдельному явлению. Сейчас, я убежден в этом, чисто физиологическое понимание многого того, что прежде называлось психической деятельностью, стало на твердую почву, и при анализе поведения высшего животного до человека включительно законно прилагать всяческие усилия понимать явления чисто физиологически, на основе установлен ных физиологических процессов. А между тем мне ясно, что многие психологи ревниво, так сказать, оберегают поведение животного и человека от таких чисто физиологических объяс нений, постоянно их игнорируя и не пробуя прилагать их сколь ко-нибудь объективно.
Для подтверждения только что высказанного я беру два наи более простых случая: один мой и другой у проф. Келлера. Мож но бы их представить множество и гораздо более сложных.
Когда мы вырабатывали методику подкармливания животно го во время экспериментирования на расстоянии, то перепробо вали много разных приемов. Между прочим такой. Перед соба кой находилась постоянно пустая тарелка, в которую сверху опускалась металлическая трубка с сосудом вверху, содержащим мясосухарный порошок, служивший обычно для подкармлива ния наших животных во время опыта. На границе соединения верхнего сосуда с трубкой был клапан, который посредством воздушной передачи в нужный момент открывался, и порция порошка поступала в трубку, а из нее высыпалась на тарелку, где и съедалась животным. Клапан не был вполне исправным и при сотрясении трубки допускал некоторое поступление порош ка из сосуда в тарелку. Собака быстро научилась этим пользо ваться – самостоятельно вытрясать порошок. Сотрясение же трубки почти постоянно происходило, когда собака ела подан ную ей порцию еды и при этом прикасалась к трубке. Это, ко нечно, совершенно то же, что обычно происходит при обучении собаки подавать лапу. В нашем лабораторном случае учила об становка жизни вообще, а здесь часть обстановки – человек. В последнем случае слова: «лапу», «дай» и т. п., кожное раздра жение прикосновения при поднятии лапы, кинэстезическое раз дражение, сопровождающее поднятие лапы, и, наконец, зритель ное раздражение от дрессировщика сопровождались едой, т.е. связывались с пищевым безусловным раздражителем. Абсолют но то же самое в нашем случае: шум от сотрясения трубки, кож ное раздражение от прикосновения к трубке, кинэстезическое раздражение при толкании трубки и, наконец, вид трубки – все это также связалось с актом еды, с раздражением пищевого цен тра. Произошло это, конечно, на основании принципа ассоциа ции по одновременности, представило собой условный рефлекс. Затем здесь выступают еще два отчетливых физиологических факта. Во-первых, что определенное кинэстезическое раздражение, в данном случае, вероятно, условно (в низших отделах цен тральной нервной системы – безусловно), связано с производством того движения, которое его – это кинэстезическое раздра жение – породило. А во-вторых, когда два нервных пункта свя заны, объединены, нервные процессы двигаются, идут между ними в обоих направлениях. Если признать абсолютную закон ность одностороннего проведения нервных процессов во всех пунктах центральной нервной системы, то в данном случае при дется принять добавочную обратного направления связь между этими пунктами, т.е. допустить существование добавочного не врома, их связывающего. Когда за поднятием лапы дается еда, раздражение несомненно идет из кинэстезического пункта к пи щевому центру. Когда же связь образована и собака, имея пи щевое возбуждение, сама подает лапу, очевидно, раздражение идет в обратном направлении.
Я понимать этот факт иначе не могу. Почему это только про стая ассоциация, как то обыкновенно принимают психологи, а отнюдь не акт понимания, догадливости, хотя бы и элементар ных, мне остается неясным.
Другой пример беру из книги В. Келлера («Intelligenzprufun gen an Menschenaffen») тоже относительно собаки. Собака нахо дится в большой клетке, расположенной на открытом простран стве. Две противоположные стенки клетки сплошные, через которые ничего не видно. Из других двух противоположных стенок одна решетчатая, через которую видно свободное про странство, другая имеет открытую дверь. Собака стоит в клетке перед решеткой, а вдали от нее перед клеткой кладется кусок мяса. Как только собака видит это, она поворачивается назад, проходит в дверь, огибает клетку и забирает мясо. Но если мясо лежит совсем около решетки, то собака тщетно толчется около решетки, стараясь достать мясо через решетку, а дверью не пользуется. Что это значит? Келлер не пробует решать этот во прос. С условными рефлексами в руках мы легко понимаем дело. Близлежащее мясо сильно раздражает запаховый центр собаки, и этот центр по закону отрицательной индукции сильно тормо зит остальные анализаторы, остальные отделы полушарий, и таким образом следы двери и обходного пути остаются затормо женными, т.е. собака, выражаясь субъективно, временно поза бывает о них. В первом случае, в отсутствие сильного запахового раздражения, эти следы остаются мало или совсем незатормо женными и ведут собаку более верно к цели. Во всяком случае такое понимание дела вполне подлежит и заслуживает дальней шей точной экспериментальной проверки. В случае подтверж дения его опыт воспроизводил бы механизм нашей задумчиво сти, сильного сосредоточения мысли на чем-нибудь, когда мы не видим и не слышим, что происходит перед нами, или, – что то же, – воспроизводил бы механизм так называемого ослепления под влиянием страсти.
Я уверен, что при настойчивом экспериментировании многие другие и более сложные случаи поведения животного и челове ка также оказались бы понятными с точки зрения многих уста новленных правил высшей нервной деятельности.
Второй пункт, на котором я остановлюсь, касается вопроса о значении цели и намерения в психологических исследованиях. Мне кажется, что на этом пункте происходит постоянное смешение разных вещей.
Перед нами грандиозный факт развития природы от первона чального состояния в виде туманности в бесконечном простран стве до человеческого существа на нашей планете, в виде, грубо говоря, фаз: солнечные системы, планетная система, мертвая и живая часть земной природы.
На живом веществе мы особенно ярко видим фазы развития в виде филогенеза и онтогенеза. Мы еще не знаем и, вероятно, еще долго не будем знать ни общего закона развития, ни всех его последовательных фаз. Но, видя его проявления, мы антропомор фически, субъективно, как вообще, так и на отдельных фазах, заменяем знание закона словами «цель», «намерение», т.е. по вторяем только факт, ничего не прибавляя к его настоящему знанию. При истинном же изучении отдельных систем природы, до человека включительно, из которых она состоит, все сводится лишь на констатирование как внутренних, так и внешних условий существования этих систем, иначе говоря, на изучение их механизма; и втискивание в это исследование идеи цели во обще и есть смешение разных вещей и помеха доступному нам сейчас плодотворному исследованию. Идея возможной цели при изучении каждой системы может служить только как пособие, как прием научного воображения ради постановки новых воп росов и всяческого варьирования экспериментов, как и в случае знакомства с неизвестной нам машиной, поделкой человеческих рук, а не как окончательная цель.
С данным пунктом естественно связывается следующий воп рос – о свободе воли. Вопрос, конечно, высочайшей жизненной важности. Но мне кажется, есть возможность обсуждения его одновременно строго научно (в рамках современного точного естествознания) и вместе не противореча общечеловеческому ощущению и не внося путаницы в жизненную постановку его.
Человек есть, конечно, система (грубее говоря – машина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам; но система, в горизонте на шего современного научного видения единственная по высочай шему саморегулированию. Разнообразно саморегулирующиеся машины мы уже достаточно знаем между изделиями человече ских рук. С этой точки зрения метод изучения системычелове ка тот же, как и всякой другой системы: разложение на части, изучение значения каждой части, изучение связи частей, изучение соотношения с окружающей средой и в конце концов пони мание на основании всего этого ее общей работы и управление ею, если это в средствах человека. Но наша система в высочай шей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстановляющая, поправляющая и даже совершенствующая. Главнейшее, сильнейшее и постоянно остающееся впечатление от изучения высшей нервной деятельности нашим методом – это чрезвычайная пластичность этой деятельности, ее огромные воз можности: ничто не остается неподвижным, неподатливым, а все всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия.
Система (машина) и человек со всеми его идеалами, стремле ниями и достижениями – какое, казалось бы на первый взгляд, ужасающе дисгармоническое сопоставление! Но так ли это? И с развитой точки зрения разве человек не верх природы, не выс шее олицетворение ресурсов беспредельной природы, не осуще ствление ее могучих, еще неизведанных законов! Разве это не может поддерживать достоинство человека, наполнять его выс шим удовлетворением?! А жизненно остается все то же, что и при идее о свободе воли с ее личной, общественной и государствен ной ответственностью: во мне остается возможность, а отсюда и обязанность для меня, знать себя и постоянно, пользуясь этим знанием, держать себя на высоте моих средств. Разве обществен ные и государственные обязанности и требования – не условия, которые предъявляются к моей системе и должны в ней произ водить соответствующие реакции в интересах целостности и усовершенствования системы?!
<1932>
О И.М. Сеченове
Милостивые государи и многоуважаемые товарищи!
Мне принадлежит вступительное слово, т.е. общий очерк личности чествуемого лица. Следует признаться, что я присту паю к нему не без волнения.
За Иваном Михайловичем и у нас и за границей признано название «отца физиологии». И такая оценка его совершенно точна. Это верно: он начал русскую физиологию, будучи знаком с нею и практически, т.е. работал по физиологии. Он первый создал физиологическую лабораторию, сам в ней всю жизнь ра ботал и создал целый ряд школ: здесь, в Петербурге, – две, в Одессе и в Москве.
Как он начал свои работы по физиологии? Вы понимаете, что начинать и продолжать – две разные вещи. Это, я бы сказал, если бы, например, написать отличную копию. Понятно, что дл инициативы требуются исключительные способности. У него они и были. Он обладал чрезвычайно сильным и трезвым умом, об ращенным в действительность, ориентировавшимся и утвердив шимся в действительности, а не блуждающим в разных словес ных комбинациях. Этот ум замечателен уже и тем, что, когда он из России, где не было никакой физиологии, явился как бы уче ником за границу, он, однако, работал над своей темой. И все важнейшие его работы целиком из его головы. Значит, за гра ницей он пользовался только лабораторной обстановкой и мето дами (а методы каждый сам выдумывает).
Таким образом, в лице Ивана Михайловича мы имеем выда ющегося физиолога. О работе его и его учеников будут сделаны специальные доклады. А я со своей стороны должен сказать, мало того, что он был выдающийся физиолог, он имел, помое му, право на помещение его в «маленький» разряд творцов физиологов, законодателей науки, от которых вышли идеи, те идеи, которые определили работу длинного ряда поколений сле дующих за ним работников науки.
Я в этом случае имею в виду его «Рефлексы головного мозга». Несомненно, это была первая серьезная, настоящая научна попытка явления нашего субъективного мира анализировать физиологически. Конечно, то, что было в середине прошлого столетия и что вышло от тогдашнего материализма – Бюхнера, Молешотта и т.д. (что из мозга проистекает мысль так же, как и желчь), – это в счет научный идти не могло. Иван Михайло вич, действительно, в «Рефлексах головного мозга» сделал глав нейшую попытку анализировать это физиологическое явление. И в этом отношении, конечно, его работа представляется совер шенно из ряда вон. Я еще недавно перечитал «Рефлексы голов ного мозга» и должен был признать, что они имеют совершенно такой же интерес и сейчас, как, может быть, имели в свое врем и недостаточно, может быть, были поняты. Собственно все, что можно было в это время извлечь для физиолога (а тогда было очень немного экспериментального материла для этого), он за хватил и это сделал. Но когда наблюдаешь тот материал, видишь, что он сам совершенно исключительный. Я поражен той массой наблюдений, которые он собрал для подтверждения своей мысли. Так что это вещь совершенно исключительна и дает ему пра во наименования «творца науки».
В связи с этими «Рефлексами» я остановлюсь на одной под робности, очень характерной для Ивана Михайловича. Когда говорил в своем предисловии к «Двадцатилетним опытам» об истории учения о физиологии Гельмгольца, я должен был вклю чить [И. М. Сеченова] и дать некоторое объяснение (или хотел дать) тех условий, при которых произошел этот гениальный взмах сеченовской мысли. И я сказал, что, вероятно, импульсы к этому были усилены возбуждениями, которые он сам пережи вал.
А кроме того, я помянул [в этом предисловии] некоторым образом и об аффекте. Затем я навел справки. Оказалось, эти мои слова имеют полное основание. Действительно, аффект имел значение… Под влиянием любви к одной гуманной девушке он переменил науку истреблять людей на науку сохранять людей. Он ведь начал военным и должен был уйти. Под этим влиянием он поступил в Военную медицинскую академию, а там, по свойству своей головы, он перешел к теоретической науке – к физио логии.
Иван Михайлович жил в гармонической семье, в которой удивительно сочетались огромный ум с высоким нравственным строем. Вы уже могли заметить, как я сказал, в каком виде про являлся его ум. Но я могу привести еще два интересных факта из его жизни. В 60х гг., вернувшись из-за границы, он вскоре успел стать профессором Военномедицинской академии и в этой академии блистательно начал вести преподавание физиологии, быстро образовал школу, образовал такую школу, как только можно было желать. И тем не менее спустя 10 лет он вышел из этой академии. И по какому случаю? Как раз около этого срока происходили выборы новых профессоров академии, назначен ных на кафедру гистологии. Иван Михайлович представил своих кандидатов. Кандидаты эти были солидны и бесспорно научны. Довольно сказать, что одним из кандидатов был И. И. Мечников. Все хорошо известные люди. И тем не менее эти кандидаты были забаллотированы ради незначительных кандидатов, но своих. Иван Михайлович нашел невозможным оставаться дальше в этой коллегии, которая так относится к своим обязанностям, котора так плохо ценит достоинства своего заведения, и вышел из Ака демии. И это надо рассматривать как большой подвиг: он остался без лаборатории (я не знаю, может быть, и без средств). А тем не менее он считал необходимым это сделать. Он не хотел санк ционировать такой поступок, оставаясь там.
Может быть, кому-нибудь кажется, может быть, кто-нибудь подумает, не вышло ли это из-за большой горделивости челове ка, что его мнение было забраковано. Но в этом отношении мы имеем положительный случай. Около того времени, когда он поступил в Академию, 3 года спустя что ли, поднялся вопрос о том, чтобы его пригласить в Академию наук. И дело это проис ходило для него совершенно неведомым образом. Он очень удив лялся, как это происходит. Почемуто немцыакадемики (а надо сказать, что тогда Академия наук сплошь состояла из немцев: они очень строго относились к выбору в Академию русских)… около этого времени начинают этого самого Ивана Михайлови ча приглашать и знакомить с разными немецкими академика ми. Он недоумевает, что это значит. Потом он выражается так в своей автобиографии: «Кажется, что они испытывали мою куль турность». Он и обратил внимание на то, что при его посещении никакого испытания его учености не происходило, а потом, как подтвердили его заграничные коллеги, наводили точнейшие справки о его учености. Затем, после всех этих приготовлений (или испытаний, скажем), к нему от них является один из его товарищей по Академии, единственный русский академик – химик Зинин. Зинин свозил его к большой знаменитости тогдаш ней немецкой и русской – к эмбриологу Бэру, который был в Академии представителем кафедры анатомии и физиологии. Вслед за тем он объяснил ему (я буду читать подлинными слова ми Ивана Михайловича): «Он заявил мне, что меня хотят вы брать в академики». Дальше я читаю: «Зная себе цену, я понял, что меня выбирают по поговорке: “На безрыбье и рак рыба”. К тому же я не имел никаких оснований думать, что окажусь до стойным такой высокой чести в последующей деятельности. Жить же чужим умом я не хотел, поэтому наотрез отказался. Вскоре затем ко мне на нашу квартиру приехал непременный секретарь Академии наук Миддендорф, уговаривая меня изме нить решение. Но желая разом отделаться, я сказал ему, что не хочу посвятить себя чисто научной карьере и буду заниматьс медицинской практикой – чем дело и кончилось». Как вы ду маете! Не можно ли это считать излишней роскошью человече ской культурности и т.д.? Может быть, можно обойтись в дей ствительной жизни без этого? Нет, я не думаю. Нет, это есть основа и вообще жизни, и научной деятельности...
Господа, в знак почтения к памяти выдающегося русского человека, редкого сочетания огромного ума с редкой чистотой и высокой нравственностью, приглашаю присутствующих под няться на несколько мгновений.
Господа, так как жизнь такого человека, как Иван Михайло вич, с таким умом, с такими чувствами, внешне представляет огромный и поучительный интерес, то мы чрезвычайно заинтересованы выслушать все, что нам скажут люди, имевшие счастье быть причастными к его деятельности. Я не был его учени ком, я только встречался с Иваном Михайловичем несколько раз, а это были его ученики. Мы должны быть им благодарны за эти сообщения об Иване Михайловиче.
<26 декабря 1929>