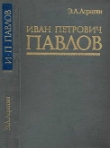Текст книги "И.П.Павлов PRO ET CONTRA"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 61 страниц)
Сост. Н. М. Гуреева, Е. С. Кулябко. Л., 1975. 14. Голиков Ю. П., Ланге К. А. Становление первого в России исследовательского учреждения в области биологии и медицины // Первыйв России исследовательский центр в области биологии и медицины.
Л., 1990. С. 7—43. 15. Соломон А. П. Императорский институт экспериментальной медицины в СанктПетербурге // Арх. биол. наук. СПб., 1892. Т. 1.
Вып. 1. С. 2—23. 16. Хроника // Врач. 1890. С. 2002. 17. Цит. по: Чебышева Н. А. Научноорганизационная роль И. П. Павлова в ИЭМ в 1891—1916 гг. (по материалам архива ИЭМа) // Ежегодник ИЭМа за 1956 г. Л., 1957. С. 637—652. 18. Борьба за науку в царской России. М., 1931. С. 156—157. 19. Гос. исторический архив. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 132. Л. 55 (личное дело
С. М. Лукьянова). 20. Павлов И. П. ПСС. Т. 1. С. 576. 21. Петербургское отд. Архива РАН. Ф. 259. Оп. 2. Д. 1017. 22. Самойлов В. О. Нобелевская речь И. П. Павлова // Физиол. журн.
1995. Т. 81. № 11. С. 157—165. 23. Переписка И. П. Павлова. Л., 1970. 24. Павлов И. П. Отчет о деятельности отдела физиологии за 1903 г. //
Арх. биол. наук. СПб., 1904. 25. Мозжухин А. С., Самойлов В. О. Павлов в Петербурге—Ленинграде.
Л., 1977. 26. Письма И. П. Павлова к невесте // Москва. 1959. № 10. 27. Павлов И. П. Современное объединение в эксперименте главнейшихсторон медицины на примере пищеварения // ПСС. Т. 2. Кн. 2.
С. 247—284. 28. Павлов И. П. ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 347—366. См. также наст. изд.,с. 33—49. 29. Павлов И. П. ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 11—215. 30. Цитович И. С. Происхождение и образование натуральных услов
ных рефлексов. Докт. дис. СПб., 1911. 178 с. 31. Шеповальников Н. П. Физиология кишечного сока. Докт. дис. СПб.,
1899. 162 с. 32. Вальтер А. А. Отделительная работа поджелудочной железы. Докт.дис. СПб., 1897. 182 с. 33. Долинский И. Л. О влиянии кислоты на отделение сока поджелудочной железы. Докт. дис. СПб., 1894. 51 с. 34. Попельский Л. Б. О секреторнозадерживающих нервах поджелудочной железы. Докт. дис. СПб., 1896. 120 с. Краткий очерк жизни и деятельности И. П. Павлова 647 35. Павлов И. П. Экспериментальная психология и психопатологияна животных // ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 23—39; см. также с. 18—32 наст. изд. 36. Павлов И. П. ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 247; см. также с. 248—268 наст.изд. 37. Орбели Л. А. Воспоминания. М.; Л., 1966. 38. Павлов И. П. ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 64—81; см. также с. 50—64 наст.изд. 39. Павлов И. П. Лаборатория для изучения деятельности центральнойнервной системы высших животных, сооружаемая по планам акад.
И. П. Павлова и Е. А. Ганике на средства, пожертвованные обществом имени Х. С. Леденцова // ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 143. 40. Павлов И. П. Исследование высшей нервной деятельности // ПСС.
Т. 3. Кн. 1. 41. Павлов И. П. ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 306—313; см. также с. 107—113наст. изд. 42. Петербургское отд. Архива РАН. Ф. 259. Оп. 7. № 140. 43. Озерецковская Н. Г. Когда и как начал свою работу в области психиатрии И. П. Павлов // Вестник психотерапии. СПб., 1998.
№ 5 (10). С. 114—124. 44. Поппе К. П. Столетие Третьей психиатрической больницы г. Ленинграда // Психические заболевания. Л., 1970. С. 5—12. 45. Павлов И. П. ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 346. 46. БончБруевич В. Д. Об отношении В. И. Ленина к деятелям науки иискусства // На литературном посту. Л., 1927. № 20. 47. Документы внешней политики СССР. М., 1959. Т. 3. 48. Павлов И. П. ПСС. Т. 3. Кн. 2. С. 18—20; см. также с. 181—210наст. изд. 49. Павлов И. П. Предисл. к 5му изд. «Двадцатилетнего опыта» //
ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 10—11. 50. Павлов И. П. Предисл. к 6му изд. «Двадцатилетнего опыта» //
ПСС. Т. 3. Кн. 1. С. 12. 51. Майоров Ф. П. История учения об условных рефлексах. М., 1948. 52. Павлов И. П. Приветственное письмо председателя организационного комитета I съезда физиологов им. И. М. Сеченова при открытии съезда 06.04.1917 // Русский физиол. журн. Пг., 1917. Т. 1.
Вып. 2. С. 90—91. 53. Цит. по: Вартанян Г. А., Голиков Ю. П., Ланге К. А., Овсяннико вВ. И. И. П. Павлов в Институте экспериментальной медицины
(1891—1936). СПб., 1994. С. 60—61. 54. Батюто С. А. Неизвестные автографы И. П. Павлова, Э. Л. Радлова и П. А. Сорокина // Рус. лит. 1990. № 3. С. 165. 55. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического ученияакад. И. П. Павлова. Стеногр. отч. М., 1950. 56. Александров В. Я. Трудные годы советской биологии. Записки современника. СПб., 1992. 57. Парин В. В. Авторитет фактов // Пути в незнаемое. М., 1963.
С. 587—599. 58. Конради Г. В., Ланге К. А. Физиология человека и животных // Развитие биологии в СССР. М., 1967. С. 482—532. 59. Ланге К. А. Организация управления научными исследованиями.
Л., 1971. 60. Ланге К. А. Развитие и организация физиологической науки в СССР.
Очерки. Л., 1978. 61. Дзидзишвили Н. Н. Акад. И. С. Бериташвили. Тбилиси, 1978. 62. Орлов В. В. Николай Апполинарьевич Рожанский. Л., 1976. 63. Макаренко Ю. А., Судаков К. В. П. К. Анохин. М., 1976. 64. Ланге К. А. Основные этапы организации и развития физиологических наук в Советском Союзе // Успехи физиол. наук. 1972. № 3.
С. 5—21. 65. Бресткин А. П. Л. А. Орбели – руководитель исследований по физиологии водолазного труда // Л. А. Орбели в воспоминаниях современников. Л., 1983. С. 36—49; ВойноЯсенецкий А. В. Главы изжизни Л. А. Орбели // Там же. С. 50—61; Дионесов С. М. Л. А. Орбели в моей памяти // Там же. С. 94—100. 66. История физиологических наук. Тезисы 3й Всесоюзной конференции в Тбилиси. 1989. 60 с. 67. «Павловская сессия» 1950 г. и судьбы советской физиологии //
Вопр. истории естествознания и техники. 1988. № 3. С. 129—141;
1988. № 4. С. 147—156; 1989. № 1. С. 94—108. 68. Лейбсон Л. Г. Трагические страницы жизни Л. А. Орбели // Репрессированная наука. Л., 1991. Вып. 1. С. 283—296; Григорьян Н. А.,
Ройтбак А. И. Трудные годы академика Бериташвили (1947—1956) // Там же. С. 297—304. 69. Грекова Т. И., Ланге К. А. Трагические страницы истории ИЭМа //
Репрессированная наука. Л., 1991. Вып. 2. С. 9—23. 70. Грекова Т. И. Научная сессия АН СССР и АМН СССР, посвященнаяпроблемам учения И. П. Павлова как закономерное следствие политизации науки // Физиол. журн. СССР. 1990. Т. 76. № 12. С. 1749—1758.
В. О. САМОЙЛОВ
Эволюция политичесих взлядов И. П. Павлова в годы советсой власти
Иван Петрович Павлов в течение всей своей жизни при совет ской власти называл Октябрьскую революцию 1917 г. «больше вистским экспериментом». 21 декабря 1934 г. он писал в Совнар ком СССР: «Вопервых, то, что вы делаете, есть, конечно, только эксперимент, и пусть даже грандиозный по отваге… но не осу ществление бесспорной насквозь жизненной правды – и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным резуль татом. Вовторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культур ной красоты жизни… Пощадите же родину и нас» [1].
И если Альберт Эйнштейн утверждал, будто «большевизм – изумительный эксперимент» и «большевистский опыт заслужи вал, чтобы его произвели», то И. П. Павлов вначале думал совсем иначе. В 1918 г. он с негодованием кричал: «…для такого экспе римента мне жалко взять даже лягушку!» В 20е . Иван Пет рович отталкивал от себя лучших учеников, если они высказы вались о революции подобно Эйнштейну. На этой почве возник конфликт с А. Д. Сперанским, и только в 1935 г. произошло при мирение между ними.
В том же году 17 августа вечером в Московском Кремле на приеме делегатов XV Международного физиологического конг ресса в присутствии 1500 человек И. П. Павлов произнес крат кую речь, в которой были такие слова: «Вся моя жизнь состояла из экспериментов. Наше правительство тоже экспериментатор, только несравненно более высокой категории. Я страстно желаю жить, чтобы увидеть победное завершение этого исторического социального эксперимента». Сказав это, он под бурные аплодис менты провозгласил тост: «За великих социальных эксперимен таторов!» [2].
Слова И. П. Павлова в Кремле вскоре стали известны всему Старому и Новому свету. Они бурно обсуждались в зарубежной прессе. Ученые, общественные деятели, писатели, журналисты терялись в догадках о причинах столь кардинальной метамор фозы в политических взглядах человека, которого на Западе считали «единственным свободным гражданином России», при чем такую репутацию он не утратил и после своей речи в Кремле.
Одни комментаторы павловского тоста предполагали, что большевики запугали Ивана Петровича. По мнению других, они его подкупили. Третьи считали, будто он по своей политической наивности поддался их обману.
Эти высказывания стали мне известны в начале 70х . при подготовке к изданию книги об И. П. Павлове, написанной в со авторстве с моим учителем А. С. Мозжухиным. Мы не могли при нять ни одну из упомянутых выше версий. Павлова не смогли запугать в первые годы после революции, хотя угрозы были весь ма серьезные (вызывали в ЧК, пугал его сам Зиновьев, гроза Петрограда и всего Советского Севера, травила пресса, угрожая «зашибить» господина профессора). Сам он писал в СНК за пол года до своего выступления в Кремле: «Революция меня застала почти в 70 лет. А в меня засело както твердое убеждение, что срок деятельной человеческой жизни именно 70 лет. И поэтому я смело и открыто критиковал революцию. Я говорил себе: “Черт с ними! Пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена, а я сде лаю то, что требовало от меня мое достоинство”» [1]. Так чего ему было бояться на девятом десятке лет?
Вряд ли можно было подкупить человека, который превыше всего ценил в себе и других честь и человеческое достоинство. От отца он унаследовал бескорыстие и бессребреность, столь почитаемые Православной Церковью. Не зря священнослужи тели Рязани много лет избирали его отца благочинным (предсе дателем суда чести священников), а сам Иван Петрович неоднок ратно избирался председателем суда чести врачей.
О наивности 86летнего старика могли говорить люди, не зна комые с его прозорливыми прогнозами на всех, особенно пере ломных этапах развития России. Политические события он ана лизировал глубже многих политологов и редко ошибался в перспективной оценке их последствий. Ему посчастливилось со хранить ясность мышления до последнего дня долгой жизни.
В работе над книгой я встречался со многими учениками И. П. Павлова и почти каждому задавал вопрос, который был столь актуален для западной прессы в 1935 г. Запомнился ответ профессора Георгия Павловича Конради, который четверть века Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 651 назад я не смог оценить так, как сегодня. Конради объяснял ме таморфозу политических взглядов И. П. Павлова его «государ ственным российским патриотизмом». Он воспринимал силу и международный авторитет России как свое кровное дело, все беды родины пропускал через душу и воспринимал их как лич ное горе, с глубокой душевной болью.
Помню, я спросил Георгия Павловича: «А разве это не есте ственная реакция нормального гражданина?» В ответ услышал: «Вы счастливый человек. Поверьте мне, что это редкое каче ство». Могу теперь признаться – не поверил я тогда Георгию Павловичу. Все политические деятели, писатели, журналисты независимо от национальной принадлежности клялись в патри отизме, в любви к Великой Родине, Союзу нерушимому респуб лик свободных.
Только теперь я понял, насколько верно оценивал людей Кон ради. От большей части допущенных на телевизионные экраны видишь и слышишь если не враждебные, то ироничноотрешен ные комментарии политических событий, влияющих на судьбу России, будто речь ведут не о Родине, а о чужой стране или даже о другой планете. Редко слышишь в речах и видишь в глазах боль за развал страны, за страдания соотечественников.
Телевизионные передачи дают своим зрителям больше пищи для скорби и сочувствия по поводу гибели английской принцессы или французского кутюрье, последствий плейбойских развлече ний американского президента, чем расстрела соотечественников в Буденновске и Самашках, обездоленности многих миллионов беженцев из Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, заброшен ного Севера, изможденности от голода пациентов психиатриче ских больниц и беспризорных детей. Уже больше десяти лет безнаказанно разжигается рознь между народами многонацио нальной державы, подрывается ее могущество зловредным по ощрением национальных междоусобиц, срежиссированных теми же силами, которым служат и средства массовой информации. И дело тут не столько в злонамеренности социального заказа тех, кто оплачивает их работу, сколько в отсутствии у заказчиков, исполнителей и, что особенно плохо, у потребителей этой про дукции государственного патриотизма, который составлял важ нейшее свойство личности Ивана Петровича Павлова.
Размышляя о державном патриотизме Павлова, я невольно заговорил о телевидении. Ленин с гениальным чутьем вождя народных масс учил своих сподвижников, что важнейшим сред ством идеологической обработки людей является кино. В отли чие от чтения, открывающего простор воображению и самобытному восприятию информации, зрелище навязывает человеку эмоции и стереотипное мышление его авторов и, если угодно, формирует стадность.
Едва ли не самым лучшим индикатором действенности идео логического воспитания служат кумиры наших детей. Восхища ясь своим возлюбленным, героиня романа А. С. Грина оценива ла его в превосходной степени: «Дети будут играть в Вас!» На моих глазах подрались два мальчугана, оспаривая право быть в игре Уокером. Телевидение сделало кумиром русских детей «крутого американца», который даже в благородном обличье проповедует культ кулака и золотого тельца. Менее положитель ные герои цинично культивируют махровый нигилизм – презрение каких-либо нравственных абсолютов, способность преодо леть самый священный моральный запрет ради достижения отнюдь не высокой цели, ради обогащения во что бы то ни ста ло, а это всегда противно было славянской душе.
В жизни Павлова был период (на третьем десятке лет), когда он под влиянием своего университетского учителя – профессо ра физиологии И. Ф. Циона – стремился стать нигилистом. Однако прежнее воспитание в патриархальной семье потомствен ных священнослужителей, а также огромное влияние на него Ф. М. Достоевского, С. П. Боткина и невесты С. В. Карчевской оказались сильнее. И если 30летний Иван Павлов находил много сходства между собой и нигилистом Иваном Карамазовым («Ос нова натуры… Ивана та же, что и моя», – писал он невесте в 1880 г.), то со временем в нем возродилась мораль, исповедуемая Алешей Карамазовым: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация». Следуя Достоевскому, Павлов видел на чало всем подвигам только в нравственном устое, в святости мо ральных запретов, а любовь к Родине, к ближнему, к своему делу считал этическим принципом. Революция, по мнению Ивана Петровича, обесценила общезначимые нравственные ценности: идеалы, мораль, культуру. Идея интернационализма была про тивопоставлена любви к России.
В 1923 г. И. П. Павлов во вступительной лекции к курсу фи зиологии поведал студентам ВМА о мыслях и чувствах, которые обуревали его в революционные годы: «Только тогда я почувство вал, до какой степени вся моя деятельность, хотя бы по сути сво ей интернациональная, до какой степени она связана с достоин ством и интересами родины. Это истина, если я скажу, что я прямо как бы потерял основной смысл в своей научной деятель ности при мысли, что родина погибла. Для кого же я тогда ста раюсь?» Этим словам в лекции предшествовало признание: «…я Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 653 был, есть и останусь русским человеком, сыном родины, ее жиз нью прежде всего интересуюсь, ее интересами живу, ее достоин ством укрепляю свое достоинство» [3].
Только теперь мне довелось осознать и прочувствовать, какую горькую чашу полной мерой испил Иван Петрович Павлов в революционное лихолетье прежде всего из-за своего державного патриотизма. И дело тут было не в антипатии к большевикам.
Когда русская армия стала терпеть поражение за поражени ем в первой мировой войне, Павлов, внимательно следивший за ходом боевых действий, клеймил бездарное командование, цар ское правительство, называл Николая II «идиотом» и «дегене ратом». Узнав о пораженческих настроениях членов партии кадетов, в которую он не входил, но был солидарен с ее полити ческой платформой, Иван Петрович отошел от своих коллег, членов этой партии. Как вспоминала его жена Серафима Васи льевна, он отказался от приглашения на их собрание со слова ми: «Неужели вы не понимаете, что совершаете преступление, устраивая революцию во время войны?.. Нет, я не приму учас тия в разрушении моей родины» [4].
Февральскую революцию 1917 г. Павлов встретил насторо женно, будущее оценивал «в высшей степени пессимистически» (по словам М. К. Петровой), но к апрелю его настроение стало улучшаться. О перемене настроения можно судить по тексту его приветственной речи Первому съезду российских физиологов, который открылся 6 апреля 1917 г. Иван Петрович из-за болез ни не был на съезде. Его речь зачитал профессор В. И. Вартанов: «Дорогие товарищи!.. Мы переживаем такое особенное время… Мы только что расстались с мрачным, гнетущим временем… Мы не можем не ждать, мы должны ждать при новом строе нашей жизни чрезвычайного усиления средств всякого рода для науч ной деятельности… И тогда в свободной, обновляющейся и стре мящейся к возможно лучшему на всех линиях жизни родине какими своевременными являются и наше Общество, и наш жур нал, счастливым образом связанные с славным именем родона чальника родной физиологии и носителя истинно свободного духа Ивана Михайловича Сеченова!» [5]
Тогда надежды Ивана Петровича достигли апогея, но как только А. Ф. Керенский возглавил Временное правительство, он перестал верить в благополучный исход революционных собы тий: «О, паршивый адвокатишка, такая сопля во главе государ ства – он же загубит все!» [6]. Иван Петрович знавал Керенского раньше – через брата своей жены – С. В. Карчевского, проку рора судебной палаты.
После июльских событий Павлов предрекал крах буржуазной власти и переворот либо вправо, либо влево. И того, и другого не желал, мрачнея день ото дня. Октябрьскую революцию пережи вал крайне болезненно, замкнулся в себе, говорил мало. Если же удавалось его разговорить, предсказывал тяжелые потрясения в жизни всех и каждого. Младший сын Всеволод, офицер дей ствующей армии, остался за границей и лишь в конце 20х . возвратился на родину. Подававший большие надежды в науке, любимый сын Виктор подался на юг к Корнилову и, не доехав до места назначения, погиб. Ктото сообщил его родителям, что Виктора расстреляли красногвардейцы. Павлов поверил, о чем свидетельствует его намерение посвятить свою книгу «Двадца тилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятель ности (поведения) животных» «сыну Виктору, зверски замучен ному большевиками». Позднее выяснилось, что Виктор умер от тифа в больнице на станции Барвенково. Был расстрелян Борис, сын его сотрудницы Марии Капитоновны Петровой, которую он любил и переносил свою любовь на ее сына. Огромным напря жением воли и терпения Павлов, сам погруженный в страдания, вернул к жизни любимую женщину, желавшую собственной смерти после потери сына.
Чекисты неоднократно устраивали обыски в квартире Павло ва, конфисковали золотые вещи, включая золотые медали, ко торыми он был награжден за научные достижения, на короткое время задерживали как его самого, так и старшего сына – Вла димира, проживавшего вместе с родителями. Продолжительным политическим арестам подверглись многие друзья Ивана Петро вича. Среди них был его товарищ по клинике С. П. Боткина, бывший директор ИИЭМа и оберпрокурор Священного Синода С. М. Лукьянов, выдающийся отечественный патолог, ученый с мировым именем.
Иван Петрович из патриотических побуждений считал, что войну с Германией нужно продолжать «до победного конца». Естественно, что переговоры в Бресте о мире не находили под держки в его душе. 23 ноября 1917 г. Конференция ВМА едино гласно присоединилась к воззванию Академии наук не поддержи вать Брестский мир. Павлов работал в этих обоих учреждениях, полностью одобрял воззвание и последними словами поносил «постыдный и непрочный сепаратный мир», высказывая опасение, что «воюющие державы раздерут родину на части». Пори цал он также разгром большевиками Учредительного собрания. Его настроением той поры пронизана речь у гроба давнего дру Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 655 га – художника Н. Н. Дубовского. В январе 1918 г. Павлов го ворил:
«Дорогой друг!
Я завидую тебе. Ты более не видишь нашими слабыми, зем ными глазами все растущего раздирания и опозорения Родины, и ты закончил твой жизненный путь славным концом, славною смертию. Ты показал, что нет более тяжелого удара по сердцу, чем гибель Родины. Точно в тот момент, когда твоего уха косну лось известие, что волна безумия, бегущая по широкому просто ру Родины, покрыла и твой родной Новочеркасск, твое сердце отказалось биться, отказалось жить! – Да, совершается грозный и неумолимый приговор истории над нашей славянской семьей! Давно погибла старшая сестра – прекрасная Польша! Дошел черед и до младшей сестры – России, казавшейся такой могу чей, такой богатырской, такой несокрушимой! Она гибнет так же в критический период политического созревания, сраженная тем же злым недугом слепоты перед действительностью. Эта гибель зло и верно обеспечена неукротимой и более неодолимой силой корыстных, низких влечений, легкомысленно и недобро совестно разбуженных и лишенных узды, в огромной темной массе русского народа. А Родина тебе дорога! Ты любил ее боль ше всего! Ты жил ее красками и линиями и ты воплотил это еще недавно в твоем чудном творении “Родина”. Этой картине место на твоей простой могильной плите! Она – весь ты – с твоим та лантом и неугасимою любовью к Родине. Что дивного, что кисть навсегда выпала из твоих рук, когда Родина становится не твоею, а чужою. Прощай друг! Может быть до скорого свидания, если за этой доской ждет нас новое будущее и, будем верить, светлое, которое простит нам наши русские слабости, приведшие к гибе ли Родины. Прости!» [7].
Зато 25 февраля 1918 г. Павлов вместе со всей Военномеди цинской академией горячо отозвался на декрет «Социалистиче ское отечество в опасности!», подписанный Лениным четырьмя днями раньше. Конференция (ученый совет) этого старейшего учебного заведения России постановила: «Академия горячо от зывается на призыв защиты Родины, немедленно принимая все меры к широкой организации помощи больным и раненым и формируя специальные группы из врачей и студентов для борь бы с возможными эпидемиями, но вместе с тем продолжает по возможности свои научноучебные занятия и лечебную деятель ность, заканчивает чтение лекций в кратчайший срок и произ водит экзамены» [8]. Иван Петрович, хотя и не принял большевистскую революцию, продолжал самоотверженно трудиться на благо родины в учреждениях, подвластных большевикам.
Однако научная работа в павловских лабораториях, значи тельно подорванная войной с Германией вследствие призыва многих сотрудников в действующую армию, продолжала идти на убыль. Работников становилось все меньше. Нехватка испы тывалась во всем: в подопытных животных, в корме для них, в инструментарии и медикаментах. Это сильно удручало Ивана Петровича, дорожившего каждым рабочим днем, когда до 70ле тия оставалось всего 2 года, а по его убеждению, «срок деятель ной человеческой жизни именно 70 лет». Жаль было терять дра гоценное время, работая недостаточно эффективно.
Болезненно реагируя на ограничение свобод, он в соавторстве со своим учеником М. М. Губергрицем опубликовал в журнале «Русский врач» статью «Рефлекс свободы». Этой теме Иван Петрович уделил немало места в трех публичных лекциях (28 ап реля, 20 и 27 мая 1918 г.) под общим названием «Об уме вообще и о русском в частности», наделавших много шума в петроград ском обществе [9, 10, 11].
Поскольку лекции полностью опубликованы в этой книге, нет нужды их комментировать. Скажу только, что некоторые недо бросовестные авторы, делая из них купюры в худших традици ях прежних общественнополитических изданий, изображают Павлова чуть ли не русофобом. Лекции же, напротив, свидетель ствуют о его державном патриотизме, о боли за судьбу России, о воинствующей позиции по отношению к тем деяниям новой вла сти, с которыми он был не согласен. Сильнее всего он клял боль шевиков за развал Великой России, за ее ослабление, ведущее к гибели.
Очевидно, после этих лекций Павлов стал национальным сим волом политического сопротивления, символом человеческого противодействия неблагоприятным обстоятельствам. Преодоле вая их, он продолжал трудиться с отчаянным самоотречением, поскольку, по его словам, «в тяжелое время, полное неотступ ной скорби для думающих и чувствующих, чувствующих по человечески, остается одна жизненная опора – исполнение по мере сил принятого на себя долга». Эти строки из письма Ивана Петровича, которым он ответил на поздравление с 75летием коллеге по врачебной профессии В. Ф. ВойноЯсенецкому, а в ту пору опальному архиепископу Луке, «изгнанному за веру Христову к самому краю Земли». Письмо Павлова заканчивалось словами: «Всей душой сочувствую Вам в Вашем мучениче стве» [12]. Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 657
В исполнении долга перед родиной ничто не могло сломить непреклонную волю и могучий дух великого патриота. В течение всей гражданской войны он продолжал преподавать физиологию в Военномедицинской академии, где учебный процесс шел не прерывно, без сбоев. Согласно послужному списку И. П. Пав лова, его служба в Красной Армии началась 23 февраля 1918 г. – в день ее рождения.
«Не было отопления в лаборатории, он надевал шубу и мехо вую шапку с длинными наушниками и так сидел на опытах со трудников. Не было света – он оперировал с лучиной, которую держал над операционным столом ассистент. Даже выработка целебного желудочного сока продолжалась, хотя в меньшем масштабе, чем раньше» [13]. Однако в 1920 г., самом тяжелом для павловских лабораторий, все собаки на «фабрике желудоч ного сока» в ИЭМе погибли, и аптеки Петрограда не получили ни одного флакона этого целебного препарата.
Весной 1919 г. Иван Петрович собственноручно вскопал и засеял участок земли, отведенный ему, как и другим сотрудни кам, на территории Института экспериментальной медицины. Сам полол огород и только к поливке и ночным дежурствам по его охране допускал старшего сына. На своем участке он собрал хороший урожай картофеля и капусты. Гордился, что его ого род лучший, стыдил молодых ученых, которые не находили в себе сил для выращивания овощей.
И все-таки стужа в квартире и на работе, неполноценное пи тание, тягостные раздумья о будущем России подточили здоро вье Павлова – осенью 1919 г. (в 70 лет) он перенес тяжелую пневмонию, первую из нескольких на протяжении 17 лет остав шейся жизни, а последняя из них в феврале 1936 г. явилась при чиной его преждевременной смерти. В 1919 г. организм Ивана Петровича справился с тяжким недугом.
Родственники и знакомые, ученые США, Германии, Швеции, Чехословакии, обеспокоенные состоянием здоровья Павлова, настойчиво звали его за границу. Даже Совнарком предлагал ему покинуть РСФСР, но он отказался. Однако летом 1920 г. его на мерения изменились. В июне он написал письма в Совнарком с просьбой о «свободе оставления России».
Ленин сделал все для того, чтобы удержать И. П. Павлова от эмиграции. Он писал Г. Е. Зиновьеву, что отпустить Павлова «было бы вряд ли разумно, поскольку он выразил мысль, что, будучи правдивым человеком, он, если возникнет соответству ющее обсуждение, будет высказываться против советской влас ти и коммунизма в России. В то же время этот ученый представляет собой такую культурную ценность, что невозможно насиль ственно удерживать его в России в условиях материальной нуж ды» [14].
Ленин потребовал от Зиновьева «под его личную ответствен ность совершенно немедленно обеспечить Павлова и личную жизнь, его лаборатории, его животных, его помощников всем, что он только найдет нужным» [15]. Начали с предоставления Ивану Петровичу и его семье особого спецпайка, надеясь за ткнуть ему рот пирогом. Месячный «особый улучшенный паек», назначенный Павлову, включал 70 фунтов * пшеничной муки, 25 фунтов мяса, 12 фунтов свежей рыбы, 3 фунта черной икры, 10 фунтов бобов, 4 фунта сыра, 5 фунтов сухофруктов, 750 па пирос [16]. Но Павлов отказался от пайка и написал еще одно письмо в Совнарком, «полное, – как писал В. Д. БончБруевич [15], – негодования, глубокой грусти и великого достоинства», в котором сетовал на непонимание правительством главного в его предыдущем прошении. Своим письмом он стремился привлечь внимание правительства не к своей личности, а к бедственному положению отечественных ученых и науки, что ускоряло дви жение России к пропасти. Во имя спасения родины Павлов тре бовал, чтобы работа ученого признавалась государством как одна из высших форм служения народу, чтобы ученых не считали представителями эксплуататорских классов.
Прочитав павловское письмо, Ленин с горечью сказал В. Д. БончБруевичу: «Да, он прав, он совершенно прав. Он на писал изумительно честно, и мы должны особо ценить таких людей. Сейчас же напишите ему, что правительство примет все меры к улучшению положения ученых. Еще раз просите его не уезжать из России» [15].
Непреклонность Ивана Петровича подтвердил в январе 1921 г. один из руководителей Петросовета Митрофанов. Оправ дываясь перед Кремлем за то, что не может преодолеть отказ Пав лова от привилегий, он писал: «Относясь с уважением к личной жизни профессора Павлова, мы ничего не в силах сделать, так как он упорно отвергает помощь. Он говорит, что не может пользоваться привилегиями, которыми не пользуются его кол леги… Положение профессора Павлова может быть улучшено только путем снабжения семейными пайками ведущих ученых Петрограда; это, возможно, удовлетворит Павлова» [17].
Благодаря письмам И. П. Павлова в Совнарком Комиссия по улучшению быта ученых (КУБУ), работавшая с начала 1920 г. с
* 1 фунт ≈ 453 г. Эволюция политических взглядов И. П. Павлова 659 весьма скромным успехом, была преобразована в ЦЕКУБУ, ко торую возглавил А. М. Горький. В конце августа Павлову возвра тили конфискованные у него 6 золотых медалей. В октябре Бонч Бруевич разослал копии письма Ивана Петровича в Наркомвоен, Наркомпрос, Наркомвнудел, Наркомсобес, Наркомтруд, Нарко мюст, Наркомфин с обращением: «Может быть, будет признано желательным принять какиелибо экстренные меры к улучше нию положения ученых?!» [15].