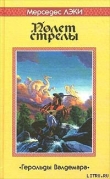Текст книги "Возвращение из Индии"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
А теперь он был мертв. Острая боль сжала мне сердце. А добрые его друзья, Хишин и Левин, снедаемые чувством потери и вины, должны были теперь же сообщить эту ужасную весть его жене – женщине, которая не способна была прожить без него даже одного дня. Накаш сейчас стоял позади меня; на шее у него был галстук. На какое-то мгновение он заколебался, но затем любопытство – или что это было – взяло верх и, подойдя к мертвому телу, лежавшему посреди врачебных принадлежностей, он приподнял зеленый лоскут и стал смотреть на остывшее лицо Лазара, шевеля губами и, наверное, мысленно прощаясь с ним. Ведь Накаш прибыл к нам с Востока и, вне зависимости от огромного своего опыта работы анестезиологом, в глубине души оставался фаталистом, и когда смерть забирала кого-то из близких ему, он просто принимал это, принимал как есть, целиком, без вопросов, без жалоб и без искушения проклясть кого-либо.
Он не сделал ни малейшей попытки обсудить со мной мой диагноз, но просто покинул нас – меня и Лазара; повернулся и отправился домой, гася за собою свет. Он всегда делал так из экономии, сейчас тоже, погрузив половину здания во мрак. Я решил не переодеваться и так, как был, поспешил в палату скорой помощи не только потому, что мое дежурство уже началось, но и потому еще, что был уверен – хоть кто-нибудь здесь да объяснит мне, наконец, что же все-таки произошло. Но двое хирургов из молодых, на которых я наткнулся (оба они были с Хишиным и Левиным в то время, как те предпринимали отчаянные попытки спасти Лазара), были настолько ошеломлены, что, несмотря на искренние попытки объяснить мне и прокомментировать случившееся, не могли связно восстановить картину происшедшего, заикаясь и путаясь в словах. Все, что я от них узнал, это то, что после фиксации факта смерти Лазара, Левин и Хишин, не теряя времени, бросились оказывать помощь Эйнат, находившейся в глубоком шоке. Поначалу они собирались взять меня с собой, чтобы вместе довести эту печальную новость до его жены, но поскольку я был еще занят в операционной, они вместо меня пригласили секретаршу Лазара, которая тут же впала в истерику и принялась кричать и плакать. И снова, вопреки распространенной практике, молодые врачи не спешили с обвинениями. Никто не мог ожидать случившегося – всего лишь за два часа до катастрофы ЭКГ показала вполне приемлемые результаты. Аритмия обычно непредсказуема – она наступает и исчезает когда ей вздумается. И я решил держать рот на замке – ведь все равно никому не было известно, какие узы намертво привязывали меня к Лазару, а потому я впрягся в работу скорой помощи, бывшей, как обычно, сверхинтенсивной, а тем временем вести о смерти директора больницы словно гигантские волны, накатывали и растекались по всем уголкам огромного здания, заставляя трепетать всех и каждого, кто этой ночью оказался в больнице. Около двух часов ночи меня позвали в хирургическое отделение, чтобы я ассистировал при местной анестезии. Как только все закончилось, я поспешил в маленькую инструментальную снова, чтобы убедиться наверняка, что тело перевезено в больничный морг, где я, к слову сказать, еще ни разу не был.
– Как мне туда пройти? – спросил я человека в справочном бюро, расположившемся в вестибюле рядом со входом, и дежурный рассказал мне, что и где, утверждая при этом, что в такие часы морг закрыт и никого в нем нет. – Не говорите чепухи, – сказал я сердито. – Люди умирают ночью тоже, – и двинулся по направлению к цокольному этажу.
Там, на лестнице, я столкнулся с тремя врачами, которых сразу узнал. Это были доктор Амит, заместитель заведующего отделения сердечной хирургии, доктор Ярден, анестезиолог, принимавший участие в операции Лазара, и старейший патологоанатом доктор Хейфец. Я понял, что они возвращаются оттуда, куда я направлялся. К моему изумлению, они, в свою очередь, не только узнали меня, но и не выглядели удивленными, увидев меня в таком месте, как если бы это было вполне естественно – то, что я шел в морг в два часа ночи.
– Был ли ты там, когда все это случилось? – сразу же спросили они, как будто искали, кого проклинать.
– Нет, – ответил я. – Но хотя все это время я находился в операционной, я ни на минуту не переставал думать о возможности вентрикулярной тахикардии.
Доктор Амит опустил голову. Он не был со мною согласен. Возможно, считал он, непосредственной причиной смерти и была аритмия, но он подозревал, что причиной катастрофического ухудшения состояния Лазара был инфаркт, вызванный закупоркой одного из шунтов. Все трое выглядели очень подавленными случившимся.
– Эта смерть не улучшит репутации нашей больницы, – сказал доктор Хейфец, согласившийся спуститься со мной и показать тело. – Но от него мало что осталось, – предупредил он меня, спускаясь по ступеням, – потому что Лазар, как и все мы, завещал свои органы исследовательской лаборатории.
Мне показалось странным, что патологоанатом без малейших колебаний согласился на мою просьбу, как если бы он тоже понимал, что я имею на это некоторые права. Слышал ли он о нашей совместной поездке в Индию? Он открыл дверь, ведущую в два соединенных вместе помещения. Посередине образовавшегося пространства находился огромный холодильник с рядами металлических корыт. Одно из них он вытянул. Я увидел уменьшившегося, сморщенного Лазара, всего покрытого грубыми швами, после того как из него изъяли внутренние органы.
– А сердце они забрали тоже? – спросил я.
– Разумеется, нет, – изумленно ответил доктор Хейфец.
Внезапно я успокоился и ощутил жажду деятельности. Я понимал, что не следует мне будить родителей посреди ночи, но я должен был хоть с кем-то поделиться переполнявшими меня чувствами. И я позвонил им и рассказал о внезапной смерти Лазара. Как и все отзывчивые люди в подобной ситуации, они были ошеломлены и обескуражены, снова и снова забрасывая меня вопросами, как подобное могло случиться, как если бы, сидя у себя дома в Иерусалиме, они могли понять, что за смертельную ошибку допустили такие выдающиеся специалисты своего дела, как Хишин и Левин. Внезапно мне захотелось их утешить и попросить их не предаваться отчаянью, поскольку душа Лазара уже переместилась в меня, хотя и понимал, что первой их реакцией будет мысль о том, что я повредился рассудком. А потому я лишь спросил у них телефон моей тетушки в Глазго, по которому я мог бы связаться с Микаэлой.
Я взял бипер из палаты скорой помощи, включил и поспешил по направлению к офисам администрации, которые, я был уверен, в общей суматохе остались незапертыми. Я не ошибся. Дверь, ведущая в офис Лазара оказалась открытой, и мне не пришлось даже включать в нем свет, поскольку луна четко высвечивала мне цифры на телефонном диске. Я разыскал Микаэлу и Стефани у моих родных в Шотландии, рассказал ей о внезапной смерти Лазара и попросил, прервав ее путешествие, как можно скорее вернуться домой. На другом конце провода повисло молчание.
– Послушай, – сказал я, чувствуя, как злость охватывает меня, но стараясь не дать ей выплеснуться наружу. – Послушай меня. Я знаю, что ты настроилась провести в Британии еще неделю.
Но я считаю это неправильным… то, что ты в этой новой ситуации хочешь оставить меня одного с ребенком.
– О какой такой ситуации ты мне толкуешь? – не понимая, спросила издалека Микаэла.
На мгновение я испугался, что вот-вот сорвусь. Неужели она не понимала? Стараясь держать себя в руках, я сказал ей:
– Микаэла. Я тебя прошу… – Я говорил тихо, но твердо. – Речь идет не только о Шиви, которой ты нужна. Мне ты нужна тоже. Только с тобой я могу поговорить о том, что произошло со мной. Потому что никто, кроме тебя, не в состоянии поверить, что душа Лазара переместилась в мое тело.
И снова на другом конце провода воцарилась глубокая тишина. Но теперь уже это была не тишина сопротивления. Это была новая, совсем не похожая на прежнюю, тишина. И я знал, что сказанные мною сейчас слова поразили ее воображение, возбудили ее любопытство настолько, что, не сомневаясь более, она откажется от своего путешествия на остров Скай и первым же самолетом вернется домой.
Часть четвертая
ЛЮБОВЬ
XVI
Дважды в течение траурной недели я звонил Лазарам с выражением соболезнования. Первый раз я звонил сам, а на следующий день после похорон – с Микаэлой, которая вернулась в страну на четвертый день после нашего ночного разговора по телефону. Мне предстоял еще один визит – к моим родителям, которые разрывались между желанием пойти на похороны и звонком с выражением соболезнования, но я уговорил их ограничиться сочувственным письмом, которое я и продиктовал им в телефонную трубку. Так как на меня легли, в связи со смертью Лазара, как скрытые, так и явные заботы, я попросил родителей забрать Шиви с собой, пока Микаэла не прилетит.
Заботы явные были более ясны, чем тайные, и включали в себя собственно похороны, назначенные на следующий день после смерти, ибо больничная администрация и многочисленные друзья Лазара задались целью организовать величественную церемонию погребения, дабы реабилитировать репутацию больницы и пресечь слухи о неудачной операции и неправильном диагнозе. На меня легла обязанность поддерживать больничное реноме на должном уровне, исходя из ощущения, что именно я мог быть рассматриваем как источник наиболее достоверных сведений; более достоверных, чем те, что исходили от профессора Левина, который был просто раздавлен смертью своего друга, случившейся не только в его отделении, но и при его непосредственном участии. Это поразило его настолько, что он просто опустил руки и передал часть своих обязанностей своему заместителю; выглядело это, как вынесенный им самому себе приговор. Тем самым он отвел от себя все критические стрелы, перенаправив их на профессора Хишина, который не только «стащил» операцию у кардиохирургов, но мало того, – привлек специалиста из другой больницы.
Следовало бы сказать правды ради, что время от времени больные умирали во время операции по аортокоронарному шунтированию и в отделении сердечной хирургии тоже, но это рассматривалось как «внутренние» случаи, в то время как смерть Лазара была «внешней», привнесенной со стороны, что виделось многим, как акт предательства. А так как я был убежден, что причина смерти Лазара была никак не связана с хирургией, а являлась следствием ошибочного диагноза, в момент нарастания критики я считал своим долгом прервать молчание и выступить на защиту профессора Хишина от хулителей и клеветников, большинства из которых я даже не знал раньше – всех этих докторов, медсестер и административного персонала, всех тех, кто начал прихватывать меня в коридоре на следующий же день после смерти Лазара, пытаясь вытянуть из меня истинную картину происшедшего. Доктор Накаш, случайно оказавшийся свидетелем одного такого коридорного собеседования, отвел меня в сторону и предупредил с несвойственной ему резкостью, чтобы я держал рот на замке. И во время похоронной церемонии, проходившей на площадке перед фасадом больницы, я заметил, что он и его жена ненавязчиво обретались неподалеку, словно желая уберечь меня от намерения присоединиться к наиболее интимному кругу провожающих Лазара в последний путь – членов семьи, старых и верных друзей, окруживших Дори, державшуюся с горестным достоинством возле своего любимого мужа.
Провожающие толпились на площадке, все увеличиваясь в объеме – количество их превосходило все мои ожидания, – и многие показались мне искренне опечаленными, поскольку среди толпы немало было таких, в чьих глазах я видел слезы. Это были мужчины и это были женщины; они слушали надгробную речь, которую произнес главный врач больницы, невзрачный, недавно ушедший на пенсию человек, начавший читать свою речь тихим, но звучавшим отчетливо голосом; речь эта рассказывала о жизненном пути Лазара. Оказалось, что Лазар появился на свет и вырос в двух или трех кварталах от больницы. В молодости он изучал медицину, но, проучившись всего год, вынужден был уйти из университета из-за болезни отца и пойти работать, чтобы поддержать своих младших братьев и сестер, стоявших сейчас среди тех, кто окружал Дори, – их можно были выделить по их поразительному сходству с братом. Со своего места я видел, как двое из них старались не подходить к Дори слишком близко, как если бы боялись, чтобы эта элегантная, ухоженная дама, старавшаяся держаться как можно ближе к могиле, не увлекла их с собою в своем горе. И не они одни – даже ее мать держалась чуть поодаль от дочери, стоя рядом с внуком и внучкой так, что со стороны они казались единой группой, где двое поддерживали третьего. И только Хишин – может быть, в силу своего врачебного авторитета, который в глазах семьи Лазаров оставался незыблемо абсолютным, – отважился подойти к Дори и взять ее за руку.
Хишин в соответствии с событием был облачен в черный костюм, но вместо кипы на голове у него была старая черная бейсбольная шапочка, которая делала его похожим на грустную птицу. В качестве человека, который в течение многих часов провел с ним рядом у операционного стола и приучился распознавать малейшие нюансы его переменчивого настроения, я на расстоянии чувствовал страшное напряжение, в котором он находился; мне казалось, что вот-вот он выхватит скальпель и примется оперировать сам себя. В тот момент я еще не знал, что он договорился, что произнесет прощальные слова, перед тем как Лазара опустят в могилу, и что именно в эти минуты он повторял первые предложения этой своей речи, окидывая взглядом маленьких глаз враждебно настроенную аудиторию. Дори тоже смотрела на бесчисленные лица, окружавшие ее, но вид у нее был при этом такой, словно ни одно из произносимых слов до нее не доходило. Она была так раздавлена обрушившейся на нее катастрофой, что не смогла даже следить за выражением своего лица, которое даже в эти ужасные минуты было освещено ее привычной автоматической улыбкой – но такой растерянной, жалкой и слабой, что при взгляде на нее у меня разрывалось сердце.
На следующий день в квартире Лазара, среди толпы, то входящей, то выходящей из нее, Дори, в черном своем и памятном мне бархатном платье, попыталась вспомнить хоть что-то из прощальной речи, звучавшей перед больничным фасадом. Лицо ее, совершенно лишенное макияжа и от этого бывшее еще белее обычного, обращалось вопросительно, то к одному, то к другому из гостей, переполнявших квартиру, явно свидетельствуя, что ни одного слова произнесенного вчера, она не расслышала. Но и люди, окружавшие ее, тоже мало чем в состоянии были ей помочь, создавая впечатление, что вообще никто ничего не слышал.
И тогда я, не в силах более видеть это, поднялся на другом конце комнаты и слово за словом повторил не только то, что касалось непосредственно биографии Лазара, рассказанной главврачом, и не только то, что с большой эмоцией сказал о нем мэр, с которым у покойного бывали настоящие бюджетные сражения, но и, равным образом, всю целиком речь, произнесенную на краю могилы профессором Хишиным, хотя сам Хишин при этом сидел за спиною хозяйки рядом с незнакомой мне молодой женщиной, не то его любовницей, не то уже женой, которая большую часть года жила в Европе.
В течение всей недели, последовавшей за смертью Лазара, он дважды в день наведывался к ним на квартиру, частично, чтобы поддержать детей и вдову своего незабвенного друга, а частично, чтобы защитить их и оградить от ненужного и тягостного любопытства совершенно разных людей. Так что было бы вполне естественно ожидать, что среди людского половодья он не обратит на мое присутствие никакого внимания, и тем не менее я, сидя незаметно в отдаленном уголке гостиной, то и дело ловил на себе его быстрый вопрошающий взгляд; похоже, он пытался угадать, не намерен ли я сообщить Дори нечто такое, чего она еще не знает. Но ничего подобного в моих намерениях не было.
Тяжесть, которую я ощущал внутри с момента смерти Лазара, сопровождалась время от времени легким головокружением, как если бы я терял контроль над тем, что во мне происходило, исключая возможность каких-либо жалоб и нареканий в адрес Хишина, во что тот, в свою очередь, вряд ли мог поверить до конца. Его подозрения могли усиливаться еще при виде того, как забыв о приличествующем мне поведении, я не откланивался, а после часа с лишним пребывания в доме все еще тупо сидел все на том же месте, наклоном головы прощаясь с приятелями из больничных отделений, покидавших квартиру и не высказывая намерений последовать их примеру, как если бы я был одним из домочадцев. Разумеется, я им не был, но… с другой стороны, меня не покидало чувство принадлежности к этой охваченной горем семье и к этой квартире, в которой мне довелось до сего времени побывать лишь дважды, считая и вечер накануне путешествия в Индию.
И тем не менее я ощущал нечто родственное в теплой атмосфере этого дома – пусть даже с момента возвращения из Индии дом этот становился ареной самых моих разнузданных фантазий. А теперь сокрушенный дух хозяина этого дома, который столь сострадательным образом поселился в моей душе, позволил мне не только подняться с места и пройти на кухню, не спрашивая разрешения на то, чтобы налить себе стакан воды, но даже двинуться дальше и пройти в спальню, где я провел курс вакцинации Лазару и его жене, перед тем как отправиться в Индию. А кроме того Дори, которая без колебаний вторглась в спальню чужого дома в Лондоне, вряд ли была бы вправе упрекнуть меня за то, что я, как загипнотизированный, стою на пороге ее большой элегантной спальни, где мягкий осенний свет заходящего солнца окрашивал в багровые тона большое окно и высвечивал предметы женского туалета, небрежно разбросанные на кровати, кресле и стульях, смягчая впечатление некоторого хаоса, который, без сомнения, привел бы в ярость Лазара…
И в этот момент я едва не подпрыгнул, ощутив легкое прикосновение к моей спине. Это был Хишин. Его стройная фигура показалась мне еще более похудевшей за последние дни, маленькие его глаза казались усталыми и налились кровью. Хотел ли он тоже увидеть здесь нечто или просто проследовал за мной? Он стоял совсем рядом и, подобно мне, взирал на царивший повсюду беспорядок, произведенный растерявшейся, а может и чем-то разгневанной вдовой.
– Были ли вы здесь когда-нибудь раньше? – вдруг задал он мне изумивший меня вопрос.
– Когда-то давным-давно, – ответил я, чувствуя, что начинаю краснеть. – Накануне нашего путешествия в Индию. – И тут же я понял, что он имел в виду не квартиру, а эту спальню, а потому без перерыва продолжил: – Именно здесь я сделал им необходимые для поездки в Индию прививки.
Он покивал головой. Было что-то глубоко трогательное в том внимании, с которым он относился ко мне. Несмотря на смерть Лазара и глубочайшую пропасть в общественном статусе между нами, я ощущал существование чего-то, чему я не знал названия и что относилось не к самой медицине, а, скорее, к врачебной этике, и это что-то, не имевшее названия, странным образом связывало нас. Но поскольку я никогда ранее не видел его таким… уязвимым, что ли, я решил избегать всего, что могло бы затрагивать его уверенность в себе, напоминая о произошедшей трагедии, которую никто не сумел предотвратить. Но один вопрос интересовал меня настолько глубоко, что я не мог сдержать себя и спросил Хишина напрямик:
– А профессор Адлер, проводивший операцию, – что он думает по поводу всего происшедшего?
– Бума? – с яростью переспросил Хишин. – Что думает Бума? Да он в тот же день улетел за границу и вернется не раньше следующей недели. Он ничего и ни о чем не знает. Но что, Бенци, он может сказать нам? Чего мы не знали бы сами? Вы-то уж знаете, что вентрикулярная тахикардия никак не связана с операцией, которая происходила на твоих глазах.
Теплая волна счастья взмыла во мне от этих, произнесенных великим Хишиным, слов – ведь он подтвердил мой диагноз, который одним этим фактом обрел абсолютную непререкаемость. Окрыленный этим неожиданным триумфом, я продолжал стоять в спальне, внезапно утонувшей в розоватых тенях, которые накрыли, поглотили хаос, оставленный отчаявшейся женщиной, которую я так безнадежно любил. И я решил хоть чем-то приободрить Хишина, который, пусть и не захотел найти для меня места в своем отделении, предпочтя моего соперника, тем не менее рекомендовал меня как «идеального человека» для поездки в Индию. Мог ли я об этом не помнить! И я начал превозносить надгробную речь, произнесенную им на кладбище.
– Ваше прощальное слово было потрясающим, – сказал я, – если это выражение является приемлемым в данном случае.
Он закрыл глаза и скромно склонил голову в знак благодарности и признательности, как если бы при этом прислушивался к топоту людей, непрерывно входивших и выходивших через наружную дверь. Хотя он и получил массу комплиментов за свою речь, мой отзыв – я видел это – был ему приятен.
– Мне ее так жаль, – добавил я, не в силах удержаться. – Что она будет делать без него? – Хишин бросил на меня быстрый взгляд, выражавший удивление, как если бы ему показалось, что подобный вопрос неправомочен в устах столь молодого человека, как я, тем более что тревога, прозвучавшая в нем, касалась женщины, по возрасту едва ли не годившейся мне в матери. – Она не способна и минуты пробыть наедине с собой, – добавил я обиженным, с ноткой отчаяния тоном.
– В каком смысле она не может оставаться сама с собой? – изумился он, как если бы это утверждение, касающееся предмета, который должен был бы быть хорошо ему известным, вдруг приоткрылся для него с какой-то неизвестной стороны.
Здесь я понял, что должен впредь быть предельно осторожным, даже с учетом того, что события нескольких последних дней очень сблизили нас. Но ведь разрушительное чувство вины ни на мгновение не переставало терзать его – и здесь он был совсем один. Слова его прощальной речи, столь поразившей меня, до сих пор эхом отдавались в моем мозгу. Вспоминая, как соскользнуло с носилок в вырытую могилу тело директора больницы, я тут же внутренним взором видел, как Дори, поддерживаемая Хишиным, пошатнулась на подкосившихся ногах, а сам я почувствовал, как меня с обеих сторон поддерживают невидимые руки Накаша и его жены.
Пришел в себя я чуть позже, когда Хишин произнес уже первые слова своей памятной речи, которую я дословно пересказал Микаэле на пути домой из аэропорта. И хотя Микаэла, без сомнения, предпочла бы сначала выслушать мой рассказ о Шиви, которая немедленно узнала свою мать, несмотря на долгую разлуку, и теперь тихонько лежала у нее на коленях, она сдержалась и внимательно слушала, как я, слово в слово, пересказывал ей речь Хишина, зная, что если мне кажется, что сказанное важно для меня, то тем самым оно становилось важным и для нее тоже.
Слушала она меня терпеливо и внимательно, понимая, вероятно, что если я почему-то считал столь важным детально пересказывать ей речь Хишина, раньше, чем мы, после годичного перерыва, окажемся дома, то в этом есть нечто личное, касающееся в равной степени и меня, и ее. И она готова была набраться терпения для того, чтобы это узнать. И действительно, в настоящее возбуждение она пришла в том месте моего пересказа, когда Хишин от общих мест, восхваляющих достоинства ушедшего в мир иной административного директора, сменил тон с пафосного и высокопарного на доверительно-интимный и почти что нежный, когда начал рассказывать о реакции Лазара на состоявшееся два года назад путешествие в Индию в качестве иллюстрации к иной, невидимой, или еще точнее, тщательно скрывавшейся стороне души этого успешного администратора – это место его погребальной речи заставило пришедших на похороны людей, столпившихся среди надгробных белого камня плит, еще ближе придвинуться к тому месту, где стоял Хишин, залитый полуденным светом осеннего дня, обещавшего закончиться дождем; несмотря на эту угрозу, люди хотели узнать о впечатлениях и мыслях Лазара об Индии. Хишин, как я тут же разгадал, затеял весь этот разговор исключительно для Дори, вытиравшей слезы и вопрошающе глядевшей на оратора. А оратор рассказывал, как ужаснулся Лазар и как был он поражен впервые в жизни, увидев лежащих на грязных улицах Индии больных и калек, заброшенных и никому не нужных в своей нищете и своих несчастьях; но, увидев все это и придя в ужас, Лазар не отвернулся от этой картины, а честно взглянул на нее широко раскрытыми глазами и задался очень важным вопросом – а так ли велик разрыв и глубока пропасть между собственным нашим миром и миром этих лежащих на тротуаре людей, и гарантирует ли этот разрыв нам какие-нибудь духовные преимущества. И можем ли мы полагать с достаточной степенью уверенности, что испытываемое нами счастье на самом деле превосходит счастье их?
– И возможно, – продолжал Хишин задавать свои вопросы вместо Лазара, который не мог, восстав из могилы ни подтвердить, ни опровергнуть приписываемые ему странные мысли, – и возможно, что презрение и равнодушие, демонстрируемое этими людьми, которых мы называем отсталыми и относим к «развивающемуся миру», пользуясь собственными критериями и представлениями, – так вот, не исключено, что именно они способны приобщить нас к более верному пониманию мира, который мы, увы, покидаем слишком быстро, расставаясь с близкими нам людьми с болью, которую, как я уверен, в эту минуту испытывает каждый из нас.
Затем, окинув взглядом окружавшие его лица, внимавшие ему, и поправив криво сидевшую на его голове черную бейсбольную шапочку, Хишин начал вновь живописать похождения Лазара в Индии, дойдя до того момента, когда покойный директор однажды ночью оказался в одном купе с неким отставным индийским чиновником, ехавшим из Нью-Дели в Варанаси и изумившим Лазара неафишируемой и вместе с тем непоколебимой верой в возможность реинкарнации после погружения в священные воды Ганга. Мне было странно слышать, как Хишин описывает эту ночь в поезде, описывает так, словно Лазар был в купе один, но немного подумав, я не мог не признать, что в чем-то он был прав – в действительности Лазар был один в эту ночь, бодрствуя в темноте и прислушиваясь к дыханию остальных трех, погруженных в сон спутников. А Хишин продолжал голосом, полным боли, в то время как взгляд его остановился на мне:
– Можем ли отрицать мы, абсолютно современные люди, что время от времени хотели бы родиться заново, особенно в такую вот минуту, когда мы стоим перед только что засыпанной могилой? Но как можем мы утешить себя мыслью о еще одном рождении, когда с каждым днем нам становится все яснее, что ничто в мире не способно родиться дважды? Поскольку не существует такой вещи, как душа… не существует и не существовало никогда.
В этом месте явственный ропот протеста прокатился над толпой, но Хишин непоколебимо продолжал. Он сам, доверительно сообщил он, всю свою сознательную жизнь провел, заглядывая в самые потаенные уголки человеческого тела, и не обнаружил и следа этой души; равным образом и его друзья нейрохирурги, специализирующиеся на операциях головного мозга, готовы поклясться, что все увиденное, найденное и поддающееся осязанию оказывалось чистой материей, без малейшего намека на существование какого-нибудь духа; хотя при этом и они, так же, как и он сам, согласились, что придет однажды час, когда возможно будет всего достичь искусственным путем и, уж конечно, прежде всего путем трансплантации отдельных частей мозга, точно так же, как в настоящее время возможна трансплантация отдельных органов человеческого тела. А следующим этапом будет возможность – путем ли пересадки или путем неких инъекций или приспособлений – расширить возможности нашей памяти, отточить наш интеллект и усилить наше наслаждение.
– А потому, – заключил неожиданно Хишин, – я не могу утешиться верой в существование бессмертной души Лазара, у которой я мог бы просить прощения, но могу и буду жить, помня о человеке из плоти и крови и о том, что он для меня значил. И если на самом деле имела место ошибка, то потому лишь, что я слишком его любил.
Слабая, но исполненная иронии усмешка скользнула по губам Микаэлы. Мне трудно было решить, относилась ли она непосредственно к словам Хишина или к моим усилиям передать их как можно точнее.
– Вот как, значит, он хочет выбраться из всего этого, – сказала она мягко, не поясняя, что она имела в виду, и снова сделала попытку встретиться со мною взглядом – попытку по-прежнему неудачную, поскольку с момента нашей встречи в аэропорту я сосредоточенно следил за дорожным движением на трассе, а в эту минуту вглядывался в знакомые улицы и переулки, окружавшие наш дом, в надежде найти удобное место для парковки.
И в самой квартире, где я ничего не сделал, чтобы вернуть на свои места мебель, передвинутую Амноном, Микаэла продолжила свои попытки встретиться со мною взглядом, желая, как я понял, вернуться к разговору, которым я так возбудил ее воображение, позвонив ей из офиса Лазара всего через несколько часов после его смерти; разговор, показавшийся ей настолько важным, что она тут же прервала свое путешествие и вернулась домой.
Так и не добившись ответного взгляда, она положила Шиви в небольшой игровой загончик, который мои родители купили для нее неделю назад, пошла ко мне в кухню, где я стоял возле раковины и, обхватив меня руками, принялась целовать-не только потому, что любая перемена обстановки тут же вызывала в ней страсть (а после годового отсутствия даже собственная квартира могла считаться новой), но и затем, чтобы дать мне знать, что странное и таинственное признание, сделанное мною в ту ночь, вызвало у нее доверие, интерес и чрезвычайно ее возбудило. От прикосновения ее обнимающих сильных рук истекало тепло, растекавшееся по всему моему телу, равно как и от ее проворного языка, не отрывавшегося от моего лица. И желание, уже почти покинувшее меня из-за злости на нее и обстоятельств, связанных со смертью Лазара, вновь взмыло во мне с такой силой, что я почти задохнулся от усилий, с которыми я пытался справиться с ее языком и стал покрывать поцелуями ее глаза, для того хотя бы, чтобы избежать ее пронзительного взгляда, умоляющего меня повторить вновь поразительное признание, заставившее ее поспешить обратно в Израиль. Я взял ее на руки и, пока Шиви с живым интересом наблюдала за нашими действиями, отнес ее в другую комнату, которая, вследствие любви Амнона к морю, превратилась из спальни старой леди в гостиную. Я уложил ее на узкий диванчик, не удосужившись превратить его в двуспальное ложе, стащил с нее одежду и, встав на колени, чтобы удобнее было осыпать ее ласками, стал целовать интимные места, стараясь обнаружить свидетельства ее неверности мне в Англии или Шотландии. Но я ничего не обнаружил, а потому поднялся и лег рядом с нею, а затем занялся любовью с таким энтузиазмом и неутомимостью, с какими делал это в ту незабываемую ночь в пустыне, едва не пропустив свадьбу Эйаля. Остановились мы лишь тогда, когда хныканье Шиви превратилось в непрерывный и требовательный крик.