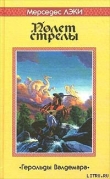Текст книги "Возвращение из Индии"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
Но здесь… здесь он вынужден был начать с элементарных, долгих и скучных приготовлений, которые он, разумеется сделал бы с не меньшим блеском… но он ведь в течение бог весть какого времени не занимался этим. Хишин, который лучше всех остальных понимал, в какой ловушке оказался великий иерусалимский чудодей, постоянными шутками пытался разрядить атмосферу – настолько хотя бы, чтобы время проходило быстрее и приятнее, а сам друг не ощущал бы себя объектом эксплуатации. Рассчитывал ли он на дополнительное вознаграждение от семьи Лазаров? Это было сомнительно. Или и он, подобно мне, мог рассчитывать на оплату не в деньгах, а в виде каких-то благ? На этот вопрос ответа у меня не было. Ни в отношении Хишина, ни в отношении Левина, который будучи, по преимуществу, терапевтом, занял свою позицию поближе к анестезиологам, имевшим отношение к вопросам, связанным с душой. Они повесили простыню между грудью Лазара и его лицом, прикрыли ему глаза и зафиксировали шею, постепенно уменьшив давление крови и погружая во все более глубокий сон в ожидании того, наиболее болезненного момента; момента, когда грудь будет вскрыта электропилой – операции, которую колдун из Иерусалима проделал с такой ошеломляющей быстротой и апломбом, что Хишин не мог удержаться от крика «браво», на что его старый друг ответил слабой улыбкой, перегнувшись, чтобы украдкой взглянуть на застывшее лицо пациента, чей глубокий сон, подтверждался показаниями приборов и параметрами характеристик, которые высверкивали искрами на инструментах вокруг нас, свидетельствуя, что сам Лазар не был потревожен этим ужасным распилом.
Хотя я стоял только что не вплотную к профессору Левину, он упрямо игнорировал меня, как если бы с того момента, когда решил не возвращаться, чтобы подвергнуться его переэкзаменовке и расспросам о том, что произошло в Индии, он исключил меня из сообщества достойных людей и перевел в категорию моральных уродов. Но зная – как знал я, что, несмотря на все его внутренние проблемы, он был и оставался одним из самых мыслящих и интеллигентных врачей в больнице, я предпочел наблюдать за выражением его лица, которое оставалось серьезным и строгим, как если бы то, что происходило здесь, вызывало у него чувство глубокой тревоги. Была ли вызвана эта тревога, эта озабоченность тем фактом, что он был терапевтом, спрашивал я себя, а потому в течение долгого времени ему не приходилось бывать в операционной? А может быть, его беспокоила мысль об очередном приступе безумия, который ему предстояло перенести, и который его друг Лазар должен будет допустить после своего пробуждения – пусть даже много недель спустя?
А пока что два анестезиолога, доктор Накаш и доктор Ярден, начали готовиться ко второму «улету» – на этот раз в космическое пространство. Все три ассистента, которые на этот раз заправили все трубки туда, куда надо, и в ожидании дальнейших распоряжений занимались приготовлением солевого раствора и замерли, готовые в любую секунду к тому, что ведущий хирург передаст им кровь Лазара. И вот этот ведущий хирург приступил к делу – отдавая приказы и распоряжения, которые невнятно доносились из-под маски и которые ассистенты громко повторяли вслух, приступая к выполнению функций, которыми в живом теле занимаются сердце и легкие: накачивают, очищают, насыщают кислородом и возвращают в тело кровь в нужных количествах, потребных работающему сердцу. В этот момент я увидел, как Левин поднял глаза и посмотрел на экран, установленный в углу на уровне потолка, где он мог разглядеть на мониторе, отражавшую работу сердца у Лазара гладкую, горизонтальную, без флуктуаций линию. И тогда я почувствовал, что не в силах больше держать под контролем себя и свое возбуждение, – не как врач с каким-никаким опытом и стажем, а как снедаемый назойливым любопытством новичок, а почувствовав, на цыпочках подкрался к Хишину – он как раз заканчивал накладывать шов Лазару на ногу и стоял на небольшом возвышении, позволявшем ему видеть, как ведущий хирург стремительно имплантирует шунты, казавшись при этом чрезвычайно удовлетворенным тем, как идут дела, – и попросил его разрешения присоединиться к нему и посмотреть на мастерскую работу доктора Адлера в надежде научиться у него тому, что еще не умел. Потому что никто лучше Хишина не знал, что, несмотря на то, что меня вышвырнули из хирургии, отправив в ссылку к анестезиологам, мое истинное, настоящее и вечное желание, которое не проходило и не пройдет, было ощутить мои руки внутри человеческого тела. «Конечно», – без раздумья ответил он и подвинулся, освобождая мне место, удобное для обзора. И тогда, в середине стальной рамы, державшей вскрытую грудь, словно открытую книгу, я внезапно увидел во всем его величии остановившееся сердце Лазара, и в то же мгновение боль от моей невероятной любви, противостоявшая застывшей любви этого сильного человека, пронзила мое собственное сердце.
XV
Слишком близко, совсем у края, стоит коричневая статуэтка на маленьком столике рядом с нашей кроватью. Можем ли мы обратить к ней наши жалобы? Что это, как не кусок неорганической материи, исторгнутый из природы, лишенный собственной воли и желания, безразличный к его старательно вылепленному изображению? Для маленькой глиняной руки, протянутой к нам, не только невозможно прикоснуться к нам – она не может даже вернуться на место. И, несмотря на нежную, таинственную улыбку Джоконды на ее лице, это угроза; угроза нам – сейчас, в глубине ночи, когда мы мечемся и вертимся в постели. Почему безмолвное это изображение смерти должно хоть чем-нибудь отличаться от очков, например, или бумажника, или даже ключей, лежащих рядом? И тем не менее рука в непроглядной ночи пытается нащупать только ее, чтобы обхватить стройную шею и сдавить ее в темноте, ~ в темноте, потому что при свете дня нас остановило бы выражение на ее раскрашенном лице и чувственный порыв ее тела, создающий обманчивое впечатление того, что этот кусок глины есть нечто одушевленное, обладающее плотью и душой. А потом, в темноте, до нас доносится звук падения, потому что нащупывавшая рука промахнулась, и мы выбираемся из постели и начинаем шарить по полу, нащупывая разлетевшиеся куски, и внезапная боль сдавливает нашу грудь и пронзает сердце, оповещая нас, что смерть пришла на самом деле – пришла к нам, а вовсе не к кусочкам глины, разлетевшимся, по полу.
* * *
А теперь, когда «космический улет» Лазара начался, ведомый тремя проворными смуглыми ассистентами, ответственными за подготовку шунтов, аппаратом, похожим на произведение искусства, соединенным множеством больших и малых пластиковых трубок, извивающихся по операционному столу и отсасывающих кровь из квадратной стальной емкости, питающей ретрактор, который открывает сердце, как открывают книгу, а затем захлопывает ее обратно, – после всего этого Накаш может оставить свой пост возле головы Лазара и выйти из операционной, чтобы подбодрить себя чашечкой кофе из своего персонального термоса, – я тоже не отказался бы от этого крепкого кофе, который его жена собственноручно готовит ему каждое утро. Но я не могу, подобно Накашу, взять и уйти, хотя доктор Ярден, наблюдающий за ходом анестезии абсолютно добросовестен в исполнении своих обязанностей, тем более что аппарат искусственной вентиляции легких отключен, сердце Лазара, так же как и его легкие, парализовано, а уровень очистки крови и насыщенности ее кислородом во время поступления ее в тело и мозг жестко регулируется указаниями ведущего хирурга, который держит все параметры под контролем, время от времени отдающим отрывистые команды. Трое ассистентов тут же повторяют их за ним, и вообще вся тройка действует как слаженный орудийный расчет, создавая уверенность, что ничего непоправимого произойти не может из-за какого-либо недопонимания в их команде. Кровь легко течет по трубкам, исключая опасность свертывания, благодаря гепарину, который нейтрализует естественный фактор свертывания, обеспечивая беспрепятственное движение, как при повышении ее температуры, так и при ее охлаждении. Старший из ассистентов рад объяснить мне все это; к крови он относится, как к некоему самостоятельному и независимому элементу природы. Когда доктор Ярден увидел, что Накаш не возвращается обратно в операционную, он вытащил из своего кармана пачку сигарет и предложил мне вплотную заняться анестезиологическим монитором, для чего нужен был не анестезиолог, а просто пара глаз, которая следила бы за поступлением фентанила и кураре, отвечавшими за расслабление мышц и обезболивание. Левин тоже покинул операционную, и возле операционного стола теперь осталось всего три врача – доктор Адлер, профессор Хишин и я. Я взял две скамеечки и водрузил их одну на другую так, что смог оказаться выше занавески, защищавшей голову Лазара, получив таким образом лучшую возможность с этой точки впрямую обозреть вшитые шунты. Эта операция была произведена доктором Адлером с помощью Хишина, игравшего двойную роль – внимательного ученика своего старого друга, который комментировал ему различные технические детали, и роль учителя для меня – великодушно делясь наиболее пикантными случаями клинических диагнозов или анатомических особенностей, с тем, чтобы утолить неуемный интерес, с каким я слушал его откровения, оправдывавшие мое здесь присутствие, причина которого была ему еще не вполне понятна, но и могла, с другой стороны, быть тем самым легитимирована.
Этой ночью, лежа в постели, перед тем как с головой уйти в подушку пытаясь уснуть, я прокрутил в памяти все шесть часов операции – обнаженные гениталии Лазара, его остановившееся в раскрытой груди сердце, выставленное на всеобщее обозрение, кровь, циркулирующая по множеству пересекающихся друг с другом трубок, замершие бронзовые колеса кардиопульмонологической машины, готовившей шунты, – и все другое, все, что произошло за эти шесть часов; теперь это казалось мне более гармоничным, осмысленным и слаженным, чем я себе представлял. Включая тот, самый драматический, надо полагать, момент, когда кровь была уже возвращена в тело и сердце должно было вернуться к своему обычному синусоидальному ритму… но не вернулось. Этот отказ заставил профессора Адлера прибегнуть к крайним мерам: взяв два электрода от дефибриллятора, он приладил их с двух сторон к неподвижному сердцу и дал несколько коротких электрических разрядов, чтобы заставить сердце заработать как надо. И большой экран монитора показал всю действенность этой меры – на мониторе появилась синусоида, а профессор Адлер перевел дух. Да, подумал я, Хишин и Левин были правы, пригласив из Иерусалима мастера своего дела, работавшего с такой профессиональной уверенностью, которая рассеяла все одолевавшие меня предчувствия и страхи, – об этом я мог признаться себе после того, как операция завершилась. И хотя после операции, длившейся шесть часов, он устал так, что не в силах был просто раздеться, попросив медсестру, чтобы она помогла ему освободиться от всей амуниции – маски, перчаток, головной лампы, стерильных колпака и халата, он не потерял интереса к происходящему и готов был с мудрой улыбкой опытного врача выслушивать соображения окружающих, с терпением человека, которому никогда не надоест копаться в человеческом теле.
Но Левин, который так и не избавился от враждебного ко мне отношения, вдруг ни с того ни с сего завел разговор об ошибках, совершаемых молодыми врачами, которые… Мне было ясно, куда и в кого он метит. Но ему не повезло: профессору Адлеру вовсе не улыбалась роль третейского судьи в чужом деле. Оборвав едва начавшуюся дискуссию, он пробормотал нечто успокаивающее относительно Лазара и его сердца и вышел вон, чтобы сообщить жене Лазара и другим членам его семьи, что операция прошла успешно.
* * *
Я не присоединился к эскорту, сопровождавшему погруженного в сон Лазара в отделение интенсивной терапии, в отведенную специально для него отдельную палату. Хишин, который был главой хирургического отделения, превратил свой кабинет в импровизированную спальню для жены Лазара, которая непременно здесь хотела провести эту ночь. Сейчас, когда операция была позади, и я увидел то, что хотел увидеть, и почувствовал то, что хотел почувствовать, я хотел остаться наедине с самим собой. Но поскольку время было уже за полночь и цены на международные разговоры шли по ночному тарифу, я решил позвонить Микаэле, чтобы окончательно уточнить все вопросы, связанные с возвращением Шиви, до которого оставалось два дня, а также рассказать ей, насколько гладко прошла операция Лазара и как блестяще провел ее этот волшебник из Иерусалима, и что я нисколько не жалею о том, что раньше времени улетел из Лондона, пусть даже выяснилось, что мое присутствие в операционной было никому не нужно. Но, несмотря на столь поздний час – в Лондоне было одиннадцать, – Микаэлу я дома не застал. Это показалось мне не только странным, но и встревожило меня – ведь она повсюду таскала за собою ребенка, а ночные автобусы Лондона – не лучшее место для этих целей.
После немалых усилий нам удалось продать машину одной из больничных медсестер, с тем чтобы оплатить наш перелет в Израиль. Это касалось Микаэлы и меня, ибо для Шиви возвращение было бесплатным – ее приняла на свой билет одна из двух славных англичанок, которые согласились позаботиться о ней на обратном пути. Когда я встретил их в аэропорту, оказалось, что Микаэла, не поставив меня в известность, обещала им, что они смогут остановиться у нас на квартире на первые несколько дней пребывания в Израиле. Я был в ярости. Лишь за несколько дней до того я наконец сумел избавиться от моего друга Амнона и его барахла, и вот теперь, пожалуйста, – новые гости. Ситуация тем более неприятная, что я все еще не пришел в себя после операции Лазара, со времени которой прошло никак не более сорока восьми часов. До сих пор у меня не было сил навестить Лазара в его отдельной палате, отведенной ему в отделении Хишина, поскольку я боялся, что Дори увидит, как все во мне кипит и бурлит.
Тем не менее выбора у меня не было. Раз Микаэла обещала… Словом, я вручил двум англичанкам свои ключи, написал на бумажке адрес на двух языках и попросил их быть в квартире поаккуратней, поскольку принадлежит она не мне. Я также посоветовал им не задерживаться в городе дольше, чем два дня.
– Вам совершенно незачем слоняться по Тель-Авиву, – сказал я с мрачным видом. – Грязный городишко. Отправляйтесь в пустыню. Садитесь на автобус до Эйлата – вот там и получите все, что Израиль может вам предложить.
Я посадил Шиви в специальное креслице, которое я загодя принес и закрепил в отцовском автомобиле так, что она сидела со мною рядом, но спиной к движению, и покатил в Иерусалим, чтобы на семь дней оставить ее с моей матерью, взявшей – авансом – недельный отпуск в счет будущего года, поскольку все, что ей полагалось, она уже израсходовала на свою поездку в Англию. На пути в Иерусалим Шиви внимательно поглядывала на меня, словно желая вспомнить, кто я. Она была слишком мала, чтобы запомнить меня по Англии, особенно после двухнедельного перерыва, но тем не менее она и не должна была забыть меня совсем. И вот здесь, на границе между воспоминанием и забывчивостью, она поглядывала на меня с каким-то подозрением, но так прелестно, что я не мог удержаться, чтобы, нагнувшись, не поцеловать ее, воспользовавшись минутной пробкой. А потом начал разговаривать с нею, делясь моими планами на будущее и даже издавая какие-то звуки, которые мне хотелось считать пением, – а пел я давно забытые мною самим старинные песни, которые, как я полагал, должны были ее развлечь, а мне – поднять настроение. Потому что с момента операции, перенесенной Лазаром, я чувствовал себя так, как если бы шунты, вшитые ему, были каким-то образом имплантированы и мне самому, так что время от времени я чувствовал в груди острую боль, словно это я был вскрыт электрической пилой.
Но когда я наконец добрался до родительского дома в Иерусалиме, я тут же перестал копаться в своих переживаниях, чтобы целиком сосредоточиться на их проблемах. При всем том, что они были очень рады увидеть свою внучку снова, они равным образом очень беспокоились, смогут ли они должным образом ухаживать за ней на протяжении целой недели, – это особенно относилось к моей матери, обычно очень спокойной и собранной в любой ситуации. Было совершенно ясно, что она полна скрытого негодования в отношении Микаэлы; более того, она подозревала, что, несмотря на все обещания, та не вернется в Израиль. В этом пункте я ее успокоил: что бы там ни было, но Микаэла – пока что – всегда выполняла обещанное, пусть даже обещание вернуться в Израиль было дано против ее воли и под прямым моим давлением, – не исключено, что здесь сыграло свою роль мое согласие оставить ее на собственное усмотрение в Лондоне еще на две недели. Она нуждалась в подтверждении ее прав на свободу и независимость. Так вот – она получила их.
После того как я устроил Шиви в кроватку, которую мой отец заблаговременно одолжил у своего молодого коллеги по работе, и дав родителям исчерпывающие инструкции по питанию и купанию девочки, я рассказал им об успешной операции, перенесенной Лазаром, и о моих собственных перспективах, связанных с работой в больнице. И рухнул в кровать, едва добравшись до подушки; то, что мне приснилось, заставило меня встать еще до рассвета, шепотом попрощаться со всеми и пуститься обратно в Тель-Авив, чтобы начать свой первый рабочий день в больнице в качестве постоянного, пусть даже на полставки, члена медицинского персонала.
Поскольку ключи я отдал англичанкам, мне пришлось долго топтаться у входной двери и звонить, пока одна из них, в коротеньких шортиках и кофточке, едва прикрывавшей грудь, не проснулась и не впустила меня в квартиру. Разумеется, они перепутали мои инструкции и расстелили свои спальные мешки в спальне вместо гостиной, но за исключением этого ничего страшного я не обнаружил – кухня была прибрана и опрятна. Тем не менее я снова попытался соблазнить их красотами пустыни, то есть тем, чего ни за какие деньги они не смогли бы получить в Англии. При ближайшем рассмотрении они выглядели не так молодо, как во время нашей встречи в аэропорту. Они были, пожалуй, моего возраста и костлявым своим сложением и атлетичностью форм напоминали Микаэлу, чье подавленное настроение через две недели мне нетрудно было представить себе.
Я поехал в больницу, и, поскольку мне не было еще отведено место для персональной парковки, мне пришлось отгонять машину на дальнюю улицу и возвращаться пешком. Официально осень уже вступила в свои права, но утренний свет был еще ярок, и я вынужден был надеть свои солнечные очки, чтобы для моих глаз перемена Англии на Израиль прошла как можно более безболезненно. Прежде всего я направил свои шаги в отделение анестезиологии познакомиться с начальством, которое оказалось энергичной женщиной средних лет с острым, хорошо подвешенным языком, – неделю назад Лазар уже уведомил ее о моем назначении, и она готова была меня принять, несмотря на то, что официальное подтверждение еще не поступило, отведя мне место в операционной – но в ночные смены. «Странно, – подумалось мне, – странно, что и здесь, как и в Лондоне, мне надо начинать с ночных дежурств». Но я принял ее предложение – не только потому, что хотел свести к минимуму свои контакты с англичанками, но и потому, что это позволяло мне держать Лазара в поле зрения и – кто знает – может быть, разделить его одиночество.
В кафетерии я столкнулся с Накашем и спросил его о состоянии дел у Лазара. Его выздоровление протекало нормально. Его уже отсоединили от всех приборов жизнеобеспечения и перевели на девятый этаж, в личные апартаменты Левина, где последний также имел возможность принимать участие в лечении. Не позднее трех-четырех дней Лазар мог возвращаться домой. «Ну вот, – сказал я сам себе, – ну вот – чего же ты так всполошился?» Но тем не менее я воздержался от визита к нему, зная, что палата сейчас переполнена посетителями – как сотрудниками больницы, так и обычными визитерами. Поэтому я отменил свой визит до вечера, точнее, до начала моей ночной смены.
И я вернулся к себе на квартиру, тайно надеясь, что две мои гостьи уже убрались. Если бы! Мне показалось, что они только-только протерли глаза и, накинув банные халаты поверх своих ночных рубашек, они попросили меня указать им кратчайший путь к пляжу, пригласив составить им компанию. Я уже было отказался, но внезапно сказал себе самому: «В чем дело, Бенци? А почему бы и нет? Может быть это именно то, что и требуется – с головой уйти в глубину моря? Может быть так избавлюсь я от тоски, что все это время так угнетала мое сердце?» И я начал искать свои плавки, которые не надевал уже много лет и которые, судя по изумленным взглядам британских девиц, вышли из моды давным-давно. Мне было странно самому, взглянув со стороны, увидеть себя спускающегося запруженными тель-авивскими улицами в середине рабочего дня в шортах, летней рубашке, словно я был еще тинэйджером, в компании этих двух странноватых девиц, которые, кроме всего прочего, оказались кузинами, любящими путешествовать по миру вдвоем.
– А в Индии вы когда-нибудь были? – поинтересовался я.
Нет, в Индии они еще не были. Я тут же стал уговаривать их сделать это. Да, где бы они ни были, они слышали, как это необычно и прекрасно. (Слышали они, скорее всего, нечто подобное от Микаэлы). Как бы то ни было, они готовы были, при случае, составить нам компанию и взять на себя заботы о нашей маленькой Шиви.
И тут мы вошли в море. Оно было тихим, ласковым и совершенно спокойным, словно не знало, что такое волны. На мгновение запах, исходивший от него, напомнил мне запах околоплодных вод в лондонской квартире, но это не остановило меня, и я кинулся в зеленоватую гладь, сопровождаемый одной из длинноногих англичанок в фейерверке брызг. И мне сразу полегчало, снимая с души груз, висевший на мне со времени операции Лазара. После того как мы накупались и обсохли, я пригласил девушек полакомиться воздушной кукурузой, продававшейся на пляже в лавочке.
Но кого мы обнаружили у кромки моря? Да Амнона, перебрасывавшегося мячиком с неким, интеллигентного вида, юношей.
– Ну, теперь мне понятно, почему твоя диссертация не идет, – не удержался я – и тут же пожалел об этом, потому что Амнон вдруг густо покраснел. Но, похоже, он на меня не рассердился, поскольку тут же проявил неподдельный интерес к обеим атлетически сложенным девушкам.
– Ах, – ответил он не без язвительности, – теперь мне ясно, почему ты так спешил выставить меня из квартиры. – И наклонившись к моему уху, спросил: – Спишь с обеими?
У меня не было ни времени, ни желания вносить ясность в этот вопрос и объяснять ему, что они в буквальном смысле свалились на меня с неба. Но я чувствовал, что Амнон в глубине души еще обижен на меня, и в виде жеста доброй воли предложил вернуться к нам домой вместе. Было четыре часа дня, и Амнон вместе с девушками, не снявшими даже мокрые купальники, принялись готовить еду.
– Мне очень неудобно, но не позднее завтрашнего дня вам придется уехать, – снова предупредил я девушек, на этот раз не сказав ни слова о пустыне. – Потому что мне надо быть в Иерусалиме и забрать ребенка, а ему нужны тишина и покой. – Последнюю фразу я добавил, чтобы логически обосновать мое требование о депортации.
Амнон был на высоте и в ту же минуту пригласил англичанок перебраться к нему, каковое предложение кузины приняли с энтузиазмом, почему-то задевшим меня. Они были не похожи на двух шлюшек, но не исключено, что благодаря своему кровному родству, считали для себя приемлемым пускаться вот в такие сомнительные авантюры, на которые обыкновенные подружки вряд ли согласились бы. Они не были хорошенькими, несмотря на свое атлетическое телосложение и пристойный внешний вид. Каждая сама по себе не отличалась привлекательностью даже для человека вроде меня, такого, который вот уже две недели не спал со своей женой, тем не менее мысль, возникшая неожиданно и заключавшаяся в том, что, быть может, через час или два Амнон окажется с обеими девицами в постели, настолько воспламенила меня (хотя подобные перспективы не прельщали меня никогда), что я готов был оставить этих мускулистых кузин у себя. Но достались они Амнону.
Я же дозвонился до родителей, желая узнать, как они справляются с Шиви. Все шло там гладко – разве что отцу приходилось отпрашиваться с работы чуть раньше, чтобы помочь матери, чей голос, несмотря на все ее успокаивающие заверения, выдавал некую напряженность. Ей было тяжело. Я уже успел заметить, что после свирепой простуды, которую она подхватила в Шотландии, она выглядела болезненно, и я дал себе слово, что как только Лазар пойдет на поправку, а Микаэла вернется в Израиль, я на день или два отправлюсь в Иерусалим проследить за ее здоровьем. В любом случае, мои родители не скрывали своего глубокого удовлетворения от общения со своей внучкой, которая уже успела порадовать их парой забавных трюков. Так что после этого разговора я распрощался с Амноном и англичанками, приканчивавшими приготовленный ими же самими ужин, и отбыл в больницу. Было шесть вечера. Прежде всего я отправился в отделение интенсивной терапии и отметил мой приход. Я взял свой бипер, а затем отправился на девятый этаж в терапевтическое отделение, чтобы увидеть Лазара. Найти его местонахождение было совсем не трудно. В конце коридора толкалось несколько врачей и членов административного персонала, которые, по всей очевидности, не могли дождаться своей очереди посетить директора больницы, а россыпь радостного смеха, доносившегося до меня, сказала, что там же находится и Дори. И, не дойдя до конца, я повернул обратно, не желая стать частью этой толпы. Я вернулся на это место спустя два часа.
Теперь здесь царила тишина. Дори сидела на стуле, выставленном в коридор. Ее сын сидел рядом; с другого бока сидела ее мать.
* * *
Поздоровавшись с ними, я спросил, как себя чувствует больной. Дори покраснела так, как если бы и она была в меня влюблена: на мгновение она словно онемела. Зато бабушка, которая, похоже, была рада меня видеть, сразу ответила, что ее зять чувствует себя хорошо, и профессор Хишин, делавший этим утром ему перевязку, был очень доволен тем, как идет процесс выздоровления. Дори тем временем овладела собой и, приветливо улыбаясь, познакомила со мной своего сына. Он равнодушно кивнул; похоже было, что он смертельно устал от подобных процедур, следовавших одна за другой в потоке посетителей, совершавших восхождение на девятый этаж. Я напомнил ему, что однажды мы уже встречались с ним, – два года тому назад, когда я приходил к ним домой в первый же вечер, посвященный предстоящему путешествию в Индию. Он испытующе посмотрел на меня. «Да, да, – повторила его мать, – это и есть тот самый доктор Рубин».
Похоже, что они находились снаружи, в коридоре, потому что в эту минуту уже профессор Левин обследовал пациента и делал ему перевязку. И хотя я не сомневался, что мое появление разозлит Левина, я не мог упустить возможности взглянуть на человека, которому на моих глазах вскрыли грудную клетку. А потому, постучав, я открыл дверь и вошел в палату. Профессор Левин, который в данную минуту был занят тем, что наносил йод на длинный шов, змеившийся по груди Лазара, злобно уставился на меня, едва я успел переступить порог палаты, поразившей меня своими размерами и дивным видом, открывавшимся из окна, а также множеством цветов, стоявших повсюду. Сердечность, с которой Лазар приветствовал меня, помешала Левину тут же выставить меня вон. А Лазар издал свой обычный вопль:
– Куда вы, к черту, запропастились, доктор Рубин?! – кричал он точно так же, как и в тот, самый первый раз в Индии, на железнодорожной станции в Нью-Дели, – хотя на самом-то деле исчезли они, а не я. И сейчас я ответил с такой же, как тогда, улыбкой:
– Вот он, я. – И добавил: – И был здесь все это время.
Я поинтересовался его самочувствием, и он немедленно ответил, что чувствует себя просто замечательно; звучало это так, как если бы он хотел поблагодарить меня в ряду других врачей, принимавших участие в его операции, в которой, как он полагал, я сыграл отведенную мне роль. Левин закончил смазывать швы специальным составом отвыкшими от подобной работы руками заведующего отделением. А я стал разглядывать медицинские карточки пациента, собранные вместе в папке, висевшей на спинке кровати, вглядываясь в показания температуры, кровяного давления, характеристик ЭКГ и в результаты анализов мочи и крови за последние несколько дней. Может быть, тот факт, что я принимал участие в операции, позволил мне обратить внимание Левина на слишком большую беспорядочность, прослеживаемую ясно на множестве полосок ЭКГ, которые показывали на преждевременные вентрикулярные удары, иногда двойные или даже тройные, происхождение которых мне было неясно.
– Нет ли здесь опасности возникновения вентрикулярной тахикардии? – спросил я.
Поначалу Левин пытался игнорировать мои расспросы, но поскольку я упорно повторял их, он грубо рявкнул:
– Да, доктор Рубин. Мы тоже заметили это. Глаза у нас пока еще на месте, да не покажется вам это странным, и мы в состоянии прийти к собственным заключениям. И мы совершенно не нуждаемся в том, чтобы каждый врач в этой больнице совал свой нос в наши дела, даже если речь идет о директоре. Я не сомневаюсь, что вам есть еще чем занять себя. Так почему бы вам не заняться своим делом, поручив нам заботы о мистере Лазаре?
Хороший совет. Но последовать ему я не мог. Я знал, что не успокоюсь, пока не найду ответа, и четырьмя часами позже, уже ночью, снова поднимался по лестнице на девятый этаж, где нигде, кроме как в дежурке для медсестер, не было света. Мой врачебный халат позволил мне пройти все посты беспрепятственно. Дойдя до закрытой двери, ведущей в палату, где лежал Лазар, я остановился и прислушался. Но все, что я мог услышать, был звук работающего телевизора. Не решаясь войти без разрешения, я тихонько постучал. Ответа не последовало, что лишь усилило мою тревогу, и я открыл дверь.
Помимо лунного света, заливающего палату через большое окно, и отблеска телеэкрана палату ничто не освещало. Дори, поджав под себя ноги, сидела в кресле и спала, держа в одной руке очки, а другой держась за руку Лазара, который, в свою очередь, полулежал, уставившись маленькими своими глазками на телевизионный экран, свисавший с потолка. Начиная с первых дней нашего путешествия по Индии, я не ощущал, насколько эти люди близки друг другу, – после целого дня, проведенного рядом, она не в силах была оставить его хоть ненадолго. Внезапно я ощутил стыд; стыд за то, каким образомя предал его. И мне захотелось дать самому себе клятву – никогда более даже не прикасаться к ней – пусть даже она сама меня об этом попросит. Если это и в самом деле была невозможнаялюбовь, что ж – пускай тогда все связанное с нею тоже будет невозможным. И нереальным.