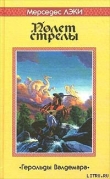Текст книги "Возвращение из Индии"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Часть вторая
ЖЕНИТЬБА
VI
Лазар получил специальное разрешение, подкрепленное медицинским заключением, которое позволяло ему встретить нас в зале для прибытия немедленно после прохождения паспортного контроля. Еще до того, как его увидели дочь и жена, я заметил его коренастую широкоплечую фигуру в мокром дождевике; он стоял возле охранника в конце ограждения, тревожно разглядывая прибывающую с разных рейсов публику, – похоже, он и в самом деле испытывал сомнения в том, сумеем ли мы добраться домой без его помощи. Рядом с ним, промокший насквозь и длинноволосый, с рассеянным выражением на лице, стоял его сын, которого жена Лазара поспешила прижать к груди, как если бы это был больной ребенок, которого нужно отвести домой. Но Лазар не собирался позволять кому бы то ни было тратить время на объятия и поцелуи. Он вручил своему сыну большой черный зонт и поручил ему позаботиться о сестре, укутанной в плащ, и отвести ее прямо в машину, пока сам он, захватив свободную тележку, начал укладывать на нее багаж.
– Подождите, – успевал вещать он при этом, – подождите… Когда окажетесь снаружи, запр оситесь обратно в Индию.
– Нужно ли было на самом деле так торопиться с возвращением? – спросила его жена, в голосе которой я различил следы еще не изжитого до конца гнева на мужа, посмевшего оставить ее на целых двадцать четыре часа.
– Не только нужно, но и необходимо, – отвечал он с торжествующей улыбкой, а когда встретился с моим мрачным взглядом, весело воскликнул: – Да вы не беспокойтесь, ваши родители тоже здесь. Они ожидают вас снаружи.
– Мои родители? – я был поражен. – С какой стати?
Лазар был захвачен врасплох.
– С какой стати? Я не знаю. Я полагал, что вы не должны добираться до дома под дождем… так мне казалось. Моя секретарша дозвонилась до них утром, и они обещали приехать и забрать вас в Иерусалим.
Но я не хотел сейчас отправляться в Иерусалим, несмотря на то, что там я оставил свою «хонду»; я хотел остаться в Тель-Авиве и объявиться в больнице как можно раньше.
Лазар сдержал свое слово – все путешествие заняло ровно две недели, и здесь, рядом с багажным конвейером, вхолостую уже вращающимся вокруг своей оси, продолжительность нашего отсутствия предстала передо мною в своих истинных пропорциях. Поэтому я испугался, что во время, пока нас не было, мое плачевное положение только ухудшилось.
– Удалось ли вам рассказать Хишину о том, что с нами случилось? – спросил я, страшно желая узнать, что именно сказал Хишин по поводу проведенного мною переливания крови в Варанаси.
– Нет, – сказал Лазар, обнимая жену за плечи, как если бы пытался утихомирить ее. – Хишина нет в стране; несколько дней тому назад он отправился в Париж. Вот почему сейчас он не с нами. Он посвятил меня в детали. Ничего, ничего… и без него мы управились неплохо. – И он самодовольно улыбнулся нам, как бы распределяя поровну между всеми тремя врачебную ответственность.
Выглядел он при этом весьма бодро. Встреча с группой пожертвователей была успешной. Я заметил, что под плащом на нем был костюм и галстук. Его жена заметно подобрела к нему, о вчерашней размолвке внезапно все забыли. Я смотрел на нее и вдруг понял, что краснею. Она выглядела усталой, но счастливой оттого, что вернулась домой. Влюбился ли я в нее немного на самом деле, не без удивления вопрошал я сам себя, или все это было не более, чем странная галлюцинация?
Но на все эти размышления времени не было, потому что снова стал прибывать багаж и вскоре подоспела минута прощания; мой чемодан, который путешествовал по транспортерной ленте в гордом одиночестве, проплыл и был через мгновение у моих ног, а раз так, Лазар не видел никаких оснований задерживать меня.
– Вам предстоит вести машину до Иерусалима, – сказал он, – и двигайте потихоньку прямо сейчас. – Произнесено это было с присущей ему безаппеляционностью.
Но пока я стоял, соображая, как же наилучшим образом попрощаться с ними, он вспомнил что-то и схватился за ручку моего чемодана.
– Минутку, минутку, разрешите мне освободить вас от коробки с обувью, которую мы к вам затолкали…
К моему удивлению, Дори попыталась остановить мужа.
– Это совсем не важно… Ничего с этой коробкой не случится. Не заставляй его беспокоиться о всякой чепухе… Родители Бенци ведь ждут его.
Но Лазар действительно не мог понять, почему я должен тащить обувь его жены в Иерусалим и обратно.
– На это мне нужно не более минуты, – сказал он и помог мне расстегнуть ремни на чемодане. Не ожидая помощи с моей стороны, он запустил руки внутрь с деликатностью хирурга, делающего полостную операцию, и вытащил из чемодана картонную коробку, которую в течение всего путешествия я даже не вынимал. Он сказал:
– Ну вот… Ничего страшного… – и улыбнулся на прощанье.
– Значит, увидимся завтра утром в больнице, – сказал я, стараясь закрепить тонкую нить, связывавшую нас.
– В больнице? – в голосе Лазара было недоумение, как если бы больница не являлась тем самым местом, где мы оба работали. Но затем до него дошло, и он тут же поправился, сказав: – О, да. Конечно, конечно.
– Тогда, значит, я больше не увижу его? – спросила его жена, разглядывая меня с удивлением, но без признаков грусти. Локоны длинных волос упали ей на лицо и шею, макияж стерся за время полета, и под слепящим неоновым светом снова проступили морщинки. Она явно не знала, как попрощаться со мной, и сладкая волна боли затрепетала во мне.
– Фотографии, – с трудом выдавил я из себя, заикаясь; лицо мое горело. – Фотографии, которые я тогда делал… Они до сих пор еще в моем фотоаппарате. Когда снимки будут готовы, я их принесу.
Лазар и его жена вспомнили, о чем речь, и радостно воскликнули:
– О, да! Наши фотографии!
– Да, – обещал я. – Может быть, я скоро окажусь неподалеку от вас, потому что я должен заботиться о нашей больной до полного выздоровления и быть в курсе ее дел.
И, вероятно, потому, что я обещал встретиться с ними вскоре, мы расстались небрежно, как время от времени мы расставались в Индии – без рукопожатия и объятий. И я отказался от решения этой загадки – уловила ли Дори ту вспышку абсурдной ночной фантазии, называемой влюбленностью, которая, без сомнения, исчезнет, как только я пройду сквозь таможню и исчезну в ночи, где сумасшедший дождь с градом объединит людей в преданности прибывающим в плотную толпу под ограниченной защитой скудного убежища – козырька над входом; толпу, которая демонстрировала традиционный израильский энтузиазм, раскрывающий объятия любому гражданину государства, как если бы сам факт его временного отсутствия гарантировал вернувшемуся теплый прием на пути домой. Таково же точно было и отношение моих родителей, которые ожидали меня в двух точках выхода прибывших пассажиров, с тем чтобы не разминуться со мной. Мать заметила меня первой, и мы, испытывая некоторую тревогу, должны были отправиться на поиски отца, который тихо стоял под зонтиком в моросящем дожде, после того, как со свойственным ему джентльменством уступил свое место под козырьком двум пожилым дамам, которые впали в отчаяние, потеряв всякую надежду укрыться от дождя.
– Ты хорошо выглядишь, – сказала мать, когда мы под предводительством отца шествовали к автомобильной стоянке, пытаясь укрыться от дождевых струй под его маленьким зонтиком. – Похудел, но выглядишь счастливым. Похоже, что ты не разочаровался в нашей Индии.
Моя мать очень боится, когда кто-нибудь разочаровывается или теряет иллюзии; применительно ко мне она боится того состояния опустошенности, которое, по ее наблюдению, характерно для современной молодежи. Следовательно, как человек, благословивший меня на поездку с Лазарами в Индию, которую она называла «нашей» в память о своем дяде, она сгорала от любопытства. И хотя, по сути дела, мне нечего было ей ответить, она чувствовала, что вернулся я удовлетворенным. Если бы не дождь, заставлявший нас аккуратно перешагивать через лужи и потоки мутной воды, она вполне могла бы почувствовать, что мое состояние имеет какое-то отношение к Дори, поскольку боль от расставания, нарастая, уже начала пульсировать во мне.
Моя мать полагала, что я поведу машину, поскольку погода и не думала улучшаться, но отец не собирался никому уступать свое место за рулем.
– Все будет хорошо, – заверил он ее. – Я знаю дорогу, она гладкая, как стол.
И мать распорядилась, чтобы я сидел рядом с ним, контролируя его вождение, которое ей всегда не нравилось.
Отец снял пальто, протер очки и, как всегда, слишком перегрел двигатель. На меня он даже не взглянул. И лишь после того, как он аккуратно и бережно вывел машину со стоянки под сильнейшими порывами дождя и ветра и вывернул на основную дорогу, он повернулся ко мне и сказал с оттенком торжества:
– Итак, это был успех.
– Успех? – пораженно спросил я. – В каком смысле?
– В том смысле, что ты доказал, чего стоишь, – ответил отец в присущем ему рассудительном тоне. – Секретарша Лазара сказала, что ты провел непростую медицинскую процедуру, которая и спасла в последнюю минуту всю ситуацию.
Я быстро повернул голову и посмотрел на мать, которая устроилась на заднем сиденье. Она не казалась обрадованной, что отец преждевременно проболтался о моих подвигах, если можно так сказать. Тем не менее, я почувствовал себя совершенно счастливым. Сумел ли Лазар сказать кому-нибудь из профессоров о моем броске в Калькутту для проведения необходимых тестов и о переливании крови в Варанаси, и облетела ли эта новость административный состав больницы? Или секретарша сообщила нечто совершенно невинное, что услышала от Лазара, и, полная доброжелательства, решила, позвонив, обрадовать моих родителей, не слишком понимая суть произошедшего, незадолго до прибытия самолета? Все это я смогу узнать не ранее завтрашнего дня. А пока что… А пока что рядом со мною был отец, который жаждал узнать все в деталях и в правильном свете и уже давил на меня, с тем чтобы я описал ему врачебную часть путешествия с практической и теоретической точки зрения. И он буквально упивался моими разъяснениями, ибо относился к той категории людей, которые в любой ситуации стараются вынести для себя что-нибудь новое; вот почему он был так скуп на разговоры и так глубок и внимателен в качестве слушателя. Сейчас, слушая меня, он сидел прямо, чуть откинувшись назад, и был похож на задумавшегося судью, но мысли его, я видел это, были отданы самому движению вообще и нашему автомобилю в частности – его «дворникам», фарам, ветровому стеклу и самой дороге, в их противоборстве со свирепой непогодой, грозившей смести нас с дороги; но одновременно с этим он жаждал услышать из моих уст полный отчет о моем участии в спасении Лазаров. Он боялся, что сдержанность, которую он всегда проявлял в отношении меня, и которую, к его сожалению, он передал по наследству мне, заставила меня приуменьшать важность того, что я сделал. Более того, он до сих пор не мог спокойно пережить тот факт, что второй стажер у Хишина получил-таки долгожданную должность, о которой мы все так мечтали. Моя мать слушала молча. Время от времени она задавала короткие вопросы, сводившиеся в конечном итоге к тому, что я проявляю мало энтузиазма, рассказывая об Эйнат, насчет которой она, похоже, имела тайные планы. Она пыталась в моих рассказах расслышать то, что я всячески пытался скрыть. И в конце концов она выпалила:
– Ты все время твердишь: «Жена Лазара, жена Лазара». Но имя-то у нее есть?
– Дорит. Но муж зовет ее Дори, – ответил я, и сладкая боль сдавила мне грудь.
– А как зовешь ее ты? – упрямо продолжала допытываться мать.
– Я? – отозвался я, мгновенно догадавшись, почему она была так настойчива, хотя при этом не забывала всматриваться в дорогу, которая едва была видна в потоках ливня.
– И что она за женщина? – продолжала гнуть свое моя мать.
Я ответил не раздумывая:
– Она… избалованная женщина. Для начала она устроила форменный скандал из-за гостиницы… – И здесь, в изнеможении, я закрыл глаза и увидел маленькую полную женщину, идущую по аллее в Варанаси, ступая аккуратно прямо в грязь и бездумно улыбаясь толпам индийцев, обтекающих ее. И снова меня поразила и обняла мягкая и теплая волна.
Но в этот самый момент мне открылось и другое: я должен быть очень осторожен, вступая в разговоры с матерью, потому что время от времени ей вполне удавалось заглянуть в мою душу с поразительной проницательностью; она, несомненно, могла почувствовать что-то странное, с чем я вернулся из путешествия, и было только естественно, что это ощущение оскорбляло, огорчало ее и поднимало в ее душе желание подавить это нечто, эту смешную вспыхнувшую страсть, пресечь и вырвать с корнем. Если только подобное выражение было применимо к женщине, завладевшей моими мыслями, в которых (я отдавал себе в этом полный отчет) то здесь, то там, возникало слово «вожделение» или даже «похоть». Вот о чем я непрестанно думал, удобно устроившись рядом с отцом, в то время как мы двигались сквозь ночь из Лода в Иерусалим. Я смотрел на дорогу, поднимавшуюся среди холмов, свободных от дождя и тумана, уступив место снежным хлопьям. «Это просто стыд», – сказал я сам себе. Это просто стыд, если мать будет мучаться хотя бы мгновение оттого, что было всего лишь бредом, абсурдом, и чего не могло быть по самой сути. Лучше всего было бы просто не говорить больше о моей поездке в Индию, чтобы исключить намеки, которые задевали каким-то образом всех нас. Поэтому я предложил отцу, который выглядел немного обиженным, что я займу его место за рулем, поскольку снежинки, падавшие поначалу легко и плавно, постепенно превратились в снегопад, неподалеку от Шаар-Хагай достигший такой силы, что превратил нашу поездку в опасную авантюру. И когда мы въехали в Иерусалим, нам стало ясно, что ближайший день или два мне придется провести в Иерусалиме, поскольку родители, которые свято верили в мое мастерство водителя, тем не менее были категорически против того, чтобы я возвращался в Тель-Авив на своем мотоцикле по заснеженному шоссе. Я возражал, но неуверенно; усталость одолевала меня, и восхищение закончившимся путешествием не помогало эту усталость преодолеть. А потом я согласился занять старую комнату в квартире родителей, где я спал в детстве, и расслабиться, поскольку в этом случае мне не нужно было беспокоиться о еде и питье, даже если моя мать никогда не отличалась пристрастием к кулинарии; расслабиться и раствориться в призрачном присутствии чего-то неистребимо британского в этом доме, в чем-то таком, что если даже я лежал недвижим в кровати, я оказывался участником старинного черно-белого кинофильма из жизни семьи, фильма, полного старомодных, добротных и надежных ценностей, которые с самого начала гарантировали счастливый конец. Вот так, укрывшись в доме, окруженный снежным покрывалом, я пытался остудить или даже убить ту неистовую страсть, которую внезапно вызвала во мне улыбающаяся круглолицая жена Лазара, и я пытался остановить свои мысли о ней, заслонившись в этой комнате воспоминаниями об отрочестве и юности, чтобы образ этой женщины исчез, утонул в темных глубинах, влекомых вниз тяжестью ее возраста.
* * *
Но она, улыбающаяся, средних лет, эта женщина отказывалась тонуть, соединившись вместо этого с семейной мебелью и шторами комнаты, в которую меня поместили, когда мне было два года, – именно тогда мои родители перебрались в Иерусалим из Тель-Авива в связи с приглашением отца на государственную службу. Таким образом я сбежал в сон, заботясь лишь о том, как бы не потерять следы моего вожделения на безупречных простынях, постеленных матерью, которая вместе с отцом, не могла прийти в себя от поразившей меня внезапно необоримой сонливости. В течение предыдущей жизни они привыкли видеть перед собой серьезного студента, жгущего до полуночи масляную лампу, трудяги, вскакивавшего с постели спозаранку, а в более поздние времена – врача по вызову, способного работать без сна в напряженном ритме двадцать четыре часа подряд.
– Ты возвращаешь нас снова к временам, так сказать, босоногого детства, – сказала мне мать слегка встревоженным тоном, когда я вошел в старую полутемную кухню поздним вечером, после того как проспал весь световой день и испытывая угрызения совести от навязчивого желания увидеть снова яркие краски индийских святилищ.
– Это из-за снега, – по-английски пояснил мой отец. – Наркотический эффект. – И он поднялся, уступая мне мое старое место за столом, которое он занял сам, когда я уехал из дома.
– Нет, нет… пожалуйста… сиди там, – пытался я отказаться, но он настаивал:
– Это твое место. Садись.
Я сел, и мать тут же поставила передо мной чашку чая и кусок хлебного пирога, на который я тут же положил толстый слой джема, чтобы отбить запах плесени, который ненавидел со времени своего детства.
– Пока ты спал, отец сходил в город и напечатал фотографии, которые ты сделал в Индии, – сказала мать несколько напряженным голосом и не без смущения и протянула мне два конверта, набитых фотоснимками.
– Мои фотографии? – вырвалось у меня громче, чем я хотел, и я повернулся к отцу, не веря, чтобы этот молчаливый и безупречных правил человек мог, по собственной инициативе, прокрасться в мою комнату и взять две катушки пленки, лежавшие рядом с кроватью, на которой я спал. Но оказалось, что инициатива принадлежала матери, – она заглянула в комнату проверить, хорошо ли я укрыт, и заметила две катушки пленки, после чего послала отца отдать их в проявку и печать в мастерскую, расположенную в центре города. Она хотела узнать как можно больше о путешествии в Индию, поскольку из-за усталости я так и не успел ей всего рассказать. «Похоже, она почувствовала: что-то случилось со мною там, – думал я, избегая встретиться с нею взглядом, – но даже ее прирожденная проницательность не помогла бы ей представить, что же произошло на самом деле».
– А ты не хочешь посмотреть, как получились твои снимки?
Я крепко держал в руках конверты.
– Но они же не все мои, – быстро отозвался я. – Часть принадлежит Лазарам. Я дал им свой аппарат, когда они отправились посмотреть Тадж-Махал.
Родители были удивлены, услышав что Лазары вдвоем отправились в Агру, оставив меня опекать их больную дочь; и даже после того, как я разъяснил им, что это была моя идея послать их туда, они осудили Лазаров за то, что они приняли мое предложение, хотя и не скрывали гордости моим великодушием.
– Ну ладно… но почему ты не показал их нам и не рассказал о них все, – сказала мать, протягивая подрагивающие от нетерпения руки к конвертам.
– Это верно, – сказал я. – Но я был уверен, что вы их уже разглядели как следует.
И снова я ощутил приступ паники при мысли о том, что изображение ее может сейчас появиться здесь, на родительской кухне, такой убогой. А потому я встал, взял свою чашку и тарелку, отнеся их в мойку, а затем отправился в ванную, чтобы сполоснуть лицо и еще раз почистить зубы, а когда вернулся, кухня была залита светом, а стол был покрыт красочными яркими снимками Индии, и даже на расстоянии я увидел ее фигуру, которая сверхъестественным образом ухитрилась оказаться на большинстве снимков – чаще, чем я мог себе вообразить; она была почти на всех, а не только на тех, что были сделаны Лазаром возле Тадж-Махала. Была ли ее врожденная безмятежность и автоматическая улыбка тем, присущим только ей, качеством которое позволяло ей выглядеть так фотогенично и естественно на любом снимке, несмотря на ее избыточную полноту, где бы она ни была – в окружении ли оборванных индийцев или сидящей на плетеном стуле в сумерках на фоне тайского монастыря в Бодхгае? Отец разложил снимки один за другим и, рассматривая их внимательно, требовал подробных разъяснений, зато мать сидела молча, и только щеки ее бледнели все больше и больше.
– Ей, конечно, нравилось позировать, – в конце концов произнесла она, и в голосе ее было нескрываемое недовольство.
– Кому? – невинно спросил я. – Кого ты имеешь в виду?
– Жену Лазара… так ты, кажется, называешь ее… – При этом мать сидела, не поднимая головы, как если бы она боялась встретиться со мной глазами.
– Это все ее муж. Это Лазар. Это ему я одолжил свою камеру, – сказал я, оправдываясь. Голос мой прервался от волны восхищения, вновь захлестнувшей меня при одном взгляде на женщину, выступавшую из блестящих и ярких квадратов, разбросанных на сером кухонном столе.
К вечеру снегопад усилился, но я вышел из дому, чтобы навестить Эйаля, друга детства, с которым я учился вместе и который теперь работал в «скорой помощи» по вызову в больнице «Хадасса», где надеялся получить постоянное место в отделении педиатрии – после того, как его услуги отвергло отделение хирургии.
Мы уселись в маленькой комнатке, где стены были украшены фотографиями больных детей – сами эти дети гурьбой носились по коридору, вверх и вниз, под неусыпным наблюдением взволнованных родителей. Мы прихлебывали тепловатый чай из пластиковых стаканчиков и, как это было всякий раз, сравнивали условия работы в наших респектабельных больницах, прежде чем затрагивать какие-нибудь другие темы. Затем он спросил меня о путешествии в Индию, о котором он уже слышал от моей матери, и взгляд его остановился на моем лице в ожидании ответа. В этот момент я почувствовал какой-то толчок, нечто вроде импульса, что-то вроде искушения – немедленно рассказать ему о самой важной вещи, событии, случившемся со мной во время путешествия. Я подумал, что именно Эйаль, последние несколько лет живший вместе со своей матерью, поймет меня лучше, чем кто-либо другой. Но в самое последнее мгновение я остановился. У меня была масса времени впереди, а для такого разговора требовался нужный момент. И я перевел разговор на медицинский аспект путешествия. Мой ночной полет до Калькутты с образцами крови и мочи произвел на него большое впечатление, но вот переливание крови, проведенное мною в Варанаси, вызвало у него сомнение.
– Надеюсь, что поддавшись энтузиазму, ты не внес в организм матери вирус ее дочери, – сказал он, улыбаясь.
– Что за чепуха, – ответил я. – Как я мог бы заразить ее? Кроме всего прочего я позаботился о том, чтобы мать находилась выше дочери.
– Ну, разница не так уж велика, – произнес он тоном знатока. – Впрочем, бессмысленно плакать о пролитом молоке. Сейчас главное для тебя – не потерять связи с этим Лазаром. Но что еще важнее – не брать от него никаких денег. Тогда он останется твоим должником и, может быть, сумеет повлиять на Хишина, чтобы тот еще на год оставил тебя в своем отделении.
В то время как Эйаль продолжал давать мне практические советы, его самого срочно вызвали в палату срочной помощи обследовать только что поступившего мальчика, сделавшего попытку покончить с собой. Было уже поздно, однако меня одолевало любопытство посмотреть, как они здесь работают.
Пациенту было около тринадцати, для своего возраста он был довольно высок; теперь он только вздрагивал под безжалостными ладонями медсестер, которые мяли его желудок. Поскольку я был в гражданской одежде, они приняли меня за брата мальчишки или одного из родственников и вежливо, но твердо попросили покинуть маленькую приемную. В конце концов я решил распрощаться, несмотря на все мое любопытство. Эйаль, который надеялся, что я пожаловал, чтобы разделить с ним ночное дежурство, предложил мне отложить возвращение в Тель-Авив и прийти к нему домой на ужин на следующий день. Я колебался, потрясение, которое я испытал в приемной палате скорой помощи больницы «Хадасса» вызвало у меня острую тоску по моей собственной больнице. Но Эйаль стал тащить меня к себе через занавес, разделявший нас, не выпуская в то же время руку мальчика, который начал блевать, извергая из себя снотворные таблетки через толстую трубку, заправленную ему в желудок.
– Оставайся, – говорил Эйаль. – Ты не пожалеешь. Я тебе хочу кое-что сказать…
– Кое-что? – спросил я подозрительно, не желая связывать себя какими-либо обещаниями.
– Ты не поверишь… Но я женюсь, – объявил он громко, не обращая внимания на то, что комната приемного покоя была полна испуганными и несчастными людьми.
Дорога от Эйн-Керема обратно в город сейчас была чиста; шапки снега на ветвях деревьев и на скалах по обеим сторонам дороги придавали ночи магическое очарование, и я радовался при мысли, что уже завтра после ужина в обмен на историю женитьбы я, набравшись храбрости, поведаю Эйалю мою собственную историю внезапной влюбленности. Почему бы и нет? Кому я мог рассказать ее, если не Эйалю, который лучше других мог меня понять?
Моя мать ждала меня сидя в темноте неосвещенной гостиной, завернувшись в старую шерстяную шаль.
– Это из-за снега, только из-за снега на дорогах, – словно извиняясь, объяснила она и тут же поднялась, чтобы поставить чайник.
– Я уже напился чаю вместе с Эйалем у него в больнице, – сказал я и отправился к себе в комнату, чтобы избежать риска нарваться на ночное собеседование.
А когда она, разочарованная, удалилась в родительскую спальню, через дверную щель я увидел две кровати, образовавшие букву «L», залитые лунным светом из окон.
– Ты не поверишь, мама, – возвестил я громким шепотом, – ты не поверишь… Но Эйаль женится!
Какой реакции я ожидал? «Не поверю?» Моя мать и не думала говорить вполголоса.
– Почему это я не поверю? Самое время ему обзавестись семьей: и ему, и его друзьям.
И мой отец, оторвав голову от подушки, пробурчал иронически:
– Ну вот… Вы начали сражение в середине ночи.
Но мать уже успокоилась и только с любопытством поинтересовалась, что я могу сказать о невесте.
– Ничего, – сказал я. – У нас не было времени поговорить как следует. Но завтра я приглашен на ужин и, может быть, увижу ее.
– Значит, ты останешься с нами еще на день, – сказала мать с видимым облегчением. Пусть сам я пока не собирался жениться, я пробуду с ними еще день.
В свое время я часто ужинал в доме Эйаля, тихом и большом. Там нам было очень хорошо. Его мать, жившая одиноко, не любила, когда в доме никого не было, особенно вечером, и она специально готовила что-нибудь вкусное, чтобы мы никуда не уходили. Она была печальной женщиной со следами былой красоты и любила говорить со мной по-английски, поскольку некогда она рассчитывала найти работу в туристическом бизнесе. Время от времени в ее жизни появлялись джентльмены среднего возраста, но судьбу свою ни с одним из них она не связала…
А пока что мы сидели втроем и с интересом разглядывали фотографии, повествующие о моем путешествии.
– Милая девушка, но явная невротичка, – сказал Эйаль, отодвигая фотографию Эйнат. – В эти акции я не стал бы вкладывать деньги… – Говоря это, он внимательно разглядывал широкое лицо Лазара, который ему, похоже, понравился. – Ну, и здесь все ясно. Сильный человек. Дружелюбный и воспитанный. И если вы сошлись уже с ним достаточно близко, было бы просто глупо потерять все это.
– Его жена тоже очень мила, – внезапно вырвалось у меня, и я почувствовал, что краснею. Эйаль снова внимательно посмотрел на снимки.
– Да, – согласился он. – Она всюду улыбается. Я уверен, что она очень довольна своей жизнью.
И я почувствовал себя от этих слов окрыленным. Мне захотелось еще и еще говорить о ней с Эйалем. Но печальная женщина, его мать (в последние годы она чудовищно растолстела), никак не хотела оставить нас вдвоем.
– Вы рады, что Эйаль наконец женится? – вежливо спросил я ее.
– Даже слишком, – ответил за нее Эйаль.
Его мать не сказала ничего, а, помолчав, спросила, готовы ли мы ужинать. Эйаль напомнил, что мы ждем девушку, которая вот-вот придет. Но мать сказала, что еда остывает, и решительным тоном, которого я за ней не замечал раньше, потребовала, чтобы мы приступили к еде не откладывая… А когда мы сели друг против друга за красиво накрытый стол, она удалилась на кухню. Я опустил глаза и произнес с жалкой улыбкой:
– Ты неожиданно решил жениться, а я… а я ни с того ни с сего влюбился в замужнюю женщину.
– В замужнюю женщину? – Маленькие глазки Эйаля сопроводили его взгляд застенчивой улыбкой, которая свидетельствовала, что мое откровенное признание не застало его врасплох.
– Да… в замужнюю женщину.
– Только не говори мне, что ты имеешь в виду директорскую жену, – сказал Эйаль с улыбкой, показывавшей, что ему меня жаль.
– Жену Лазара? – Я изобразил удивление и фальшиво рассмеялся. – Что за мысль? – И я немедленно поднялся со своего места. – Ты что, на самом деле считаешь, что я мог бы влюбиться в женщину на двадцать лет старше меня?
Но на Эйаля мое возмущение большого впечатления не произвело. Пожав плечами, он продолжал улыбаться.
– Я ни на что не намекаю, это не мое дело. Я только заметил, что ты без конца фотографировал ее. А кроме того, она и на самом деле очень мила. Но все это не имеет значения. Если ты влюблен не в нее, то в кого же? Но, что еще более важно, за кем она замужем?
Он продолжал бы еще, но в эту минуту вошла его мать, неся две чашки с супом, которые осторожно поставила на стол, после чего уселась рядом с нами, положив свои красивые еще и очень белые руки на стол.
– Вы присоединитесь к нам? – приветливо спросил я.
Она колебалась, потом ответила:
– Нет. Я не голодна. – И лицо ее, обращенное к сыну, пошло красными пятнами.
Эйаль поднялся, нежно положил свои руки ей на плечи и мягко сказал:
– Да. Маме надо следить за своим весом.
Ближе к концу ужина, когда невеста – Хадас, живая, хорошо сложенная девушка, с открытым и доброжелательным взглядом, – пришла и начала стряхивать изящными движениями снежинки со своих волос, мать Эйаля удалилась наконец в свою комнату и оставила нас одних. Я дал себе слово не говорить больше с Эйалем о своих проблемах. Но не тут-то было. На этот раз именно он немедленно вернулся к расспросам о «замужней женщине», которая, похоже, поразила его воображение. Хадас, которая вся излучала расположение ко мне, очень удивила меня тем, что была отлично информирована о моем путешествии в Индию. Оказалось, что коротко остриженная девушка, Микаэла, та, которая принесла в дом Лазаров новости об их заболевшей дочери, была из того же самого киббуца, что и Хадас. Я быстро поднялся, поскольку хотел побыстрее уехать, как если бы боялся потерять душевное равновесие в связи с подобным совпадением, которое было для меня слишком уж неожиданным. Борясь с возбуждением, я спросил Эйаля, нужно ли мне перед тем как отбыть, заглянуть в комнату его матери и попрощаться, или дать ей отдохнуть. Эйаль, желавший, кажется, чтобы я не задерживался более, поднялся и сказал:
– Итак, Бенци, только не пытайся меня убедить, что ты не сможешь из-за расстояния прибыть в Эйн-Зохар на нашу свадьбу.
– А вы уже наметили дату?