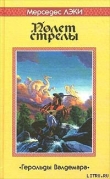Текст книги "Возвращение из Индии"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
Но прибыв домой, я понял, что мне следовало все же принять предложение моей матери остаться спать у них в комнате, поскольку Микаэла и Стефани были с головой погружены в оживленный разговор с акушеркой, которая, невзирая на боль в колене, вместе со своей дочерью разместилась на нашей кровати, допивая не то вторую, не то третью чашку чая и держа в руках не нашего ребенка, а маленькую индийскую статуэтку со множеством раскинутых рук. Вертя ее в ладонях, она рассуждала не о рождениях и о младенцах, но о жизни как таковой, ее целях и значении – о предметах, о которых меня тоже попросили изложить свое мнение. Стефани налила мне чашку чая, и я, сняв обувь и улегшись между женщинами на моей же кровати, перебирал пальцами крошечные пальчики своей дочери, лежавшей рядом со мной, посверкивая глазками. Мне открылось, что и Микаэла, и Стефани имели все резоны поддаться речам этой акушерки, оказавшейся женщиной красноречивой и обладавшей странными и забавными взглядами на мир и мироздание. За ее практичным, профессиональным лоском скрывалась пылкая вера в переселение душ, и не обязательно только после смерти, но на любом жизненном этапе. Она была убеждена в том, что душа является чем-то более тонким и более легким, чем обыденное понятие, поскольку она сдвигает такие, более тяжелые частицы, как память и оставляет нетронутыми тревогу и честолюбие, что и позволяет ей тихонько перемещаться с места на место и от личности к личности. Привела она и пример: когда, сказала она, она повредила колено – тогда, вечером, – и ее доставили в больницу, где она поняла, что уже не попадет к нам вовремя, она послала свою душу, чтобы та присутствовала в этой комнате, поселившись во мне. Не чувствовал ли я, спросила она меня, что все у меня получалось много легче и с большей уверенностью, чем когда-либо раньше?
– Да, чувствовал, – честно подтвердил я. – Но если это ваша душа поселилась во мне, – с невинным видом осведомился я далее, – куда в это время подевалась моя собственная душа? Я уверен, что двух душ у меня внутри в эту ночь не было.
Акушерка совершенно свободно приняла мой вызов.
– Ваша душа была во мне. Это очень просто. Я удерживала ее, пока роды не закончились. А потом вы вернули мою душу мне.
– И как же вам показалась моя душа? – спровоцировал я ее.
– Сказать по правде, она мне показалась немного ребяческой, – ответила она серьезно и покраснела, словно выдала какой-то неблаговидный секрет.
– Ребяческой? – От удивления я рассмеялся, хотя этот неожиданный ответ показался мне чем-то обидным. – В каком смысле – ребяческой?
– Странным образом… она влюбилась, – ответила она.
– Влюбилась?! – в изумлении вскрикнул я. – Но в кого же?
– Ну… например, в меня, – бесстыдно отвечала она, пристально глядя мне в глаза до тех пор, пока ее дочь, все это время не спускавшая с матери обожающего взгляда, не прыснула смехом, который тут же передался Микаэле и Стефани тоже, а в конце концов и самой акушерке, которая поднялась и слегка взворошила младенцу волосики, а потом положила мне свою ладонь на плечо успокаивающим жестом.
Но после того, как все три женщины наконец покинули квартиру, а Микаэла удалилась в гостиную с ребенком, чтобы дать мне возможность поспать, поскольку сама она была настолько возбуждена, что заснуть была не в состоянии, я почувствовал внезапно, что в голове моей – туман, а в мозгах что-то жужжит. Может быть, подумал я, душа моя и впрямь могла полюбить эту гордую седоволосую акушерку так же, как я полюбил Дори, которая явилась мне в каком-то туманном сне; и когда я проснулся и понял, что нахожусь в тысячах миль от нее, – человек с небольшой своей семьей в сером и зимнем Лондоне, – мне захотелось завыть от тоски. Было три часа пополудни, за окном моросил мелкий дождь, а из соседней комнаты доносился голос моей матери, восхищенно разговаривавшей с Микаэлой, которая так и не сомкнула глаз, но находилась в приподнятом настроении, возможно, потому, что кроватка, ванночка и детская одежда были наконец доставлены из магазина. Теперь у ребенка появился свой собственный уголок в этом мире, и поскольку кое-каких мелочей еще не доставало, мой отец поехал за ними, невзирая на дождь. К шести вечера я был уже в состоянии отправиться на свое дежурство в больнице, зная, что ребенок находится в надежных руках Микаэлы и моих родителей, и что жизнь в доме скоро нормализуется.
Я быстро вернул на место позаимствованные ампулы и инструменты, очень рассчитывая на то, что никто не заметил их отсутствия. Но мне было очень жалко, что никому из коллег я не мог рассказать о родах на дому, так как боялся, что это будет расценено, как акт недоверия к больнице. Еще меньше мог я похвастаться собственной ролью в этом процессе из-за того, что побоялся выглядеть в их глазах человеком безответственным. Поэтому я прикусил язык, а поскольку пронизывающий холод свел к минимуму количество пациентов, я мог наслаждаться своими успехами, грея руки у огня собственных подвигов, совершенных минувшей ночью.
После полуночи, когда мое дежурство закончилось, я отправился домой, где застал Микаэлу кормившей ребенка грудью. Мои родители только что отбыли, очевидно не в силах оторваться от своей внучки, а может, не желая оставлять Микаэлу в одиночестве. Впервые после родов мы оказались с ней наедине.
– Ты свалишься, если не поспишь, – мягко сказал я ей.
Она ответила мне дружеской улыбкой:
– Не беспокойся. Я в порядке.
Не приходилось сомневаться, что рождение ребенка укрепило наше взаимное расположение. Микаэла не могла мне помочь, но была под впечатлением моего врачебного искусства, тогда как у меня воспоминание о том, с каким достоинством она переносила боль, наполняло меня уважением к ней как личности. Не знаю, приходило ли ей в голову, что я отказался давать ей болеутоляющее или анальгетик не только потому, чтобы она сохраняла ясное сознание в процессе родов, но и потому еще, что втайне я желал отомстить ей за то, что она принудила меня выступить в роли ее акушера. У меня возникло странное ощущение, что наше растущее друг к другу уважение нисколько не увеличило того чувства любви, которое должно было, возникнув, сблизить нас еще теснее, но которое на самом деле производило обратный эффект – чувство равнодушия лишь усилилось в этот полуночный час, превратившись в безразличие при взгляде на ее полные грушевидные груди, которые не вызвали во мне ни малейшего желания даже притронуться губами к ее соскам, чтобы почувствовать то, что ощущает моя дочь.
В течение следующей недели Микаэла постепенно восполняла потерянные часы сна и активно готовилась к возвращению в нормальный режим жизни – особенно, к изучению Лондона. Мои отец и мать находились в полном ее распоряжении в качестве сиделок, но она не хотела слишком уж рассчитывать на их помощь как потому, что хотела дать им возможность насладиться их отпуском, который так или иначе заканчивается через две или три недели, так и потому, что нам пора уже было начать привыкать обходиться без них. Она подвешивала лямки детского спальника к животу, который уже вернулся к нормальному размеру, и в этот спальник она поместила Шиву, которая чувствовала себя в нем не менее удобно, чем детеныш кенгуру в материнской сумке.
Итак, всего лишь через неделю после родов, Микаэла уже в состоянии была вернуться к своей немудреной работе по поддержанию порядка в часовне, с ребенком, висящим возле живота; готова она была также наносить визиты своим старым друзьям из Индии, которые жили теперь в Восточном Лондоне. Ее естественное спокойствие стало передаваться ребенку, подраставшему в атмосфере душевной уравновешенности его матери, и девочка, похоже, ничуть не страдала от того, что Микаэла таскала ее за собой по всему Лондону; ни единого крика протеста ребенок не издавал и, казалось, искренне был всем доволен.
Было еще преждевременно судить о том, кого девочка напоминает внешне, не принимая во внимание родительские предположения. Она не похожа была на меня, и она не унаследовала необыкновенных глаз Микаэлы. Однажды, когда я остался с нею в квартире один, что-то в ее чуть вытянутом, обтекаемом черепе и чуть узковатых глазах заставило меня вспомнить бледную и несколько таинственную личность нашего не-еврейского британского родственника, мужа племянницы моего отца, который с большой теплотой относился к моим родителям. В одно из воскресений, например, он и его жена высказали пожелание собрать всех наших английских родных и устроить вечеринку в честь новорожденной; одна из гостей, а именно, моя энергичная тетушка из Глазго, подхватила инициативу и пригласила родителей погостить неделю у нее в Шотландии, перед тем как возвратиться в Израиль. Несмотря на свою любовь к младшей сестре, моя мать заколебалась, не желая расставаться с малышкой, – и отказалась. Тем временем мы открыли существование полулегальных яслей, организованных в педиатрическом отделении больницы в помощь семьям сотрудников, – ясли не были рассчитаны на детей возраста Шивы, но Микаэле посчастливилось понравиться заведующей яслями, и та согласилась присмотреть за ребенком. Таким образом мои родители получили возможность принять настойчивые приглашения тетушки, после чего они с чистой совестью могли завершить свое пребывание в Британии и насладиться видами и ароматами страны, в которой прошло шотландское детство моей мамы.
* * *
Я всячески поддержал их намерение уехать – к радости моей тети, но поскольку сэр Джоффри обмолвился, что Лазар и его жена со дня на день могут прилететь в Лондон, меньше всего мне хотелось, чтобы мать стала свидетельницей лихорадочного возбуждения, охватившего меня, как только до меня дошли эти новости. И хотя сэр Джоффри на самом деле даже не упомянул о приезде Дори, я знал, что она ни за что не позволит Лазару улететь в Лондон без нее. Я даже сказал самому себе, что это говорит о том, что она ничего не знает о рождении Шивы, – а ведь я сообщил об этом в примечании к ежемесячному отчету, который аккуратно посылал на адрес секретарши Лазара. Я спросил сэра Джоффри о программе пребывания Лазаров на время их визита и выяснил, что все дни будут буквально забиты различными мероприятиями и встречами, поскольку Лазар был одержим идеей учредить „общество друзей“ нашей больницы в Лондоне. Поэтому я предложил себя в качестве дополнительного эскорта, с тем чтобы позаботиться о миссис Лазар и уберечь ее от скуки. Мои слова очень развеселили сэра Джоффри. Отсмеявшись, он сказал: „Она вовсе не похожа на леди, способную скучать“. Такое впечатление от жены Лазара он вынес после предыдущего визита этой пары два года тому назад, когда он впервые увидел миссис Лазар, повисшую у мужа на руке, улыбающуюся и довольную жизнью и собой. Было видно, что она ему нравится, и я должен был сразиться с ним за право встретить их в аэропорту, что совсем не обрадовало Микаэлу, которой пришлось из-за этого отказаться от урока йоги в Южном Кенсингтоне, поскольку ей надо было остаться дома с ребенком, – мне пришлось напомнить ей, что Шива слегка простужена. Она не протестовала, но несколько насмешливым тоном отозвалась о моем желании „обслуживать этих Лазаров“, а также выразила сомнение, что наш маленький „моррис“ достаточен, чтобы вместить „этих двух толстяков“. Вместе с их багажом. И я понял, что враждебность, которую Эйнат испытывала по отношению к своим родителям, она сумела как-то передать Микаэле – возможно, это произошло тогда, когда они вместе работали в Калькутте. А потому я не счел нужным ей отвечать. Я в тот момент думал о том, как изумятся Дори и Лазар, когда у выхода из аэропорта увидят меня, – хотя, разумеется, они уже привыкли и к аэропортам, и ко мне в них.
Но на деле вышло так, что Лазар разглядел меня раньше, чем я заметил их, и тут же обнял меня. Его жена при этой неожиданной для нее встрече, нисколько не покраснела; сияя, как всегда, она развела руки для объятия и с естественностью, поразившей меня, расцеловала в обе щеки, и хотя я понимал, что это были всего лишь дружеские поцелуи, которые можно было отнести за счет волнения, вызванного перелетом и приземлением, и что такой же прием был бы оказан сэру Джоффри, если бы он, а не я приехал их встречать. Я не смог сдержать дрожи, бившей во мне, как если бы эти улыбчивые, незатейливые поцелуи, дарованные мне так естественно в присутствии ее мужа, содержали обещание чего-то по-настоящему важного, что должно было произойти во время этого визита, начавшегося вот так в мягком свете лондонского дня. Вот приблизительно какие мысли проносились у меня в голове, в ее присутствии со мною рядом, когда она выискивала место, куда пристроить свои длинные ноги в тесном пространстве маленького автомобиля, из-за чего я никак не мог сообразить, каким кратчайшим путем довезти их от аэропорта к их гостинице к вящему раздражению Лазара, который выглядел усталым и тем не менее спешил как обычно.
– В Нью-Дели мы разбирались с маршрутом удачнее, – саркастически хмыкнул он, зажатый на заднем сиденье между чемоданами и сумками, не поместившимися в багажник, и глядя на незнакомые ему улицы Лондона, в которых он, по его убеждению, разобрался бы все же лучше меня, если бы оказался на моем месте за рулем.
Когда же мы в конце концов добрались до их гостиницы и я начал вынимать из багажника их чемоданы, то понял вдруг, что один из них, тот, что я достал последним, был тем самым, что сопровождал нас в нашем путешествии по Индии, и я с мистическим чувством необъяснимой радости наклонился к нему, чтобы погладить чуть протершуюся кожу, на которой, как мне почудилось, еще остались следы красноватой пыли, поднимавшейся ветром с грязных дорог возле замков Бодхгаи. Лазар хотел открыть этот чемодан прямо в гостиничном вестибюле, чтобы достать оттуда подарки, которые они привезли ребенку, но Дори остановила его. „Не торопись… у нас еще масса времени впереди. Мы все вручим самой девочке“, – сказала она и начала расспрашивать о ее необычном имени.
После того, как я объяснил ей, почему Микаэла выбрала это имя, она была взволнована и поражена, немедленно уловив глубокую связь с Индией, которая касалась и ее тоже. Я хотел рассказать им о моей отговорке, касавшейся соотнесенности девочки с именем божества, желавшего разрушить всю Вселенную, и мое желание придать ему более умеренное значение, превращавшее имя Шивы-разрушителя на другое, звучавшее на иврите как „Возвращение“, но потом понял, что это слишком сложно объяснить доступными словами двум уставшим людям, жаждавшим лишь одного, – побыстрее добраться до своего номера и отдохнуть после полета.
Когда я вернулся домой, Микаэлы не было. Несмотря на то, что девочка была простужена, Микаэла решила погулять с ней. Я рассердился на нее за пренебрежение моими медицинскими предписаниями, более того, я разглядел в этом своеобразный акт мести за то, что она называла моим „преувеличенным и необъяснимым почтением к этим Лазарам“. Истина же заключалась в том, что, несмотря на мастерство врача, продемонстрированное мною во время родов нашей дочери, Микаэла не желала во всем остальном отдавать мне роль первой скрипки – даже в том, что касалось медицинских вопросов.
– В дальнейшем, – заявила она, – ты для нее только отец. Но не ее врач. – Это было произнесено безапеляционным тоном, который она время от времени позволяла себе.
Было ясно, что для нее это вопрос принципа, и она не желала проявлять никакой уступчивости. В общем-то, она была права. Но применительно к конкретному случаю, я боялся, что прогулка с простуженным ребенком может способствовать инфекции, после которой мы все вынуждены будем сидеть в квартире, вопреки моему желанию как можно скорее освободиться, устремившись навстречу женщине, которую с того самого момента, как я вновь увидел ее, я знал – не могу уступить никому.
Не могу и не уступлю. Уступить ее, даже в мыслях, означало бы подвергнуть себя саморазрушению, лишить меня той силы, что позволяла сосуществовать рядом с Микаэлой и ребенком, более того, даже с моими родителями, которые с недавних времен смягчились настолько, что верили каждому моему слову и готовы были сделать все, о чем бы я их не попросил. И мне требовалось не так уж много, чтобы я мог перенести наваждение, преследовавшее меня день и ночь, – все, что мне было нужно, это случайная ее улыбка, способная придать мне смелости зайти снова в ее офис и признаться в любви с храбростью отчаяния, которое в конечном итоге не может ей не польстить. Польстить и зажечь в ней встречный огонь, несмотря на постоянное присутствие преданного мужа, который непрерывно целует ее вне зависимости от места, времени и наличия окружающих…
Но когда Микаэла вернулась с ребенком, который выглядел совершенно здоровым и розовым от прогулки на морозном воздухе, безо всяких следов утренней простуды, я был восхищен материнским инстинктом, который с такой непревзойденной точностью диагностировал незначительность легкого посапывания, которое показалось мне таким важным. И снова я понял, насколько права была моя мать, когда во время первого знакомства с Микаэлой предсказала, что как только она родит, она тут же отвлечется от своих проблем и найдет свое место в этом мире, и даже ее незадача с получением аттестата зрелости, перестанет иметь для нее значение. Сейчас она казалась мне настолько привлекательной, в момент, когда поменяв девочке пеленки, она принялась кормить ее грудью, что у меня мелькнула неглупая, на мой взгляд, идея – по-быстрому затащить ее на ночное дежурство; возможно, это помогло бы мне уменьшить вожделение, которое уже сжигало меня при мысли о женщине, только что прилетевшей в страну, которую мне предстояло пригласить в самое ближайшее время на чашку чая вместе с ее мужем, чтобы они могли взглянуть на ребенка и поднести ему купленные заранее подарки, – а мне дать возможность узнать что-либо о планах, связанных с моим возвращением в израильскую больницу, убедившись что английская дверь и в самом деле ведет домой, а не захлопнется у нас перед носом.
Но моя замечательная секс-идея нисколько Микаэлу не вдохновила. Ее новая подруга – все та же акушерка – рекомендовала ей полное половое воздержание в течение трех месяцев после родов, чтобы дать организму прийти в норму после родового шока. А поскольку спорить с акушеркой я не мог, я остался в таком напряжении, что не смог уснуть даже после ночной смены, и потащился ранним утром снова в больницу. Там я оставил Шиву в яслях и стал бродить туда и сюда вокруг офиса сэра Джоффри, надеясь столкнуться с Лазарами. И столкнулся. Издалека я расслышал уверенные шаги Дори, а затем увидел ее глаза, смотревшие на меня с недоумевающей тревогой, поскольку, как я понял, она решила, что я болтаюсь по коридору исключительно из-за надежды встретить ее возле офиса сэра Джоффри, и разве она ошибалась? Тем не менее я решил воспользоваться случаем и попросил ее зайти к нам и посмотреть на Шиву. Если бы я не поймал ее на ходу, без сомнения, она, словно маленькая толстенькая собачка, проследовала бы за своим мужем, встречавшимся с сэром Джоффри, который, как мне уже рассказал об этом накануне Лазар, успел предложить тель-авивской больнице побывавшие в употреблении приборы для анализа и анестезии, оказавшиеся в Лондоне невостребованными. Мне же стало совершенно ясно, что приглашение посмотреть на ребенка ей пришлось по душе. И Лазар, которому не терпелось взглянуть на оборудование поближе, чтобы удостовериться, что подарок сэра Джоффри не таит в себе никакого подвоха, посоветовал жене принять мое предложение.
– Ну, Дори, в чем дело? Пойди и взгляни на беби, и если Бенци свободен, может быть, он покажет тебе собор Святого Павла, который ты сегодня хотела посетить? Боюсь, что я застряну здесь надолго, а после всего этого мне предстоит еще встретиться с человеком, который отвечает за вечеринку в честь „Общества друзей“.
– А когда же ты сам увидишь ребенка? – оскорбленно поинтересовалась Дори, как если бы подобное мероприятие было из тех, что нельзя пропустить.
Но я, вне себя от радости, что смогу остаться с ней наедине, возможность чего так невероятно легко свалилась на меня, быстро уверил их в разрешимости этой проблемы.
– У вас будет еще множество случаев увидеть малышку, уверяю вас, – убежденно успокаивал я Лазара, который, похоже, вовсе и не горел таким уж энтузиазмом, после чего мы условились, что я доставлю Дори сюда же, в офис сэра Джоффри в течение двух ближайших часов.
И вот так, в результате неожиданного стечения обстоятельств, она неожиданно оказалась в моем распоряжении, пусть даже всего лишь на два часа, но зато в совершенно незнакомом ей месте, одетая в тунику из синего бархата, памятную мне по Индии, которая, похоже, относилась к тому виду одежды, которую можно было носить всюду. На своих высоких каблуках, уверенно отбивавших четкий ритм, она зашагала рядом со мною – холеная, надменная женщина средних лет, которая, к тому времени, пока я достигну ее возраста, не исключено, уже простится с этим миром. И эти новые для меня мысли наполнили меня не только печалью, но и каким-то глубоко нежным чувством. Самым приятельским образом, но не переходя никаких границ, как если бы мы никогда не лежали обнаженные друг возле друга, я начал расспрашивать Дори о ее матери и как у нее идет жизнь в доме для престарелых – о чем, как я знал, она любила поразговаривать, наполняя речь одним нам понятными намеками.
Когда мы вошли в помещение яслей, стараясь ступать как можно тише, и я получил разрешение на минутку взять свою Шиви, я не ограничился тем только, что вынул ее из кроватки, но я разбудил ее и передал Дори в руки, чтобы она могла подержать нечто, являвшееся моей плотью и кровью.
Она приняла ребенка со всей осторожностью, прижав к себе, и испустила возглас, полный восхищения и радости, который сестра, стоявшая рядом с нами, без сомнения, сочла преувеличенно громким, но который – я-то знал – был совершенно искренним. Густые волосики Шиви просто заворожили Дори, и она прижала кудрявую головку девочки к своей груди и не хотела ее отдавать. Пока я не настоял – тактично, но решительно, чтобы мы вернули окончательно проснувшуюся малышку в ее колыбель. Я был так тронут энтузиазмом Дори, что не мог сдержаться, и пока мы шли к боковому выходу, поведал ей всю историю с моим участием в родах в нашей спальне, излагая ее во всех деталях. Автоматическая улыбка в ее глазах перемешалась теперь с неподдельным удивлением. Ее эта история, похоже, очень порадовала. И так она в нее погрузилась, что вместо прогулки к собору Святого Павла или трудно объяснимого досрочного возвращения к офису сэра Джоффри, где ее наверняка ждала встреча с мужем, мы решили, что воспользуемся представившейся нам возможностью и просто двинемся узкими улочками куда понесут нас ноги, так или иначе приближаясь к больнице, наслаждаясь теплом и истинно британским обличием этого района, в котором, тоже совершенно случайно, находилась арендованная моими родителями квартирка. И, не скрою, мне очень вдруг захотелось узнать, что эта оживленная дама, которая заставила нас волочиться от отеля к отелю в Индии до тех пор, пока она не нашла то, что отвечало ее требованиям, да – что она думает и что скажет о домике, который Микаэла отыскала для моих родителей и который она уже облюбовала для нас самих, случись нам еще раз оказаться здесь. И поскольку ключи, как от садовой калитки, так и от дверей квартиры, позвякивали в единой связке с моими собственными с тех пор, как два дня тому назад я простился на перроне с моими родителями, ничто не мешало нам войти внутрь.
* * *
За маленьким домиком, стоявшим посреди хорошо ухоженного сада, находились отдельные ворота, которые, после того, как мы проходили мимо посадок роз, вели в апартаменты моих родителей. На воротах висели маленькие колокольчики, которые, судя по всему, позволяли владельцам особняка осуществлять контроль за приходом и уходом их квартирантов. Но сейчас в этом не было смысла, поскольку владельцы дома сами отдыхали в Италии. После того как колокольчики отзвонили, я открыл дверь, которая вела в очень темную комнату, и пригласил Дори пройти внутрь. Несмотря на то, что шторы и занавески не раздвигались уже несколько дней, в комнате стоял приятный запах половой мастики и застоявшийся аромат постельного белья, на котором они спали. Часть их одежды, как я мог видеть, аккуратно висела в шкафу. Возможно, из-за всех этих запахов Дори поначалу не решалась войти в большую и приятную на вид комнату, но сделала это после моей настоятельной просьбы, ибо мне хотелось не только показать ей все, но и услышать от нее, насколько умеренной была цена всех этих удобств с учетом всех имеющихся достоинств. После чего она, согласившись, проследовала за мною следом в маленькую кухоньку и даже заглянула в совсем уж крохотную ванную, которую, как обычно, моя мать приводила в полный и законченный порядок. Квартира отапливалась платным газом, который я тут же поспешил включить, благо монеты у меня были с собой; решил я также раздвинуть шторы, чтобы она могла полюбоваться маленьким садиком через окна, но она жестом остановила меня, села в кресло и в полумраке, точно так же, как в квартире ее матери, сидела так, скрестив свои стройные ноги. Все, что я при этом чувствовал, – это волну желания, перемешавшуюся с тревогой. Прошел уже целый год, и я не знал, как мне теперь себя вести. Должен ли я был вновь уверять ее в своей любви? Не решив этого вопроса, я предложил ей выпить чаю – чаю потому, что мои родители не пили кофе. Похоже, что Дори была удивлена, но сумела это скрыть и приняла странное мое в этой ситуации предложение – может быть, потому, что она не успела еще разобраться в своих ощущениях.
Но она разобралась. И к тому времени, как я вернулся в комнату, после того как вскипятил воду в электрическом чайнике и опустил в чашки с кипятком пакетики с чаем, она уже поднялась и стояла, проявляя все признаки нетерпения, как если бы только сейчас поняла, насколько странно и, может быть, даже противоестественно незадолго перед предстоявшим нам возвращением в больницу тратить оставшееся время на то, чтобы сидеть в темной зашторенной комнате моих родителей и пить чай. Всем своим видом она выражала желание, которое мне показалось скорее безрассудным и ребяческим. А именно – она жаждала посмотреть остальные комнаты этого дома. Я бросил взгляд на свои часы – у нас оставалось тридцать или сорок минут, что мы могли еще оставаться здесь. Если мы хотели вовремя вернуться к назначенному Лазаром сроку, не дав ему никакого повода для подозрений. Понимает ли она, думал я лихорадочно, что не существует лучшего места в мире, чем это, где бы мы могли заняться любовью столь же анонимно и тайно, – или ее останавливает мысль о том, что делать это придется на постели моих родителей? Вот на этих вплотную сдвинутых кроватях? Я испытывал вожделение такой силы, что у меня свело живот, но я проследовал за нею в длинный и темный коридор, который привел нас в темную, но поразительно большую комнату, в которой вся мебель – кресла, диванчики и книжные шкафы – находились под белыми чехлами. Я хотел включить свет, но оказалось, что в этой части дома электричество было отключено. Мне оставалось только надеяться, что это обстоятельство удержит ее от дальнейших исследований, но я ошибался – ее любопытство не знало границ, и она, продолжая улыбаться и не спрашивая моего разрешения, прошла дальше и открыла деревянную дверь, ведущую в маленькую и прелестную студию, отделанную красным деревом; из нее другой коридор приводил в неожиданно светлую комнату, поскольку в ней шторы почему-то задернуты не были. Скудный свет зимнего дня вливался внутрь через удивительно большие окна – может быть, по контрасту с остальным домом, утонувшим в сумерках. Это была еще одна спальня, всем своим видом разительно отличавшаяся по стилю от остальных комнат особняка, и я сразу почувствовал, как изменилось настроение у моей спутницы, потому что она с нескрываемым интересом стала ее обследовать, а затем неожиданно откинула на кровати покрывало, обнажив красивые, в зеленоватых цветах простыни.
Что ж… это место более годилось для занятия любовью, чем любое из виденных нами до того, – и уж всяко было лучше кровати моих родителей. Все в этой комнате проливало свет на привычки путешествовавших в эту минуту по Италии хозяев, и не подозревавших о моем существовании. Больше всего я боялся, что если я повлеку все же Дори в родительскую спальню, ее порыв пропадет, и к тому времени, когда мои чары снова возбудят ее, нужно будет срочно возвращаться. И тогда, не тратя времени на декларации о любви, и не произнося ни слова, я подошел к ней, обнял и стал целовать, чувствуя, как оседает в моих руках ее тело.
И сейчас она не разрешила мне снять с нее хоть что-нибудь, как если бы рассматривала это как посягательство на ее свободу и независимость, и как если бы она, подобно тому, как это было в первый раз, ожидала, что я снова буду стоять перед ней обнаженным. Ожидая, пока она разденется и ляжет на покрывало, которое на ее взгляд, было не только красивее, чем отглаженные цветные простыни, но и заметно чище. Она не торопила меня, она лежала, закрыв глаза, ожидая, пока я перестану покрывать поцелуями ее сладострастный полный живот, который, с последней нашей встречи, округлился еще чуть более, как если бы она владела секретом медленной, но бесконечной беременности. Но когда я попытался передвинуться ниже, к ее промежности, она остановила меня, слегка дернув за волосы и потянула, дав понять, что мне лучше лечь с нею рядом. После чего взяла мой член и попыталась ввести его вовнутрь, рассердившись нешуточно, когда ей это не удалось из-за того, что на нем был уже надет тонкий презерватив. Мое лицо исказилось от боли и я чуть не заплакал от обиды и огорчения от странного поворота в наших отношениях. Вожделение медленно уходило. Я не мог заставить себя сконцентрироваться снова, а потому знал и то, что не смогу удовлетворить эту жаждущую любви женщину, а вынужден буду наблюдать, сгорая от стыда, как и ее тоже покидает возбуждение, уходя, как в море во время отлива уходит волна. Но мы продолжали лежать, и лежали так долго, не размыкая объятий, пока она не открыла глаза и не сказала, взглянув на часы: „Не грусти… это все не важно. В любом случае, здесь это невозможно“. И с необычной для нее быстротой она оделась, с нетерпением поглядывая, как я медленно и тщательно собираю свою одежду, словно я раздумал уходить из этой холодной непонятной комнаты.