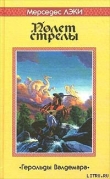Текст книги "Возвращение из Индии"
Автор книги: Авраам Бен Иехошуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
Поскольку пульс у больной пришел в норму, равно как и дыхание, а стройное тонкое тело было достаточно расслабленным, меня охватила страшная тревога, что вот-вот может произойти что-то неожиданное и непредвиденное, что скажется на ходе операции и убьет ребенка, попавшего в мои руки, покрыв позором не только меня, но и Лазара, и его жену, которые прислали меня сюда. А пока что я дольше обычного медлил возле операционного стола, проверяя и перепроверяя каждый разрез, и для большей уверенности затребовал даже рентгеновский аппарат, чтобы сделать дополнительный снимок позвоночника.
Было уже далеко за полночь, и седая врач-анестезиолог отвела взгляд от аппарата для анестезии, чтобы понять причины моей медлительности. Может быть, это было просто проявлением хороших манер, избавлявших ее от необходимости спрашивать, что случилось, тем более что она имела на это право. Зато молоденькая сестра и не думала скрывать свой гнев, подчеркнуто резко собрав инструменты, с грохотом отправила их в стерилизационный бак, бормоча что-то про себя. Но я предпочел проигнорировать ее эмоции. А затем, после того как зашил желудок аккуратными мелкими стежками, которые не превратятся потом в шрам, в конце операции, длившейся более пяти непрерывных часов, дал знак анестезиологу начать выводить пациентку из-под наркоза. Я не позволил ей уйти из операционной, пока не убедился, что слова, которые она промямлила со своим невероятным акцентом, имели некий смысл, а именно, что мозг девочки не претерпел каких-либо нарушений в результате операции, которую я провел собственноручно от начала до конца. Не снимая своего забрызганного кровью халата, я шел вслед за ее кроватью, пока ее катили в палату скорой помощи. Больница в этот поздний час была удивительно тиха, и даже те больные, которых не развезли еще по различным палатам, спали глубоким сном. Я поискал глазами старшего врача, чтобы известить его об окончании операции, и обнаружил, что он удалился на отдых в свою комнату давным-давно, не позаботившись даже узнать, чем завершилось то, что он передал мне из рук в руки, – так велика была его вера в молодого израильского врача. Единственным свидетельством жизни в комнате ожидания была группа высоких и стройных африканцев, благодаривших меня с трогательным почтением и чуть ли не благоговейно. Для них, похоже, моя неторопливость была предзнаменованием надежды.
Так я нашел свое место в работе больницы и с тех пор понял, что независимые, самостоятельные операции лучше всего остального способны проложить мне путь в отделение скорой помощи, и я стал добровольно брать на себя дежурства в ночные смены, что с большим удовольствием было воспринято моими коллегами, которые оказались куда менее высокомерными, по сравнению с врачами в Израиле. И таким вот образом все чаще я оказывался в маленькой операционной, примыкавшей к приемному покою скорой помощи, иногда в качестве анестезиолога, а иногда как хирург, совершающий сложнейшие операции на свой страх и риск, хотя бы и моим собственным, необычным путем, – характерным признаком которого была подчеркнутая неторопливость, к которой с каждой операцией седовласая женщина анестезиолог привыкала все больше и больше. Что же касается хорошенькой, но нетерпеливой медсестры, то я избавился от нее, предпочтя работать со спокойной и послушной сестрой из Шотландии.
В конце каждой ночи, когда я видел, что ничего для меня интересного больше нет, я отправлялся домой в нашу квартиру, расположенную неподалеку, будил Микаэлу и рассказывал ей о моих подвигах. Она просыпалась немедленно, и слушала все с жадным вниманием – не только потому, что она всегда любила слушать о медицинских делах, но также и потому, что видела меня счастливым и полным энтузиазма. Ее круглый животик постоянно увеличивался в размерах, напоминая под простыней маленький розовый холм, и время от времени во время моего рассказа мне чудилось, что я вижу слабое движение, свершающееся у нее внутри, свидетельствовавшее, что ребенок тоже прислушивается к моим словам.
За последние месяцы беременности любовные аппетиты Микаэлы значительно уменьшились – и потому, что маленькие размеры чужой квартиры уже не возбуждали ее, как некогда, и потому, что особое мнение некоего путешественника, только что вернувшегося из Индии, гласило, что половые сношения в данной ситуации могут повредить плод. Мне не хотелось углубляться в теологические дебаты с нею об определении различных значений жизни и наличии сознания у эмбриона, особенно с тех пор, как я потерял интерес к сексуальному общению с ней. Но память о любви, которую мне довелось испытать на другом животе, огромном и белом, в начале весны в бабушкиной квартире, наполняла мое сердце желанием столь жгучим и сладостным, что мне пришлось отвернуться, чтобы Микаэла не заметила слез, навернувшихся мне на глаза.
Но Микаэле было не до неожиданных слез на глазах ее мужа. Она была полна радости от пребывания в Лондоне, очарована своей свободой, возможностью бродить повсюду, встречаться с людьми, побывавшими в Индии и мечтающими, подобно ей, оказаться там еще раз. Так что когда я добрался до постели после того, как долго отмокал в ванне, смывая с себя кровь и гной, я нашел ее погруженной в крепкий сон, необходимый ей для выполнения той несложной работы, что предстояла ей с утра – привести в порядок пол в маленькой часовне и выровнять стулья для паствы, собирающейся на молитву, или туристов, пришедших, чтобы насладиться необычностью старинного здания. Она была вполне довольна этой простой физической работой, которая оплачивалась столь щедро, что у меня закралось подозрение – не является ли это некоей субсидией сэра Джоффри, призванной компенсировать мою не слишком высокую зарплату. Домой она приносила из часовни оставшиеся несгоревшими огарки свечей и время от времени зажигала их в комнатах, создавая подобие праздничной атмосферы.
Иногда, выходя из ванной в серые предзакатные часы, я видел, как перед тем как отправиться в постель, она составляла несколько огарков вместе, чтобы скрасить мне мое одиночество перед тем, как я тоже усну – и в самом деле, мерцающий свет умиротворяющим образом действовал на мою душу, погружая меня в дремоту, или, как минимум, показывая, что время близится к пяти – именно тогда, когда время от времени я звонил своим родителям до того, как они отправлялись на службу, в то же время давая возможность оплачивать разговор по пониженным тарифам. Поначалу я звонил им часто, поскольку не получал никаких сведений от Амнона и беспокоясь о том, не забывает ли он вовремя платить за квартиру. Двухчасовая разница во времени между Лондоном и Иерусалимом гарантировала, что я всегда застану своих родителей дома уже проснувшихся и свежих, готовых поделиться со мной последними новостями о них самих и стране, но с еще большей жадностью желающих услышать о моей жизни и о том, как протекает беременность Микаэлы и не существует ли опасности преждевременных родов. Они уже зарезервировали места на самолет, оплатили свои билеты и попросили Микаэлу подыскать им квартиру поблизости от нашей собственной. Точно так же заботливо старались они не затягивать разговоры по телефону, за которые платили, хотя и не могли обойтись без подробных расспросов о стоимости аренды в нашем районе, чтобы с большей точностью понять, какое жилье им больше подходит. Голоса их звучали прекрасно не только ввиду представлявшейся им возможности превратиться в дедушку и бабушку и встречи с нами, но также и в предвкушении длительного пребывания в Англии, в которую они до сего времени совершали лишь кратковременные набеги с тех пор, как эмигрировали в Израиль. Они собрались пробыть на этот раз в Англии целых два месяца, и выглядело это так, словно они возвращались к себе домой, туда, где когда-то и они появились на свет.
XIII
Иногда пыль оседала на маленькой статуэтке до тех пор, пока она не тускнела. И если никто время от времени не вытирал ее мягкой тряпкой, кончалось тем, что тощий паук спускался с потолка и начинал терпеливо плести сложную сеть густых и прозрачных нитей вокруг нее, словно элегантное кружевное одеяние – до тех пор, пока луч солнца, рожденный бризом, дующим сквозь открытое окно, не превращал забытую всеми статуэтку в запыленную маленькую девочку, сверкавшую волшебным, окутывавшим ее платьем, готовую пойти танцевать с любым, кто пригласит ее.
Но только кто же ее пригласит? Кто может забыть, что смерть – это смерть, даже если она сменит свои одежды?
* * *
Роды состоялись морозной зимней ночью в нашей маленькой квартире в сотне-другой ярдов от больницы. Я до сих пор не могу понять, как Микаэле удалось уговорить меня, и особенно моих родителей, согласиться на это. Но поддались ли мы и в самом деле ее настояниям, или просто уступили ее желанию дать ребенку жизнь именно таким образом в присутствии одной лишь акушерки? С другой стороны, что могли мы сделать? „Простите, – не уставала повторять она с отстраненной улыбкой, отметая наше несогласие с ней, – простите, но это ведь я, а не вы носили все это время в себе ребенка. И я полагаю, что имею право решать, где именно ему появиться на свет“. И этими словами все прочие аргументы оказывались исчерпанными. Тем не менее я не уверен, что мы старались так уж сильно, чтобы заставить ее отказаться от ее намерения, как если бы мы сами хотели привыкнуть к тому факту, что есть в ней некая эксцентричность, которую мы должны ей простить, учитывая ее многочисленные достоинства, которые так бесспорно проявились в Лондоне.
Всего лишь в нескольких улицах от нас, она ухитрилась найти примыкавшую к небольшому особнячку, окруженному садом, однокомнатную квартиру, чьи владельцы на долгое время отбыли в Италию, и встретить моих родителей с большой теплотой и радушием в день прилета. Хотя она была уже в середине девятого месяца своей беременности, это она настояла, чтобы мы встретили их в аэропорту, а оттуда привезли прямо к нам, где их уже ожидал любовно приготовленный ужин из разнообразных колбас, сосисок и сыров, которые, как она уже знала, мой отец очень любил. Мать мою она тоже удивила блюдом, которое та любила в детстве – малиной в креме; узнала она это, оказывается, от моей разговорчивой тетки из Глазго. Накануне их прибытия Микаэла приготовила им кровати, застелив их чистыми полотняными простынями, а кроме того, положила лишнюю подушку на кровать моей матери, стоявшую рядом с отцовской, так, чтобы ее голове было высоко – точно как у нее дома в Иерусалиме. И в завершение всего она побеспокоилась, чтобы Стефани, горничная, с которой Микаэла уже успела подружиться, не забыла наполнить горячей водой две грелки, поскольку английское представление об отоплении комнат явно расходились с тем, к чему привыкли мои родители, особенно с учетом того, что в последнюю неделю на страну опустились сильные морозы, а январь еще только начался.
Эта Стефани, зрелая женщина из Южной Америки, которую Микаэла встретила в церковном хоре и прониклась – взаимно – самыми дружескими чувствами, оказалась источником некоторых ее новых идей, включая идею о желательности родов в домашней обстановке с помощью одной лишь акушерки – по-видимому, это было модным среди молодых женщин Северного Лондона, которые, кроме того, что полагались на крепкое свое здоровье, были озабочены еще и тем, как наиболее естественным путем дать жизнь здоровым будущим поколениям. Я знал, что и Микаэла думает о чем-то подобном и что она хотела произвести подобный опыт над самой собой, – родить естественным природным путем,полагая, что если половина человечества производит потомство подобным образом, не поднимая вокруг этого особого шума, то нет никаких оснований и мне волноваться по этому поводу. Ее беременность протекала совершенно нормально, а сама она была крепкой и здоровой молодой женщиной. Она также посещала специальные курсы для рожениц и знала, что ее ожидает, а в случае чего-то непредвиденного наша больница находилась прямо за углом, и уж в самую последнюю очередь, не без насмешки напоминала мне Микаэла, ее муж – врач. И она была права, хотя среди многочисленных операций, которые мне довелось проводить в нашей маленькой операционной, не было ни одной, связанной с родами, особенно с такими, как эти – ведь ребенка, который должен был вот-вот появиться на свет, я, оставшись наедине с собой, уже звал по имени: Шива. Микаэла была довольна, это имя казалось ей единственно возможным, ибо в нем ей слышалось нечто божественное. „Ты только вслушайся, Бенци, – не уставала она повторять, – „Шивити Элохим ла-негди“ – „Я никогда не забываю о Боге““.
– Но ты при этом подразумеваешь совсем иного Бога, – немедленно парировал я.
– Но почему же другого? – не соглашалась она. – Однако ничего… ты скоро поймешь, что это всегда тот же самый Бог, Бенци. Когда она научится читать и писать, она сама сможет решить, как будет звучать и выглядеть на бумаге ее имя. В любом случае, по-английски это выглядит одинаково, и это очень важно.
И на этом закончились наши пререкания. Эхом же этих разговоров явился ее отказ вернуться домой после истечения годового пребывания в Англии.
Донеслось это эхо и до слуха моих родителей на пути из аэропорта, о чем они не преминули мне сообщить вместе с поддержкой желания Микаэлы рожать дома. Правда, поначалу они очень тактично и мягко пытались отговорить ее, памятуя о своих успехах при переговорах с нею, касавшихся организации свадьбы. Но здесь я предпочел занять нейтральную позицию. Я чувствовал себя в этом вопросе обязанным быть на стороне Микаэлы. В конце концов, я врач или нет?
И с этим нельзя было не считаться, полагал я. По счастью, племянница моего отца и ее бледный и тощий очкарик-муж, тот самый, с какой-то таинственной внешностью, позвонили родителям в день их прибытия и пригласили поужинать, перед тем как пойти в театр, желая, очевидно, в какой-то степени отвлечь их от неминуемо тревожных дум о предстоящих родах, о которых, по моему настоянию, им надлежало узнать после того, как все закончится. Это было совсем не просто, поскольку они жили поблизости, и, несмотря на их обещание не беспокоить нас без особой надобности, звонили ежедневно по нескольку раз в день.
Когда Микаэла, которая переходила уже все сроки, позвонила мне в шесть часов вечера и сообщила, что у нее стали отходить воды, я велел ей ничего не говорить родителям и поспешил из больницы домой. Там меня встретила Стефани, которой нравилось принимать участие в подобных родах и которая в значительной степени несла ответственность за решение Микаэлы: ее присутствие должно было поддержать роженицу и придать ей мужества в ближайшие часы. Микаэла уже лежала, бледная и улыбающаяся, на матрасе, с той стороны двуспальной кровати, где обычно лежал я, поскольку собственный ее матрас был насквозь мокрым после выхода околоплодной жидкости и теперь сушился возле батареи отопления в соседней комнате. Я удивился тому, что околоплодная жидкость имеет запах. Первые схватки еще не подошли, и в ожидании их я успел сварить кофе и сделать сэндвичи для Стефани и для себя, но Микаэле я запретил есть, чтобы позднее ее не рвало. Даже сейчас Микаэла пыталась меня убедить, что „акушерка принесет все необходимое“. Тем не менее я приготовил все сам – полидин, к примеру, как кровоостанавливающее, три ампулы усиливающего схватки питосина, несколько порций марсоина, успокаивающе действующего на блуждающий нерв, который мог блокировать применение лекарств, которые я тайком „одолжил“ в нашем медицинском кабинете больничной „родилки“ в надежде, что нужды в их применении не возникнет. Твердо зная, что в подобных случаях всегда что-нибудь может пойти не так, и я должен быть к этому готов, я, не спрашивая разрешения, принес из больницы несколько простых, но необходимых инструментов в своем чемоданчике: щипцы, скальпели, длинные изогнутые ножницы и иглы, и, едва переступив порог, тут же отправил их в кастрюлю с кипящей водой, игравшей роль стерилизатора. Как странно все же, думал я, что я должен сидеть здесь, в нашей крошечной кухоньке, томясь страхом возле кастрюли с булькающей водой, когда в какой-то сотне метров отсюда находится больница с самым современным операционным оборудованием, к которому я имел свободный доступ. И если я на самом деле любил Микаэлу, должен ли я был уступать ей так быстро?
Акушерки все еще не было, несмотря на то, что уже давно она сказала по телефону, что выезжает. Микаэла не высказывала никаких признаков беспокойства, она хорошо подготовилась и была уверена, что все пройдет гладко. Стефани и я наблюдали, как она встретила первые схватки, применив специальные дыхательные упражнения, которым ее научили на курсах, не издав при этом ни звука. Время от времени звонили родители, пытаясь по тону моего голоса угадать положение дел. Я взял с них слово, что они не придут, пока я их не позову, и они поклялись, что не появятся без разрешения, – но получасом позже, взглянув в окно, я увидел их. Они топтались неподалеку, словно хотели, несмотря на холод, быть поближе к полю сражения. На них были теплые пальто, и время от времени они поднимали глаза, всматриваясь в наши освещенные окна. Затем они исчезли, скрывшись в ближайшем саду, из которого, как оказалось, они и позвонили, чтобы сказать нам, что они рядом, и могут, если это нужно, появиться у нас буквально через минуту.
Акушерка, судя по всему, намертво застряла в вечерней пробке, не проявляя никаких признаков жизни, и я всерьез задумался, что мне делать, если, не дай бог, она не появится вовсе, при том, что я не видел, каким образом можно было бы переправить Микаэлу в больницу против ее воли. Интенсивность схваток нарастала постепенно, но никаких признаков того, что матка открывалась, я не видел. Микаэла была тиха и до сих пор не издала ни звука, что меня, знавшего, как любит она кричать и стонать во время любви, весьма удивило, ибо это означало истинное мужество, боль, которую она испытывала была столь свирепой, что лицо ее приобрело меловой оттенок. В какой-то момент меня охватила злость на самого себя за то, что я так бездумно доверился незнакомой мне акушерке. Но прежде, чем предпринять более решительные шаги – добраться, например, до больницы и организовать профессиональную помощь, – я решил призвать сюда, в квартиру, родителей. Не только для того, чтобы с Микаэлой остался кто-то, более надежный, чем Стефани, пусть даже та выглядела спокойно и собранно, но и для того, чтобы их присутствие поддержало ее практическим советом, который могла дать ей моя мать, которая, что ни говори, произвела на свет одного человека – пусть даже это было тридцать лет тому назад.
И я помчался в паб, чтобы позвать их. Сначала я не мог разглядеть их в общей сутолоке, потому что, вместо того чтобы тихо сидеть в углу, как я ожидал, они, с видом завсегдатаев, стояли посередине бара с пивными кружками в руках и вели оживленную беседу с кучкой англичан. Когда они увидели меня, протискивающегося к ним, возбужденного и взъерошенного, мой отец, тоже возбужденный столь приятным времяпровождением, поначалу решил, что все уже позади, и я прибыл для того лишь, чтобы сообщить им эту новость. А потому он начал знакомить меня со своими собеседниками, и по их дружеским кивкам я понял, что тоже являлся предметом собеседования. Когда мы вышли из паба, отец стал укорять меня (он начал делать это с первых же минут пребывания в Англии) за мой скудный английский, указывая на ошибки, которые я допускаю в разговоре, и предложив специально позаниматься с ним, – по его настрою я понял, что он готов немедленно приступить к делу. Но моя мать, выглядевшая очень взволнованной, перебила его с непривычной резкостью.
– Мы, кажется, прилетели сюда из Израиля не для того, чтобы улучшать английский язык Бенци, тебе не кажется? Может быть, нам стоит дождаться рождения Шиви?
Было что-то очень приятное и обнадеживающее в том, как она впервые произнесла имя малыша, который еще даже не родился, – более того, похоже не очень-то спешил с этим, если судить по ощущениям Микаэлы. Мой отец, разумеется, не был допущен в спальню и только осторожно поглядывал в дверную щель, но мать сидела у постели, оживленно разговаривая с Микаэлой и Стефани, которая казалась безмерно огорченной произошедшим с акушеркой. С момента ее звонка минуло уже более трех часов – но никаких признаков ее существования до сих пор не было; что они обе – моя мать и Микаэла – думали о ней, не трудно догадаться.
И тут, я понял, что все хлопоты по появлению этого ребенка на свет ложатся на меня; принимая во внимание тот факт, что больница находилась от квартиры в какой-нибудь сотне метров, ситуацию иначе как скандальной назвать было нельзя. Микаэла видела, в какой я злобе, и умиротворяющее пыталась мне улыбнуться. Ее лицо побледнело еще больше, под глазами уже появились темные круги, и я знал, что в эту минуту она испытывает сильные боли, но не хочет жаловаться, особенно после посещения курсов Ламаза, которые она так добросовестно и с таким энтузиазмом посещала под наблюдением и руководством той самой акушерки, которая исчезла так внезапно, что ее местонахождение было загадкой даже для тех людей, бравших телефонную трубку в ее доме и которые должны бы были это знать. Я принес инструменты и таблетки, приготовленные заранее, в спальню, положил в ноги Микаэле две подушки, чтобы приподнять их, и, не колеблясь, вколол ей порцию питосина, призванного ускорить схватки. Я еще никогда не применял ранее подобной инъекции, но после того, как ознакомился с его формулой в инструкции по применению этого препарата, отбросил все колебания прочь. Моя мать с уважением смотрела за моими действиями и ободряюще кивала мне, всем своим видом выражая уверенность в том, что у меня легкая рука. И хотя она до конца так и не прониклась сочувствием к идее рождения на дому, она всем своим существом излучала оптимизм в минуту, когда все разногласия должны были отойти на задний план, чтобы поддержать Микаэлу до момента следующих схваток. Она пыталась вспомнить детали собственных ее переживаний при родах, к которым Микаэла прислушивалась с видимым вниманием. После инъекции схватки участились, но никаких признаков раскрытия матки все еще не было. Твердая головка ребенка, которую я нащупал при пальпации, стараясь понять, каково положение всего тела, показала мне, что все должно пройти нормально, и ребенок, словно он тоже прослушал курсы, знает, как и куда он должен устремиться, как только матка начнет раскрываться.
Но этого пока не происходило.
Можно было ввести Микаэле марсоин, но мне не хотелось этого делать, поскольку это лекарство вызывало расслабление мышц, что, в свою очередь, могло затянуть роды. И тут я понял, что все мои страхи несколько преувеличены, а поняв, сказал себе, что нет никаких причин для паники – в конце концов любой шофер „неотложки“ принял роды не раз и не два за время своей карьеры, а Микаэла демонстрировала столь незаурядную выдержку До сих пор она ни разу не попросила меня дать ей что-нибудь уменьшающее боль и без единой жалобы выполняла все, что я ей говорил. Похоже, она готова была вывернуться наизнанку и вылезть из кожи вон, только бы я разрешил остаться в нашей спальне и не заводил разговора о том, чтобы перебраться в больницу.
* * *
И вот, когда роды наконец состоялись – между шестью и семью утра, после дополнительной инъекции, – и медленно, словно распускающаяся роза, стала раскрываться матка, когда в теплой атмосфере нашей спальни, где по требованию Микаэлы свет был притушен, голова ребенка, покрытая буйно вьющимися волосами, появилась в одну минуту с серым лондонским рассветом, я понял и принял настойчивое желание Микаэлы рожать в домашней обстановке, особенно после того, как сами роды прошли так гладко и легко. Девочка, очевидно договорившись с Микаэлой, которая не издала ни звука в течение всей долгой ночи, только коротко вскрикнула и тут же, стоило мне перерезать пуповину, замолкла. Я передал ребенка из рук в руки моей матери, которая завернула малышку в большое полотенце; руки ее тряслись от волнения, которого я не мог даже предполагать в этой абсолютно несентиментальной, сдержанной женщине.
Позднее, вспоминая эти мгновения, я уяснил себе, что эмоции, от которых затряслись руки моей матери, относились не только к самому факту рождения этого ребенка, с его поразительно густыми волосами, но равным образом и к тому далекому и смутному теперь, покрытому туманом времени воспоминанию о чувствах, которые она испытала некогда, рожая меня, в полном одиночестве и не подозревая, что в ее жизни подобное больше не повторится. Сам я тоже был странно тронут этой черной кудрявой головкой, появившейся из окровавленной материнской утробы, но по причине прямо противоположной – головка моей дочери была совсем не похожа на стриженую голову Микаэлы в тот день первого нашего знакомства, когда я, в гостиной Лазаров принял ее за мальчика. Теперь смуглая малышка тихо покоилась на моей подушке, пока я дожидался, чтобы вышла плацента, с тем чтобы я без спешки мог наложить швы на разрывы в вагине с помощью ниток, принесенных мною из больницы. Я употребил здесь выражение „не спеша“ потому лишь, что Микаэла, вся светившаяся от счастья, видела, насколько горд я тем, что в качестве врача способствовал рождецию собственного ребенка. Но она не имела ни малейшего представления о той цене, которую мне придется заплатить за то, что вынужден был иметь дело с ее кровью, вагиной и плацентой. И когда Стефани, на которую произвело большое впечатление то, как я проявил себя в течение всей этой долгой ночи, под конец пригласила моего отца в спальню взглянуть на его внучку, я не стал дожидаться реакции этого добряка, который всю долгую ночь просидел, не сомкнув глаз, в гостиной, а поспешил в ванную, чтобы смыть то, чем, как я чувствовал, я запятнал и ту не слишком большую любовь, которую я испытывал к своей жене.
* * *
И так велика была усталость, накопившаяся во мне, во всех четырех ипостасях, в которых я выступал в течение всей этой бесконечной ночи – как врач, муж, отец и сын, – что я едва не заснул в теплой, благоухающей ванне, пропустив появление исчезнувшей акушерки, оказавшейся высокой смуглокожей женщиной восточного типа с надменным выражением лица и седыми волосами. Ее таинственное исчезновение объяснилось весьма прозаически: как только она получила наш вызов, она поспешила выйти из дома и тут же попала под машину, когда по переходу шла через улицу. Машина задела ее колено, и в результате ей пришлось несколько часов провести сначала в полицейском участке, а затем в отделении скорой помощи. Поскольку у нее не было номера нашего телефона, а в городской телефонной книге не значилось наших фамилий, она не могла с нами связаться. Однако она не догадалась просто вернуться домой, а под грузом ответственности и скрипя зубами от боли, явилась сюда, чтобы выполнить данное ею обещание, сопутствуемая молоденькой дочерью, с единственной целью – выяснить, нужна ли еще ее помощь. Поскольку роды были уже позади, Микаэла и Стефани были ей рады и предложили сесть в кресло, стоявшее в спальне, – прежде всего, чтобы в подробностях рассказать ей, как проходил весь процесс рождения нашей дочери и как помогло при этом правильное дыхание, которому она научила Микаэлу, превозмогать боль; ну а затем, чтобы она опытным глазом взглянула на ребенка и высказала свое мнение. Они разбудили девочку и положили ее, голенькую, на колени акушерке, которая внимательно осмотрела ее и смазала специальным маслом, которое она принесла с собой. После чего Стефани положила ее обратно в нашу кровать рядом с Микаэлой, поскольку у нее еще не было кроватки, хотя Микаэла и купила заблаговременно все необходимое для ребенка, но она оставила все это в магазине: „Чтобы не вызвать зависть таинственных сил зла до тех пор, пока роды благополучно не завершатся“.
– Не могу поверить, – сказал мой отец Микаэле в полном изумлении. – Современная свободная женщина вроде тебя может говорить о существовании „таинственных сил зла?“
– Конечно, мне не хочется верить в существование этих сил, – шутливо ответила Микаэла. – Но что я могу поделать, если эти силы верят в меня?
Микаэла и Стефани превозносили меня до небес перед акушеркой, которая внимательно разглядывала пуповину, потом похвалила наложенные мною швы, но не могла скрыть своего несогласия с инъекцией, которую я сделал Микаэле с целью ускорить роды. Почему я вдруг так заспешил? – хотела бы она знать. У природы есть ее собственный ритм. Если бы я так не поторопился, она успела бы прибыть и принять в этих родах участие, как положено. Кто знает, о чем она думала в эту минуту – о гонораре, которого лишилась, или о профессиональном достоинстве? Или о том и о другом?
Но сейчас все это уже не имело значения. Мой отец сидел с осунувшимся лицом, и мать попросила меня вызвать для них такси, поскольку не хотела, чтобы я уходил из дому. Но я настоял на том, что сам отвезу их, и вышел, чтобы вывести нашу машину с заднего двора часовни, где мы парковались. Наш маршрут пролегал через утонувшие в тумане лондонские улицы, напоминавшие кадры из времен немого кино, и нам хотелось запомнить его, с тем чтобы когда-нибудь сказать Шиве, как выглядел Лондон в день, когда она родилась.
Когда мы подъехали к воротам маленького садика, окружавшего опрятный коттедж, арендованный родителями, моя мать, также в эту ночь не сомкнувшая глаз, вдруг заявила, что хочет вернуться обратно, чтобы побыть с Микаэлой, с тем чтобы я мог поспать часок-другой на ее кровати рядом с кроватью отца. Не знаю, что ее обеспокоило – может быть, мрачное выражение моего лица… или она уже скучала по новорожденной? Так или иначе, но я отказался, хотя, безусловно, мне не помешали бы несколько часов сна в их приятной комнате, в окружении буржуазного комфорта и тишины типичного английского жилища. Но я не представлял себе, как отнесется Микаэла к моему отсутствию в самые первые часы после родов, а потому я попрощался с родителями, которые горячо обняли меня. Я видел, что они очень счастливы, и густой туман, окружавший нас и напомнивший им об их детстве, только усилил это ощущение. Их просто распирало от гордости за мое умелое участие в родах после всех пережитых ими страхов.
Я тоже был доволен собой и на обратном пути домой, плавно объезжая небольшие молочные фургоны, обдумывал, что мне написать в очередном месячном отчете, который я посылал секретарше Лазара о своей работе в лондонской больнице. Должен ли я упомянуть о том, что я принял дома роды собственного ребенка, что могло быть расценено кое-кем как свидетельство крепнущих отношений с Микаэлой, или мне достаточно просто упомянуть о факте рождения Шивы? Упомянуть так, чтобы любимая мною далекая и непостижимая возлюбленная поняла, что все это означает. Что она может теперь, поскольку все пути открыты, возобновить сладостные наши и тайные отношения, будучи защищена от меня двойной преградой?