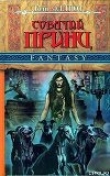Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
ЯВЛЕНИЕ ТЕТКИ СОЛОМОНИДЫ НАРОДУ
Худо пришлось бы домовничать без жены Тимофею Зорину, кабы не соседки. То одна заглянет, то другая – корову подоят, в избе приберут, обед сварят.
Но больше всех заботилась о нем соседская молодайка Парашка Даренова. Прибегала она к нему по утрам. Носилась по дому ветром, гремела ведрами и ухватами, скребла везде, мыла, чистила. В избе после нее долго держался жилой дух – теплый запах печеного хлеба и щей.
Сегодня Парашка пришла рано, подняв Тимофея с печи беспокойным разговором.
– Долго спишь, дядя Тимофей. Колхозники, те давно уж в поле.
– И чего ноне в такую рань в поле делать! – дивился Тимофей, нехотя спуская ноги с печи.
– Али не слышал? Из Степахинской коммуны трактор пришел. Елизарка Кузовлев вечор на ем приехал. Будут с утра Долгое поле пахать.
– Верно ли говоришь? – живо свалился с печки Тимофей.
– Ей-богу. Сама сейчас видела. До выгона корову провожала, глянула, а он на поле стоит. Народу сбежалось – со всей деревни.
Непонятно чем встревоженный, Тимофей молча стал обуваться. А Парашка, бренча около печи посудой, весело тараторила, мешая думать:
– Поди, скоро тетя Соломонида вернется? Письмо, сказывают, получил?
«Проклятые бабы! – ругался про себя Тимофей, с трудом натягивая давно не мазанные сапоги. – И где только пронюхивают обо всем? Никому же я про письмо и слова не сказал. Одна письмоноска только и знает…»
– Чего сыновья-то пишут? – настойчиво донимала его Парашка. – Думают ли домой ехать али в городе останутся?
Тимофей только головой покачал, не зная, на какой вопрос сначала отвечать.
– Ну и сорока же ты, Парашка! Вот уж не задремлет около тебя муженек.
Схватив кочергу, Парашка яростно принялась ворочать в огне сырое полено.
– А какой интерес мне с мужем-то говорить? Из него слова не вытянешь. Молчит, как глина. Вчера с ним в Степахино ходили за керосином да за солью. Вышли из лавки, я и говорю: «Уж так мне, – говорю, – Сема, полусапожки любы, которые в лавке видела!» Прошли с версту, он спрашивает: «Почем они?» – «Не знаю», – говорю. Прошли еще версты две. «Что же ты не поглядела?» – спрашивает. – «Да постеснялась». Стали к дому подходить, он и говорит: «Надо было раньше сказать, вернулись бы».
Тимофей рассмеялся было, но, глянув на Парашку, примолк. Не веселясь шутила она сейчас. Стояла около печки в скорбном раздумье, сжав губы и часто моргая глазами.
– Не поминай ты больше, Христа ради, про мужа, дядя Тимофей. Может, я сюда отдыхать от него прихожу.
Видел Тимофей и сам, что нелегко бабе жилось у Дареновых. За один год не осталось в Парашке ничего от девичьей красы, В лице кровинки нет, нос заострился, скулы так и выпирают под кожей. Одни черные глаза только прежние, огнем горят, да характер веселый остался.
Одного никак не мог понять Тимофей. От женихов отбою Парашке в девках не было, а не шла замуж, выжидала чего-то. Потом с горя, что ли, какого, али по нужде выскочила за Семку. Добро бы парень стоящий был. Одно утешенье разве, что кудрявый. А так ничего в нем путного нет – от людей сторонится, в работе не больно дерзок, да и на руку, говорят, не чист.
– Чего не поладили-то? – посочувствовал Тимофей.
– Говорю, не спрашивай, – отрезала Парашка, сводя тонкие брови к переносице. – Скажи лучше, что сыновья-то пишут?
Тимофей отмахнулся, сердито жалуясь:
– Да что сыновья? Не очень мы им нужны, сыновьям-то! Видать, не приедут! На заводе оба думают жить…
Закрывая рукой лицо от печного жара, Парашка спросила упавшим голосом:
– А Олеша!
Тимофей крякнул с досады на бабье любопытство. В другой раз не сказал бы ничего о сыне, а тут накипело, не стерпел, обмолвился:
– Ты вот про мужа не велишь мне спрашивать, а я тебе про Олешку говорить не стану. Нет у меня Олешки! Нарушил он всю мою жизнь, и сам пропадает невесть где. Была у меня надежда на него, да гнилая оказалась. Отрезанный ломоть – вот кто Олешка, хоть и приехал бы…
Парашка вскочила с табуретки и, ставя ухватом чугунок щей в печь, тихонько подтолкнула Тимофея осторожным вопросом:
– Собирается, стало быть?
– Некуда ему собираться-то! – не ей, а себе сурово ответил Тимофей, не поднимая головы. – Не больно его тут дожидаются, радоваться некому…
Бросив ухват в угол, Парашка со вздохом опустилась на табуретку. Просиявшими от слез глазами долго глядела перед собой. Улыбнулась вдруг счастливо.
– Приехал бы только!
И такую глубокую трепетную радость ожидания почуял в словах ее Тимофей, что оторопел сразу.
– Ты, баба, вижу…
– Ничего ты не видишь, черт старый! – вскочила с места Парашка, часто дыша и сверкая глазами. – Через кого страдаю, думаешь? Через тебя все: кабы не ты, не остался бы Олешка в городе. Когда уезжал он, что ты ему сказал? Домой не велел показываться! Озлился, что кормилец у тебя последний уезжает и хозяйство без него рушится. Не об Олеше, о хозяйстве своем ты больше пекся, а Олеши тебе нисколечко не жалко было. Молоденького такого за порог вытолкал!..
У Тимофея вся кровь ушла из лица. Вцепившись в лавку руками, он испуганно смотрел на Парашку, не мигая и весь подавшись вперед. С трудом выпрямился и зло осек ее:
– Привяжи язык, баба! Дело это наше, семейное. Тебя оно не касаемо.
Парашка припала головой к косяку и заплакала, закрыв лицо руками.
– Думала в семью войти к вам, Тимофей Ильич, – заговорила она робко, сквозь слезы, не отнимая рук от пылающего лица. И пронзила вдруг Тимофея жарким шепотом:
– Уж как я его любила, Алешеньку! Уж так его ждала! Убежала бы тогда за ним, да мама была хворая. Куда ее денешь? Не бросать же!
Подняла голову и уставилась на огонь полными слез глазами, тяжело роняя горькие слова:
– Сказал мне Алешенька-то на прощанье: «Жди, Пашутка, возьму тебя в город, к себе». Я и ждала, знала, что не обманет. А как отписал он мне, что в учение пошел, поняла я сразу – кончилась наша любовь. Хоть и звал нас потом, да раздумала я: зачем ему нужна буду такая темная да еще с хворой мамой! И не стала ему дорогу переходить. Пусть, думаю, учится. А я уж переживу как-нибудь разлуку нашу, перемучаюсь…
Смятенно теребя бороду, Тимофей зарычал:
– Кто вас знал, чего на уме вы с ним тогда держали! – И, представив, какой ладной могла бы сложиться жизнь, будь Парашка за Алексеем, вздохнул сокрушенно:
– Экие вы дураки оба, да и я с вами вместе.
Не поднимая на Тимофея глаз, Парашка поставила на стол яичницу. Заторопилась сразу:
– Идти мне надо, Тимофей Ильич. Наряд с вечера еще бригадир дал – за соломой ехать. Вечерком ужо забегу посуду помыть да в избе прибрать…
Тимофей сидел не двигаясь, опустив бессильно руки и привалившись спиной к стене.
– Обухом ты меня ударила, Парасковья. Спасибо, хоть зла за пазухой не держишь!
Низко нагнув голову, Парашка прошла молча мимо, хлопнула дверью, и сразу же весь дом после ее ухода стал наливаться тяжелой тишиной.
Пополам раскололи Тимофея думы после письма от сыновей, а сегодня и совсем расщепила его, как полено на лучину, своим разговором Парашка.
Все перевернулось в жизни, обломилось, рассыпалось, не соберешь никак: было три сына – не стало около себя ни одного; была семья – теперь остались одни с бабой; было и хозяйство крепкое – идет без ребят прахом. И кто виноват во всем? Что теперь делать? Как дальше жить?
Стал собираться в поле, вяло думая: «Застоялась, поди, вода на полосе после дождей. Не спустишь – вымокнет овес!»
Улицей шел, как в горьком дыму, ничего не видя сквозь слезы, выжатые едкой жалостью к себе.
В поле долго стоял около своей полоски, не снимая лопаты с плеча и испуганно спрашивая себя: «Ладно ли живу?»
Без сыновей на две души выделили нынче земли Тимофею. Протянулась полоска рядом с колхозной межой чуть не на полверсты, а с плугом заедешь, раз пять обернешься – и вся.
Глядя на нее, Тимофей думал тоскливо: «И не стар еще, и сила в теле есть, и душа дела побольше просит, а ткнула жизнь в закуток».
По всему краю поля холодно светлели круглые лужицы, а на полосах Назара Гущина и Тимофеевой разлилась целая омутина.
– Не пахать ли замышляешь, сосед? – захрипел над самым ухом Назар. – Рановато еще.
Он тоже пришел поглядеть на свою полоску.
– Кабы не вчерашний дождь, завтра начинать бы можно, – раздумывал вслух Тимофей. – Воду вон спустить надо…
– Не дело затеял, – встревоженно захрипел Назар. – Старики всю жизнь на этом поле воду удержать старались.
– То на бугре. А здесь – низина.
– Лишняя вода сама укатится, – упрямо возразил Назар.
Неподалеку взрокотал трактор. Оба поискали его глазами. Отрезая себе загон, трактор лениво полз, как жук, поперек поля, оставляя за собой черную дорогу. За ним бежали ребятишки и бабы. Чуть отставая, степенно шли, заложив руки за спину, старики.
– Из Степахина пришел! – пояснил Тимофею Назар. – Для показу.
– Конь добрый!
– Насидятся они без хлеба с этим конем. Наша земля тощая, глубоко пахать ее нельзя. Как вывернут глину наверх, не вырастет ничего. Гляди, к осени-то и разбегутся все опять по своим дворам…
Не отвечая, Тимофей пошел прочь. От длинной лужи стал копать к меже канавку.
– Неладно, сосед, делаешь! – услышал он сердитый окрик Назара, все еще стоявшего у дороги. – Моего согласия не было воду спускать.
Будто не слыша, Тимофей продолжал копать.
– Отступись, говорю! – уже ревел с дороги Назар.
С веселым курлыканьем освобожденная вода покатилась из лужи в межу, а по меже – в придорожную канаву.
И тут услышал Тимофей сзади тяжелые шаги. Выпрямившись, оглянулся. Назар молча шел на него с вешкой, согнув шею и зло округлив ястребиные глаза. Все, что терзало Тимофея и мешало ему жить в последнее время, сейчас как бы обратилось в Назара и вот, оскалив зубы, лезло драться. Опаленный гневом, Тимофей высоко взмахнул лопатой.
– Не подходи, голову сшибу!
Вид его был так страшен, что Назар остановился сразу и, пятясь назад, выронил вешку.
– Брось, Тимоха… – белея, закричал он свистящим шепотом. – Говорю, брось!
Круто повернулся и побежал. А выскочив на дорогу, ссутулился вдруг и, с трудом передвигая ноги, тихонько пошел прочь, жалкий, пришибленный.
Холодея от мысли, что чуть не убил человека, Тимофей бросил лопату и побежал за ним.
– Назар Тихонович!
Тот, втянув голову в плечи, шел не оглядываясь.
Тимофей закричал еще громче.
Назар замедлил шаги и стал к нему боком, не поворачивая головы.
– Вернись-ка!
Постояв минуту в раздумье, Назар повернулся и так же тяжело и медленно, не поднимая головы, пошел обратно.
– Ты уж извиняй меня за горячку, Назар Тихонович, – срывающимся голосом попросил Тимофей. – Чуть беды мы с тобой не наделали. А из-за чего? Стыд сказать, лужу воды не поделили…
И махнул рукой, садясь на колхозную межу.
– Жизнь проклятая! Друг дружке горло готовы перегрызть.
Назар молча опустился рядом и вынул кисет. Руки его мелко дрожали.
Тимофей с надеждой и сочувствием заглянул ему в лицо.
– Извиняешь, что ли?
– Не могу сразу, Тимофей Ильич! – опустил голову Назар. – Сердце не дозволяет. Дай остыну маленько…
Оба помолчали тягостно.
– Я, Назар Тихонович, так думаю: менять нам свою жизнь надо! – первым заговорил твердо Тимофей.
– На колхоз? – качнулся в сторону Тимофея Назар. – К Савелке Боеву да к Ефимке Кузину под команду? Не, я погожу.
Снял с ноги опорок, выбил из него песок и опять качнулся к Тимофею:
– Кабы там, в колхозе-то, хозяева хорошие были – можно бы рискнуть. А хорошие-то хозяева, как погляжу я, не больно туда идут…
– Илья Негожев пошел же… – напомнил ему Тимофей.
Назар усмехнулся.
– Этот с испугу, как бы голоса не лишили!
– Костя Кузин тоже там…
– Этого сыновья понужают. Комсомольцы оба. А сам он ни в жизнь не пошел бы.
Устало вытирая пот со лба холщовой варежкой, Тимофей не сдавался.
– С умом и сообща жить можно. Кабы войти туда всем настоящим-то хозяевам, повернули бы дело по-своему.
Назар хохотнул:
– Думаешь, волю тебе там дадут? Нет, брат! Нонеча тот и пан, у кого пустой карман. А хозяева настоящие не в чести…
Оба замолчали и поднялись с места, видя, что трактор идет по дороге к ним, на колхозную межу.
Трактором правил весь черный от машинного масла Елизар Кузовлев. Рядом бежал Савелка Боев, возбужденно крича что-то и размахивая руками. А сзади, сунув руки в карманы, неторопливо вышагивал длинноногий, как журавль, председатель колхоза Трубников.
– Здорово, единомученики! – замахал еще издали рваным картузом Савелка.
Заворачивая трактор с дороги на межу, Кузовлев тряхнул лобастой головой.
– Твоему Бурке помогать приехали, дядя Тимофей!
Он заехал на Тимофееву полосу, опустил плуги. Трактор натужно затрещал, весь окутался вонючим дымом и пошел вперед. Из-под плугов вырвались четыре широких пласта и легли вправо.
Мимо оторопевшего Тимофея со смехом пробежали бабы. Улыбаясь и покручивая тонкие усы, прошагал Трубников.
– Сто-ой! – испуганно закричал Тимофей.
Но за шумом трактора его никто не услышал. Тогда он побежал вперед, размахивая руками.
– Сто-ой!
Услышав крик, Кузовлев остановил трактор и оглянулся.
– Не дам портить землю! – кинулся к нему Тимофей – Поезжай долой с полосы. Здесь не место озоровать.
Улыбка сошла с лица Кузовлева.
– Мы же, дядя Тимофей, помочь хотели, – виновато заговорил он. – Никакого озорства тут нету.
– Не надо мне такой помощи!
Подошел Трубников, спокойно щуря рыжие глаза.
– Это почему же?
Тимофей ткнул сапогом в тяжелый сырой пласт.
– Не видишь разве: добрую почву вниз хороните. Пять годов теперь урожая ждать надо, пока этот ил хорошей землей будет.
– С умом делать надо… – захрипел сзади Назар, – Разве так шутют? Без хлеба людей оставите.
Трубников взял горсть земли сверху пласта и помял его в ладони. Слез с трактора и подошел Кузовлев, смущенно почесывая шею.
– Дядя Тимофей верно говорит, Андрей Иванович… Глубоковато пашем.
Трубников разжал кулак и стряхнул с ладони землю.
– Пусти помельче.
Пока Кузовлев устанавливал плуги и пробовал их, Тимофей, все еще сердясь, хмуро выговаривал председателю:
– Ты, Андрей Иванович, человек заводской, земли нашей не знаешь, а мы ее тут всю своим потом просолили. А коли не знаешь, так у нас спрашивай. Вот вы здесь вдоль ската пахать начали, это правильно: пусть лишняя вода по бороздам укатится, потому как место тут низкое и влаги земле хватит. А пошто на бугре вдоль склона пашете? Там поперек пахать надо, чтобы влагу удержать. На том бугре хлеб каждый год выгорал из-за малой влаги в земле. Пока там полосы единоличные были, нельзя было поперек пахать. А вам это разве препятствует?
Все время неодобрительно прислушиваясь к разговору, Савелка Боев презрительно сплюнул:
– Как хошь паши, это не влияет. Ежели заборонили, куда воде деться? Главное – назьму побольше.
Тимофей на Савелку не оглянулся даже.
– Ты его, Андрей Иванович, не слушай, хоть он и колхозник. Никогда у него хлеб путный не рос. А я по-доброму говорю. У меня сердце не выдерживает глядеть, как землю зря мучают.
Теребя рыжую бороденку, Савелка обиженно попенял Трубникову:
– Не дело это, когда единоличники начинают колхозников учить.
И уязвил Тимофея:
– Указывать-то ты мастер, да только со стороны. Из колхоза-то убежал небось!
Неожиданно для себя Тимофей ответил кротко:
– Будет время – приду.
– На готовенькое? – сердито оскалил зубы Савелка. – А как не примут?
– Примешь! – уверенно и строго ответил Тимофей. – Куда ты меня денешь?
– Вались на все четыре!
Дрогнувшим от обиды голосом Тимофей укорил Савелку:
– Ты хоть и партейный, Савел Иванович, а неправильно судишь. Советская власть середняка от себя не отталкивает, а ты меня прочь пихаешь…
– Так то середняка, а ты кто? У тебя вся психология зажиточная.
Тимофей выпрямился, огладил широкую русую бороду, в голубых глазах его полыхнул гнев.
– Я, Савел Иванович, сам до революции на Бесовых батрачил. Я хозяйство нажил своим горбом. Чужих не нанимал.
– Не нанимал, а небось приглядывал уж… – одиноко засмеялся Савелка, оглядываясь кругом и ища поддержки.
Возившийся вместе с Кузовлевым около плугов Трубников спросил:
– Глянь-ка, Тимофей Ильич, не мелко ли будет?
Смерив пальцем толщину пласта, Тимофей махнул рукой.
– В самый раз. Поезжайте с богом.
Идя рядом с председателем и Савелкой за трактором, тревожно думал: «Раз партейные против меня, не примут в колхоз!»
Но вдруг Трубников обогрел его доброй шуткой:
– Как в колхоз вступишь, мы тебя, Тимофей Ильич, главным агрономом поставим. Портфель дадим для важности. И очки. Будешь как профессор.
Вторым заходом трактор захватил остаток Тимофеевой полоски.
Остановились покурить.
– Ставь вешку! – потребовал Савелка. – А то не разберемся после, где твоя земля, где колхозная.
– Мы чужого не захватим… – заворчал с дороги Назар. – Не потеряли совесть, как некоторые…
Все еще толкаясь около трактора, бабы весело судачили:
– Куда лошадей-то будем девать?
– Да и мужикам теперь на пашне делать нечего.
– А когда же, бабы, нам-то облегчение выйдет?
Колченогий солдат Лихачев, постукивая по колесу трактора батогом, утешил их:
– И вам, бабоньки, скоро выйдет облегчение. Мужиков для работы железных наделают, а ваши будут только вас любить да вино пить. В Америке, сказывают, одного уж сделали из железа, для пробы. Сам на работу ходит. Только не больно красив: морда у него чугунная…
Народ стал расходиться понемногу. Но суждено было курьевцам увидеть в этот день еще одно чудо.
В ясном небе послышалось вдруг рокотание, словно заиграл где-то тетерев.
Закинув головы, все начали смотреть по сторонам.
– Это ероплан! – убежденно заявил Лихачев. – Уж я-то знаю. Не раз от него в окопы сигал.
И показал батогом в небо.
– Вон он! Сюда летит.
Бабы испуганно кинулись к дороге и сбились в кучу, старики, с опаской поглядывая на быстро приближающуюся сухокрылую птицу, стали отходить прочь.
Скоро около трактора остались человек десять мужиков да бесстрашные ребятишки.
Кружась над полем, как ястреб, самолет пошел на посадку и скоро снизился так, что на боку его можно было разобрать красную надпись: «Вступайте в Осоавиахим!»
Поперек поля галопом пробежала обезумевшая от страха лошадь, волоча за собой длинную веревку.
А самолет оседал над землей все ниже и ниже, вот под колесами его заклубилась рыжая пыль…
– Сел, братцы! – крикнул Лихачев и быстро заковылял вперед. Обогнав его, пустились во весь дух к самолету ребятишки.
На земле крылатая машина была вовсе не страшной. Из нее вылез сначала один человек, потом помог вылезть другому. Оба постояли немного, попрощались друг с другом за ручку. Первый снова забрался на спину машине, а другой пошел к дороге, качаясь, все равно что пьяный.
– Баба! – с удивлением сказал кто-то.
А самолет заурчал опять и тихонько побежал полем к лесу. Чуть не задев колесами верхушки берез, поднялся, сделал круг над полем и скоро пропал из глаз.
Теперь уже все глядели на идущую женщину.
– К нам! – тревожно загалдели старики.
– Отчаянная какая! – ахнула одна из баб. – На ероплане летает. И чего ей тут нужно?
Чем ближе подходила женщина, тем больше дивился народ.
– Пожилая, видать.
– Глядите-ка, зонтик в руке-то!
– А как же: скрозь облака летела!
Женщина шла неторопливо и важно: видать, была из городских – в длинном черном пальто и белой косынке, несла в руке небольшой черный чемоданчик, а зонтиком подпиралась.
– Докторша! – определил уверенно Лихачев. – Не иначе, оспу всем прививать будет али уколы делать.
– Может, какой представитель власти из центра? – гадал Тимофей. – По срочной надобности, должно…
Все затихли сразу.
И вдруг Елизар Кузовлев, которому с трактора виднее было, засмеялся:
– Братцы, а ведь это тетка Соломонида!
Но никто этому не поверил, пока та не подошла ближе и не поклонилась всем.
– Здорово, родимые!
От удивления никто ей не ответил. Тимофей оторопело смотрел на свою жену: она и не она! Подавая мужу руку лодочкой, Соломонида и ему поклонилась низко.
– Здравствуй, Тимофей Ильич! Привет тебе шлют детки наши.
Обступили тут все Соломониду кругом, оттерли Тимофея в сторону и проходу ему к жене не дают. Савелка Боев шугнул прочь ребятишек, усадил ее рядом с собой, на канавке.
– Ну-ка, сказывай, что там за околицей-то деется?
А Назар Гущин, напустив дыму в черную бороду, потребовал:
– Делай доклад, Соломонида!
Принялась Соломонида рассказывать по порядку: и как к сыновьям ехала, и что в дороге видела, и о чем народ ноне толкует.
Мужики слушали ее не перебивая, наклонив раздумчиво головы и осторожно покашливая.
Бабы так и застыли немотно. Ребятишки пораскрывали рты, как изморенные жарой галчата.
Долго рассказывала Соломонида, а когда приумолкла, Назар Гущин вытянул длинные ноги и, разглядывая свои опорки, тряхнул плешивой головой.
– Видать, вся Расея в одну сторону качнулась.
Не то жалея, не то радуясь, Константин Гущин досказал за брата:
– Теперь не будет мужику дороги назад. Шабаш!
Савелка Боев, пощипывая рыжую бороденку, сердито оскалил мелкие зубы:
– Поехал, так не оглядывайся!
Константина передернуло от этих слов. Повернув к Савелке узкое корявое лицо, он зло напомнил:
– Тебе оглядываться незачем. У тебя ничего с воза не упало. А я в колхоз пару коней да трех коров свел…
– Будет вам! – выругал их дядя Григорий и закашлялся, согнув костлявую спину. – Дайте послушать человека! Говори, Соломонида…
Но та встала и – к трактору. Обошла его кругом, заглянула под низ.
– Не пропали мои хлопоты зря. Прислал и нам Алексей Федотыч машину. Хороший мужик, дай бог ему здоровья!
– Это из коммуны! – важно пояснил Елизар, похлопывая трактор по железной спине. – На время нам даден…
– А в коммуну-то кто его прислал? – нимало не смутясь, возразила Соломонида. – Тот же Алексей Федотыч!
Повернулась к мужу, все еще растерянно стоявшему в стороне.
– Пойдем-ка, Тимофей Ильич, к дому.
Тимофей опамятовался, спросил строго:
– Кто же тебя на ероплан-то пустил?
– Ребята наши. Билет в лотерею выиграли, куда хошь по нему лети. Взяли да и отдали мне.
– А ты и рада, угнездилась! Не подумала небось, что оттуда и свалиться недолго…
– Хорошо доехала, Тимофей Ильич, как в санях. Раза четыре всего и опускались только – чаю попить да митинг сделать. Уж не гневайся, ради бога.
По улице шла Соломонида важно, не торопясь. Ребятишки за ней хвостом, бабы, завидев, каменно стыли в окнах, встречные мужики молча снимали картузы.
На крылечке одарила Соломонида ребятишек всех до единого конфетами, перекрестилась и вошла в дом. Не раздеваясь, села на лавку. В избе чисто прибрано, самовар на столе сияет, как солнце.
Пошутила:
– Уж не молодуху ли, старик, без меня завел?
Тимофей не остался в долгу:
– У Семки Даренова Парашку отбил.
– Молодец! Экую умницу да красавицу захороводил!
Сняла пальто, косынку, села опять на лавку, наглядеться на родные стены не может.
– Ну, мать, сказывай, как сыновья живут.
– Хорошо живут, Тимофей Ильич. К себе звали. Нечего, говорят, вам в Курьевке делать.
Тимофей усмехнулся сердито.
– Дураки. Куда я от земли поеду? Тут отцы наши и деды жизнь прожили. И нам тут умирать.
Стукнула вдруг на крылечке дверь, пробежал кто-то босиком сенцами. На пороге – Парашка. Схватилась за сердце, сама белая вся, еле дух переводит.
– Здравствуй, тетя Соломонида.
– Здравствуй, милая, – обняла ее Соломонида. – Спасибо тебе, мужика моего не бросила тут. Вот я тебе, умница, подарок привезла. Ребята послали.
Вынула из чемодана голубенькое платье и бросила молодайке на руки. Потом достала платок кремовый цветной с васильками.
– А это от Олешеньки. Сам для тебя и выбирал.
Парашка задохнулась совсем, слезы сверкнули у ней в глазах. Прижав платок к груди, выбежала вон.
Глянула Соломонида вслед ей, потом на мужа – тот не шелохнется. Вздохнула про себя: «Пень старый, и тут ему невдомек. Баба-то по Алексею, видать, сохнет который год!»
Проговорили весь вечер. Как спать ложиться, спросила Соломонида обиженно:
– Что же, отец, об Олеше-то не спрашиваешь?
И, не дождавшись ответа, укорила сквозь слезы:
– Ведь он – кровь наша родная. Чего уж сердце на него такое держать!
Опять ничего не сказал Тимофей.
Улеглась Соломонида и, словно сама перед собой, погордилась:
– Не узнать парня-то! Уж такой ли видный да красивый, такой ли умный да обходительный! Одет чисто, и разговор-то, слышь, у него городской. Ужо выучится – должность какую ни то дадут…
Повернулся Тимофей на бок.
– Пусть живет, как знает.
По голосу поняла Соломонида, оттаяло у мужа на сердце.
– А насчет колхозу-то надумал ли, Тимофей Ильич?
И, помня Васильевы слова, погрозила:
– Мотри, старик. Сейчас сам не идешь, а потом и на коленки встанешь, а не будут примать. У Советской власти терпенья не хватит дожидаться тебя…
Ничего не ответил Тимофей. К столу сел, уронил голову на руки, задумался. Да так и просидел до третьих петухов.
Утром напился чаю, к окну подошел, бородой поигрывает, на улицу все поглядывает. За тридцать лет изучила Соломонида характер мужний: «Надумал что-то!»
Хоть и знала, что не скажет, а не утерпела, спросила, когда из дому уходил:
– Куда наладился-то?
Голос хоть и сердитый, а сам шутит:
– Все бы ты знала, греховодница!
Только вышел, кинулась Соломонида к окну. Идет Тимофей Ильич по улице, руки назад закинул, бороду кверху держит, торопится куда-то.
Повернул к колхозной конторе и стал подниматься на крутое крыльцо.
Перекрестилась Соломонида:
– Слава тебе, господи, наставил мужика на путь истинный!