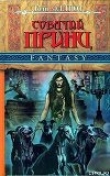Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Видя, что Матрена собирается идти, Ефросинья остановила ее:
– Сиди. Придет твой, никуда не денется.
И любопытно спросила:
– Баба-то у него когда приедет?
– Вот уж и не знаю. Не больно, видно, охотит сюда…
– Известно, городская. Чего ей тут делать-то! Ребятишки-то есть у них?
Матрена вздохнула жалостно, покачала головой.
– Девчоночка была, да померла в прошлом году. Такая, говорит, была умница да красавица. В школу уж ходила. Тоскует он об ней шибко. Иной раз до свету у окошка сидит, книжки да ленточки ее из чемодана достанет, на карточки смотрит…
– Знамо, жалко! – согласилась Ефросинья.
– Хороший больно мужик-то! – растроганно продолжала старуха. – Ходовый такой да великатный, слова черного от него не услышишь. И по хозяйству помочь старается: то дров наколет, то воды принесет. А раз хворала я, так щи сам сварил, ей-богу. Хорошие щи вышли, такие наварные…
– Диво-то какое! – всплеснула руками Ефросинья. – И не стыдится нисколько?
Матрена махнула рукой на нее.
– Что ты! А на той неделе, как ясли эти самые открывать, пошел туда. Бабы там стряпают, накануне-то. Поглядел он, говорит: «У вас там немного белой муки есть да сахару. Пряники ребятишкам сделать надо». – «Да как их, Андрей Иванович, делать-то?» – «А я, – говорит, – научу вас». Надел, слышь-ко, фартук да стал сам пряники делать. Вот те и мужик.
– Матушки мои! – все больше дивилась Ефросинья. – На фабрике-то, видно, всему научат…
Тимофей бросил окурок и поднялся, глядя из-под руки в ту сторону, где шуршала и шипела под косами мокрая трава.
Словно солдаты на учении, косари, развернувшись в цепь, наступали из редкого кустарника ступенчатым строем по открытой широкой поляне. Всю цепь вел за собой мужик в синей рубахе с расстегнутым воротом. Мерно взмахивая сверкающей косой, он чуть не кругом поворачивался вместе с ней и после каждого взмаха подвигался мало не на полшага вперед.
Тимофей сразу, по ухватке, признал в нем Елизара. Мастер был косить Елизар! Уж ежели возьмет прокос, так в целую сажень шириной, да так чисто сбреет любую траву, что после него на пожне хоть в бабки играй. Лучше-то косаря не было, пожалуй, не только в колхозе, а и во всей деревне.
Вон и сейчас увязался за ним Савелка, тяпает, тяпает косой-то, да куда ему: не только Елизара догнать не может, а и другим ходу не дает. Вторым-то надо бы не Савелке, а Гущину Косте идти; тот, ежели раскачается, может еще за Елизаром тянуться. А за Костей Ефима Кузина поставить бы – он от Кости не отстанет. За Ефимом пускай бы Семка Даренов шел, а уж за Семкой-то и пустить бы Савела, чтобы он подгонял его, лодыря, пятки бы ему резал…
Выбившись, видно, совсем из сил, Савел остановился, вытер лицо рукавом и второй раз подряд начал неторопливо точить косу, чтобы передохнуть хоть немного. Поневоле остановились и другие и тоже начали раньше времени точить косы.
«На Савела равняться, так немного скосишь!» – раздумывал Тимофей, спеша стороной к своей пожне.
Меж редких кустов, у самого березняка, он неожиданно наткнулся на Андрея Ивановича с Ромкой Синицыным. Оба старательно тяпали косами на маленькой лужайке.
– Бог в помощь! – снял картуз Тимофей.
Ромка, не останавливаясь, сурово ответил:
– Без бога обойдемся.
Трубников же улыбнулся Тимофею смущенно.
– Косить вот учимся. На людях-то неловко, так мы уж сюда ушли…
Плюнул в ладони и снова замахал косой, не поворачивая головы и плеч, выпятив смешно грудь и вышагивая длинными ногами, как журавль.
– Дай-ка сюда косу-то! – хмуро потребовал Тимофей. – Эдак ты часу не покосишь, как из тебя и дух вон.
Встал на прокос, попробовал, крепко ли косьевище.
– Гляди, как надо. Пятку косы плотнее к земле прижимай, а сам наклонись маленько, а то больно уж гордо держишь себя. Да шагать-то не спеши – траву оставляешь. Ну-ко, становись!
Трубников покорно встал, как учил его Тимофей, начал косить.
– Смотри-ка, пошло! – обрадованно закричал он, уже не останавливаясь и не глядя больше на Тимофея, чтобы не сбиться.
– Опять торопишься! – сердито закричал ему Тимофей. – Переступай на пол-лаптя, не больше, гребни оставляешь.
Подошел к Ромке, показал и ему, как держать и точить косу.
Тот приладился скорее Трубникова и, сияя всем лицом, стал догонять его.
Как раз в это время, переходя на другой участок, около них задержались на минуту все косари.
Бабы тут же принялись вышучивать Трубникова.
– Андрей Иванович! – кричала ему Парашка. – Заднюю-то ногу подальше отставляй, а то она вперед у тебя забегает.
– Ой, бабоньки, до чего мужик старательный! – хвалила его другая баба. – Ни травинки не оставил.
– От Ромки и то не отстает! – удивлялась Настя.
– За таким мужиком не пропадешь!
Трубников, весь красный от смущения, бросил косу и стал закуривать. К нему подошли Елизар с Савелом. Виновато водя утиным носом из стороны в сторону и взглядывая недовольно на Тимофея, Савел сказал:
– Не управимся мы тут за три-то дня, Андрей Иванович…
– Пожалуй, не успеть, – угрюмо поддержал его Елизар. – Трава ноне густая, уборки много будет.
– Как же это так, товарищи дорогие? – широко открыл сердитые рыжие глаза Трубников. – Плануем одно, а делаем другое. Да мы через три дня должны в Луговом уж быть. К тому времени у Синицына там уборки много будет, не справятся они без нас. А ну как дождь зарядит – пропадет ведь сено-то!
Все приумолкли, не глядя друг на друга. Собираясь уже уходить, Тимофей несмело сказал:
– Мое дело – сторона, конечно. А только гляжу я – косари у вас поставлены неладно. Друг дружке ходу не дают. Кабы разойтись им на разные участки человек по пять, да каждой пятерке хорошего косаря дать, чтобы за ним все другие тянулись…
Савел перебил его, зло скаля зубы:
– Ты, Тимофей Ильич, есть мелкий собственник и судишь по-единоличному, толкаешь нас на подрыв колхоза, чтобы мы опять врозь, а не сообча работали…
– Сохрани бог! – испугался Тимофей. – Хотел я как лучше, от чистого сердца. А вы, Савел Иванович, глядите сами, вам виднее, вы – хозяева…
– Хотел как лучше, а советуешь как хуже! – обрезал его Савел.
Елизар, покосившись на него, сердито засопел.
– А ведь Тимофей-то Ильич верно говорит! – улыбнулся неожиданно Трубников. – Разведем людей, как он советует, на разные участки, задание им установим. Живей дело-то пойдет. И бояться тут нечего: хоть и на разных участках, а на колхоз же будут работать люди, да еще лучше. Какой же это подрыв?
– Опять, значит, к чересполосице переходить будем? – усмехнулся зло Боев. – Опять межи делать? Знаю, что и Синицын будет на это несогласный.
Тимофей, не дослушав спора, пошел прочь, вяло думая: «Канитель одна. Народу много, а порядка нет. Того гляди, передерутся!»
Соломонида уже давно распрягла Бурку и косила одна. Тимофей звонко поточил литовку и, приминая сырой мох, так что он пищал и чавкал под ногами, пошел за ней следом. За голенища сапог посыпалась с подрезанной травы холодная тяжелая роса. В одной рубахе было свежо. Но скоро Тимофей разогрелся и, привычно водя косой, весь ушел в хозяйские думы.
Косили, не отдыхая, пока солнце не поднялось над лесом и не начало припекать спины. После завтрака Тимофей нарубил кольев, сделал два остожья. Вечером опять косили по росе дотемна, а трава не убывала.
«Эх, кабы ребята были дома! – жалел Тимофей. – А одни-то мы со старухой пропутаемся тут ден пять!»
На третий день поставили один стожок и прилегли отдохнуть, но даже под березой, в тени, было до того душно и жарко, что не могли поспать и часу. Только встали, как за лесом сердито прокатился гром.
«Хорошо, что успели застоговать до дождя-то!» – радовался Тимофей, поглядывая на небо. Серо-синяя туча тихо и грозно поднималась из-за еловой гривы в знойное небо.
– Глянь-ко, отец, – засмеялась Соломонида, – скоро дождь будет, а колхозники копны разбили, да спать улеглись. Не жаль, видно, добра-то…
– Они по своему уставу живут, – равнодушно оглянулся Тимофей. – Мы-то свое сено убрали сухое, чего нам о людях горевать.
Но когда сверху упала на лицо холодная капля, не вытерпел, поднялся на ноги. Обеспокоенно глянул опять на небо.
– И то: сгноят ведь сено-то!
Ругаясь, кинулся чуть не бегом на колхозную пожню. Соломонида постояла, постояла одна, взяла грабли и пошла следом за мужем.
Около растрясенных копен спали под солнцем, раскинув руки и открыв рты, двое парней. В сторонке, под ракитой, белели платки девок.
Тимофей пощупал сено, покачал головой.
– Стоговать надо, хозяева!
Первым открыл припухшие мутные глаза Семка Даренов. Поглядел, ничего не понимая, на Тимофея и повернулся на бок, свернувшись калачом.
Тимофей опять пощупал сено, гневно крикнул:
– Ну-ка, вставайте!
И видя, что никто не шевелится, заорал что есть силы:
– Вы, что, оглохли? Ежели так хозяйствовать будете, по миру пойдете.
Взял вилы, пошел к остожью, говоря Соломониде:
– Клади стог, а я подавать сено буду.
Пристыженные ребята и девки молча разобрали грабли. Соломонида приняла от мужа в остожье первый навильник сена.
– А ну, поворачивайтесь живее! – зашумел опять Тимофей. – Успеть надо до дождя-то.
Словно подгоняя людей, сухо треснул гром, редкие капли дождя упали сверху.
Как на пожаре, быстро забегали все по лугу. Тимофей уже не успевал теперь подавать на стог сено, которое подносили ему со всех сторон.
– Клади в копну! – скомандовал он.
Соломонида со стога кричала ему:
– Гляди, не кособокий ли выходит стог-то у нас?
– Вправо побольше распусти!
Сенная труха вместе с потом ползла у него по горячей спине и бокам, вызывая нестерпимый зуд. Но некогда было даже почесаться. Туча висела прямо над головой.
– Шевелись! – то и дело покрикивал на колхозников Тимофей.
Только успели завершить стог и очесать его кругом граблями, как полил крупный дождь.
– Ну вот! – оглядел любовно стог Тимофей. – Хорошее будет сено. Молодцы, ребята. Не прозевали.
Но тут же тоскливая мысль остудила его: «Чего радуюсь-то? Не себе ведь застоговал!»
Явился откуда-то Кузовлев, задыхаясь от быстрой ходьбы и вытирая шапкой мокрое лицо. Увидел Тимофея с вилами, подошел ближе.
– Вот спасибо тебе, Тимофей Ильич, что помог. А уж я думал, замочили тут ребята сено-то. Теперь можно и домой.
Помялся неловко, сказал:
– Не останемся в долгу перед тобой, Тимофей Ильич!
Бросив чужие вилы в куст, Тимофей потускнел сразу, хмуро говоря:
– Вижу, пропадает добро. Хоть и не свое, а все жалко.
Пошел, не оглядываясь, опустив голову, к своей пожне. Соломонида – за ним, часто шаркая новыми лаптями.
Решив съездить на денек домой, Тимофей стал запрягать Бурку.
– Вот и думай тут, как жить-то! – рассуждал он сердито вслух. – Пойдешь в колхоз – хватишь там горя с такими работниками.
Соломонида молча укладывала все на телегу, ни словом не перебивая мужа.
– Кабы робята приехали, можно бы и одним прожить. А ну как в городе они совсем останутся? Тогда как?
– Уж и не знаю, право… – усаживаясь в телегу, вздохнула Соломонида. – Гляди сам, тебе виднее.
Тимофей с сердцем вытянул Бурку концом вожжей.
– Вот и ломай тут отец голову за них! Хоть бы отписали, обломы, как дальше-то хотят, домой ли ладятся, али зимогорить будут!
Долго молчали оба. Потом Соломонида спросила спокойно:
– Когда ехать-то мне?
– Куда? – опешил Тимофей.
– Да к робятам-то!
Как ни силился, а не мог сейчас припомнить Тимофей, когда же это посылал он жену ехать в город к сыновьям. Вроде думал только об этом. Разве что проговорился ненароком?
Не выдал себя, однако, заворчал:
– С весны еще надо ехать было, а то схватилась в самую страду! Сколько раз говорил я тебе: «Поезжай, баба!» Нет, свое твердит: «Успеем!» Вот те и успела! Бабы так бабы и есть: хоть кол вам на голове теши!
Соломонида притворилась виноватой, смолчала, рукой по глазам провела, будто слезы вытирает.
Покосился на нее Тимофей, обмяк немного:
– Вот уберем хлеб, тогда и командирую к ним. Узнай там, как и что. Да не давай им потачки-то, домой требуй всех. А пока не явятся, как-нибудь пропутаемся одни.
Полем ехали уже в сумерки. Домой Бурка шел веселее, без вожжей. Сморенный усталостью, Тимофей начал уже дремать, как вдруг Соломонида испуганно принялась трясти его за плечо.
– Отец, глянь-ко!
Подняв голову, увидел Тимофей: не путем, не дорогой бежит поперек поля человек и все назад оглядывается, будто кто гонится за ним. Упал человек лицом вниз, катается по траве с криком и воем, а сам землю руками царапает, словно зарыться в нее хочет. Вскочил опять на ноги, кинулся вдоль поля, упал, опять вскочил…
Холодея от предчувствия беды, понял Тимофей, что сделал человек этот что-то страшное, бежит от себя в смертной тоске и ужасе и не может никак убежать.
– Сто-ой! – закричал Тимофей, сваливаясь с телеги.
Человек метнулся к овинам и пропал.
Хрустнула где-то изгородь. Залаяла собака за околицей.
– Не пожар ли? – охнула, крестясь, Соломонида.
Но в деревне было темно и тихо.
И тут пронзил ночную темень истошный бабий крик откуда-то из конца поля:
– Лю-юди! Сюда-а-а!
Тимофей побежал прямиком, на крик. Слышно было, как у околицы заскрипели ворота и кто-то погнал там верхом на лошади в поле. За ним, отставая, поплыли в темноте за деревню к овинам, белые рубахи мужиков и бабьи платки.
А тонкий протяжный вой все стоял в воздухе:
– Лю-юди! Сюда-а-а. Скоре-е-е! Председателя нашего убили. О-о-о!
За овинами быстро густела толпа. Тимофей выбежал на дорогу и кинулся туда, обгоняя людей. Протолкнулся, тяжело дыша, сквозь плотный круг мужиков, заглянул в середину его через чьи-то плечи. Словно обнимая землю, Синицын лежал на черном песке лицом вниз, широко раскинув руки.
За спиной Тимофея тихонько плакали бабы, переговаривались вполголоса мужики, над самым ухом вздыхал горько Яков Бесов:
– Господи, твоя воля!
Раздвигая народ, вышел из круга Елизар Кузовлев, спросил кого-то:
– Василий, за милицией послал?
И приказал строго:
– Отойдите от тела! Сейчас караул поставим.
Срывающимся голосом Тимофей, оглядывая всех, закричал:
– Братцы! Товарищи! Тут он, убийца проклятый, среди нас. Видел я его, как полем он сюда бежал…
Сразу умолк говор, перестали плакать бабы и ребятишки. В страшной тишине слышен стал только тонкий плачущий голос Якова Бесова:
– Не допускайте Ромку-то сюда, бабы, не допускайте. Не испугать бы мальчонку-то!
ТЕТКА СОЛОМОНИДА В КОМАНДИРОВКЕ
1
Не один день и не одну ночь летел без устали скорый поезд, летел так, что в частокол сливались за окном телефонные столбы, а не было родной земле ни конца, ни края.
Все так же раздвигались вширь зеленые просторы, и все так же вздымалось и распахивалось над ними голубое небо с белогрудыми облаками; все так же неслись навстречу во весь дух семафоры и водокачки, мосты и придорожные будки, разъезды и полустанки; все так же мелькали по обочинам дороги белые сугробы известки и оранжевые штабеля кирпичей, а вдали тянулись друг за другом разрезанные просеками синие острова лесов и бурые торфяники, насквозь пронзенные светлыми канавами, словно стальными иглами; все так же кружились плавно по обеим сторонам серенькие деревушки, лиловые пашни и зеленя, а по самому горизонту в сизом тумане гари проплывали величаво заводы и электростанции, густо дымя, как крейсера в походе, всеми трубами…
Когда поезд останавливался хотя бы на минуту, его брали приступом обородатевшие сезонники с топорами, сундучками, пилами. Но едва только успевали влезть они в тамбуры, на крыши и на подножки вагонов, как поезд срывался с места и летел дальше.
…Ни большой узловой станции сезонники стиснули боками, внесли в вагон поезда какую-то щуплую бабу в клетчатом платке и холщовой безрукавке. Кончив кричать, баба с испугом оглядела, целы ли у нее мешочки, узелки и банки, и теперь сама начала пробиваться вперед, бойко работая локтями.
– Куда ты лезешь, тетка? – закричали со всех сторон. – Стой себе на месте! – Не видишь разве: народу-то – что в мешке картошки!
Но баба, едко ругаясь, упрямо пробивалась поближе к окошку. Навстречу ей поднялся тощий попик в рваной рясе и порыжевшей шляпе. Обеспокоенно моргая красными глазами, спросил:
– Не Хлебную ли проехали?
– Ее, батюшка! Сходи поскорее… – заторопила баба. И не успел попик приподняться, как она тут же прочно укрепилась на его месте, кругом обложив себя узелками и мешочками.
На верхних полках засмеялись.
– Омманула она тебя, батюшка!
– До Хлебной-то еще две остановки!
Попик обернулся, но сесть было уже некуда.
– Грех обманывать! – покачал он с укором головой.
Баба неожиданно улыбнулась и созналась добродушно:
– Верно, батюшка, обманула. Грешна! Устала-то уж я больно: два дня на станции сидела не спавши…
И опять так же добродушно решила:
– Ну разок-то и обманула, так ничего! Потерпи, батюшка. Вы нас тыщу лет обманывали, а мы все терпели!
Кругом засмеялись. Сконфуженный попик молча заторопился к выходу.
– Ну до чего же ядовитая тетка! – выругался кто-то с восхищением.
А баба сняла платок, пригладила встрепанные волосы и весело оглянулась кругом.
– Я, милые мои, хоть и в бога верю, а попов не люблю. На всю жизнь обиду на них имею!
– Отчего же так? – полюбопытствовал сидевший напротив нее остроносый мужичок с ватой в ухе и шерстяным шарфом на шее. – В чем же ты с ними не согласная?
Баба утерла большой рот концом платка и не торопясь принялась рассказывать. Сначала слушал ее лишь мужичок с ватой в ухе, а потом и все кругом затихли, заслушались. Очень уж занятно говорила баба, так слово к слову и кладет, будто петли вяжет, и сама представляет, кто каким голосом говорит, кто как смеется, кто как ругается… прямо потеха, да и только!
– …А Дормидонт Григорьевич, отец мой, царство ему небесное, пошел в тот день к вечерне. Кончилась вечерня, а дело-то было перед сенокосом, поп и говорит ему: «Ты, Дормидонт, приди траву мне завтра покосить!» Отец притворился, будто не слыхал, чего поп просит. Не пошел. Ну, хорошо. Через месяц случилось меня замуж выдавать. Приготовили все, повезли к венцу. Вот привезли, а народу в церкви, как на базаре. Все-то на меня глаза лупят, а я такая довольная, не чую, какая беда меня караулит. Только поп меня подозвал вдруг и спрашивает: «Молитвы, раба божья Соломонида, знаешь? Прочти-ка «Верую во единого бога отца».
Дух у меня, родные мои, захватило. Читаю, а у самой ноги дрожат. Не могла прочесть-то, сбилась!
Ну, вот что, говорит, венчать тебя не буду. Прежде молитвы выучи! Я ему в ноги: «Сжалухнись, батюшка, не срами перед народом!» И посулить бы ему тут пятерку, да где взять-то было! Уехали домой ни с чем. Уж так ли мне горько было да обидно, а стыдобушки-то сколько!
Стадии отец с женихом учить меня молитве. А я ее и так хорошо знала, да в церкви-то сробела очень, потому и не выговорила. Поехали другой раз. Ну-ка, думаю, опять не скажу! Что тогда будет?! А он, долгогривый, как пришли мы, сразу ко мне: «Ну, как, раба божья, выучила ли молитву? – «Выучила, – говорю, – батюшка…» Повел на клирос: «Сказывай!» А народ-то весь смотрит. Набралась я духу, начала читать: «Верую во единого бога отца-вседержителя, творца видимым же всем и невидимым…» И тут меня ровно обухом по голове ударило, забыла все! «Не могу, – говорит, – венчать. Молитвы не знаешь». Я не помню, как из церкви вышла. Всю меня трясет от стыда и злости.
Баба вытерла кончиком платка глаза и высморкалась.
– Уехали мы домой… а по деревне смеются, судят. Каково-то моей бедной головушке было! Ладно хоть жених терпелив был, любил меня шибко. Верите ли, три раза к попу мы с ним ходили, кланялись, покуда обвенчал.
В вагоне было тихо, только внизу колеса постукивали.
– Не в попах главное дело, а в вере, – наставительно сказал мужичок с ватой в ухе. – Не будет веры, и попы переведутся.
– Уж так-то нас прежде мордовали да мучили, бывало, – не слушая его, заговорила снова баба. – Господи, твоя воля! Было тоже… Работали мы, как сейчас помню, у Петра Андреевича, у помещика нашего, на шестиконной молотилке. От зорьки до зорьки, за пятнадцать копеек. А мне двенадцать годочков было тогда! Поработали мы дней десять, пошли к барину за деньгами. Идем, а сами боимся. У крыльца, глядим, собака лежит большущая. Лютая была, как тигра. Встали мы и ждем, когда барин на крыльцо выйдет. Ждали, ждали, видим – выходит. В пинжаке в белом, в шляпе, и штаны тоже белые. Стоит, тросточкой помахивает. Посмотрел на нас, понял, видно, что за деньгами. Вынул из кармана мелочи горсть и бросил вниз, на собаку. Получайте, дескать. Нам и деньги хочется собрать и собаки боимся. Заплакали да и пошли прочь. А барин за брюхо руками ухватился, хохочет… Вот лихо-то было какое!
– А я бы его каменюгой треснул! – возмутился черный, как цыганенок, молодой паренек на полке. Он внимательно слушал бабу, положив на руки подбородок и сердито сопя носом.
– Барина-то? – спросил мужичок. – Он бы те треснул!
Молодой военный, быстроглазый и белозубый, весь опутанный желтыми ремнями, полюбопытствовал:
– Куда же вы, тетушка, сейчас едете?
Баба сердито оглядела его.
– В командировку.
Военный привалился к стенке и зашелся веселым смехом.
– И полномочия небось имеете?
– Все имеем. Ревизию еду наводить. У меня их трое, таких зубоскалов, как ты! Четыре года глаз домой не кажут. С полгода уж письма ни от кого не было! Терпели, терпели мы с мужем, да очень стало обидно. На прошлой неделе он и говорит: «Вот что, Соломонида, командируйся ты к ним да проверь, ладно ли живут. И о нас напомни: негоже родителей забывать!» А уж я как увижу – напомню! Вот этой клюшкой. По хребту!
И баба в сердцах постучала вересовой клюшкой о пол.
Военный сконфузился и покраснел.
– Да, может, тетенька, они там в люди вышли, а вы на них такое сердце имеете…
– В люди-то они вышли, – помягчела баба. – Васька, сказывают, сталь на заводе варит. Да он у меня проворный: что хошь сварит. Второй – Мишка, тот у него в подручных, а Олешка – меньшой, бог его знает, на художника, что ли, учится. Этот, правда, и сызмальства непутевый был.
– Вот видите – все до дела дошли! – опять сказал военный.
– Да я на них оттого сердце держу, что забыли они про нас, от рук совсем отбились. Мысленно ли это: такое кругом светопреставление идет – не поймешь, что к чему. И робят около себя нет – ни совета, ни помощи. Все пишутся в колхоз, а нам с мужем куда? Как хошь, так и живи! Он у меня после собрания третьеводни до того расстроился, что из ума вышибать стало. Как пришел, налила ему щей. Поставила горшок опять в печку, ухваты прибрала, несу ему на стол соль и говорю: «Щи-то несоленые, мужик, посоли». А он на меня: «Что же ты, дура, раньше-то молчала? Я уж их съел давно!»
Баба замолчала и, поджав губы, горестно задумалась.
На третий день показались среди степи тонкие высокие трубы заводов, а потом завиднелся около них и сам завод.
Стала тут тетка Соломонида прощаться: до места доехала. Собрала свои узелочки и банки, навесила их на себя, поклонилась всем.
– Прощайте, родимые! Поехала бы с вами дальше, да дело не пускает…
И только вышла, а военный, что рядом сидел с ней, вдруг спохватился:
– Клюшку-то свою забыла! Чем же теперь сыновей своих будет угощать?
Кинулся к выходу, да где тут: потерялась баба в вокзальной толпе, как в траве иголка.
Вернулся военный в вагон, осмотрел крепкую суковатую клюшку, головой покачал и засмеялся:
– Повезло на этот раз теткиным сыновьям!
2
Нет, не таким человеком была тетка Соломонида, чтобы потеряться в народе, как в траве иголка. Пошли люди с платформы в вокзал – и Соломонида за ними. Видит, по вокзалу пожилой гражданин ходит в шляпе и в очках, сам все на часы поглядывает, из себя строгий, доктор, видно. Соломонида – к нему, и все как есть у него выведала. Такой вежливый оказался доктор, что даже на улицу с ней вышел из вокзала и до трамвая довел.
– Садитесь, тетушка, на этот трамвай и поезжайте до конца, там и завод увидите. Всего вам хорошего!
Взобралась Соломонида со своими узелочками и банками в трамвай, поехала. А город, видать, большой, дома высоченные, улицы просторные, народу кругом много, и все куда-то спешат, чуть не бегом.
Остановился трамвай – дальше не идет. Люди все стали выходить, и Соломонида за ними. Вылезла из трамвая, огляделась. Стоят длинные каменные дома с высокими трубами, а в домах такой стук да грохот, что и подойти страшно. Хоть и слыхала Соломонида от людей про заводы, а видать не видывала. Потому и оробела вначале. Но чему быть, того не миновать. Перекрестилась, пошла. Торкнулась в одни ворота – не пускают, торкнулась в другие – не пускают. Соломонида и тут духом не упала. Увидела – машина к воротам подкатила, и человек из нее вышел, по одежде вроде начальник какой-то, или военный: в гимнастерке, в хромовых сапогах, в фуражке. Сам плечистый, на белом лице усики маленькие, черные. Только хотел человек этот прочь идти – Соломонида к нему.
– Здравствуй, уважаемый товарищ гражданин!
– Здравствуй, тетка! – отвечает. – Что скажешь?
– Нужно мне, уважаемый, директора найти, да не знаю как. Не научишь ли? Ты, поди, давно тут живешь, все знаешь.
– Это верно. Давно я тут. А тебе директора зачем?
– Робята мои у него работают. К робятам приехала.
– В гости, что ли?
– Кабы звали, так в гости, а то не звали. Сама уж приехала, проведать. Небось от матери-то не отопрутся.
– Издалека будешь?
– Издаля, уважаемый. Три дня сюда ехала. Из Курьевки. Слыхал, поди?
– Нет, не слыхал. Да зачем же ты в такую даль? Пусть бы они сами к тебе приезжали.
– Как это зачем? – осерчала вдруг Соломонида. – Три года как из дому уехали и ровно сквозь землю провалились. Отец, мать горюют, а от них, окаянных, уж полгода и письма не бывало. Да что же это такое? Сам ты посуди.
– Деньги-то посылают?
После этих слов совсем распалилась Соломонида.
– Да наплевала я на ихние деньги! Мы ночей со стариком не спим, извелись оба, все думаем, как они тут, здоровы ли, не избаловались ли, храни бог. Их, дураков, некому тут надоумить-то! Да ведь и о родителях-то подумать бы, проклятым, надо: годы-то у нас не маленькие!
Задумался начальник, усики пощипывает.
– Неправильно ребята твои поступают, о родителях забывать нельзя.
Вынул из кармана книжку и карандаш.
– Как твоя фамилия?
– Зорина я, Соломонида Дормидонтовна.
– А сыновей как зовут?
– Старшего-то – Васькой, середнего – Мишкой, а самого младшего – Олешкой.
– Ну, ну. Знаю я всех троих. Ты, тетка, не расстраивайся и не волнуйся: ребята они степенные, работают хорошо. Хоть и некогда мне, а придется, видно, их разыскать.
– Вот спасибо, уважаемый. Мишка-то не женился еще?
– Женился недавно. Отпуск я ему давал на свадьбу.
– Да как же он, нехристь, смел без моего благословения?
– В этом деле, мамаша, он сам ответчик. А сейчас ты свои пожитки вот здесь, у вахтера, положи да пойдем со мной в цех…
– Не пропадут узелки-то? – встревожилась Соломонида.
– Нет, не пропадут.
Прошла Соломонида с начальником в большие ворота по каменной дороге, еле за ним успевает. Не утерпела, спросила:
– Тебя звать-то как?
– Алексей Федотыч.
– А ты кто же тут будешь, старшой, что ли?
– Старшой. Директор я.
– То-то, я гляжу, одежда на тебе хорошая, и по разговору ты умственный. Ученый, видать?!
Усмехнулся директор:
– Не больно учен, тетка. Сам таким был недавно, как твои ребята.
Семенит Соломонида за директором, видит – из ворот каменного дома выезжают одна за другой машины с большими колесами. Трещат, дымят, свету белого не видно.
Директор остановился, кричит Соломониде в ухо:
– Вон какие машины твои ребята делают! Трактор называется. К нему плуг сзади прицепишь – и пошел. Машина эта может и сено возить, и молотить, и муку молоть. У вас такой в колхозе нет еще?
– Нет, родимый. Не видывали.
– Ну, скоро будет.
– На такой машине куда бы с добром! Уж вы порадейте, Алексей Федотыч, а то лошаденки-то больно плохи у нас.
– Порадеем. Будет и у вас трактор.
Стал тут директор спрашивать Соломониду, что сейчас в деревне делается.
– Как поехала я, мужики пахать ладились. Колхозники, те на желтом бугре со вторника пашут, а которые единоличники – сумлеваются, погоды потеплее ждут. Да и то сказать, не у каждого лошадь есть. У людей просить надо. А лошадные-то, пока свое не запашут, не дадут.
– Почему же в колхоз не вступают?
– Мы с мужем записались было, лошадь да двух коров туда свели. А без скотины какое у нас хозяйство осталось? Утром встанешь, выйдешь на двор, а там – две курицы. Сердце так и зайдется. Взяли да и выписались. А теперь уж и не знаю, как дальше. И в колхоз идти боязно, и одним жить худо: чисто единомученики!
– Ошибку вы допустили, – недовольно сказал директор. – Зря из колхоза вышли, колхоза бояться нечего. В колхозе спокойнее жить-то, и работу по силам найдут. А пахать молодые будут.
– Молодые-то не больно нонеча за землю хватаются, все больше в город норовят. Мои ребята вон давно уехали. А намедни Софронов парень на завод тоже ушел, дяди Григория сын на сплав уехал, а братья Гущины, те – в шахты…
– Пусть едут, тетка. Народу в деревне хватит. В городе-то без народу тоже не обойтись. Пятилетку надо выполнять. Видишь, какое строительство кругом идет.
– Видела. Знамо, везде народ нужен.
– Вот, вот. А мужикам дома скажи, пусть хлеба больше сеют, а мы им машин больше дадим да ситцу. Мужику и рабочему человеку надо вместе держаться, друг дружке помогать, а кулака – вон, чтобы не мешал. Кулаков-то выгнали?
– Прошлым летом еще. Яшку Богородицу. А брата его, Кузьку – того осенью, по первопутку. Уж такие ли живоглоты были, прости ты меня, господи!..
– Это вы правильно сделали, тетка…
За разговором не заметила Соломонида, как вошли в широкие ворота другого каменного дома. Подняла она голову и обомлела. Из черных котлов льют черти каленое железо в большие чашки и сами кругом с железными клюшками бегают, тоже все черные, с большими синими глазищами. И такой стоит грохот и звон, голоса человечьего не слышно.
Осенила себя Соломонида крестным знамением, повернулась к директору, заплакала:
– Завел ты меня, сатана, в геенну огненную!..
А директор на часы взглянул, кричит ей в ухо:
– Это у нас литейная. Здесь для тракторов части отливают. И сыновья твои тут работают. Только им сейчас никак оторваться от дела нельзя. Вон они оба!
Видит Соломонида: стоят около печи огненной два черных мужика с длинными железными клюшками, в огонь их сунут, помешают и опять стоят. Один, тот что повыше, повернулся к Соломониде боком, и скорее почуяла, чем узнала она в нем своего старшего сына. Закричала во весь голос:
– Васька!
Хоть и гремело кругом, а услышал сын материнский голос, повернулся, отнял от лица синие глазищи и прирос к месту. Сказал что-то другому черному мужику. И тот снял синие глазищи и тоже окаменел. Стоят оба, понять ничего не могут. Видят директора, а рядом с ним свою грозную мать. Очнулись, только когда она им кулаком погрозила, а директор на часы показал, чтобы металл не упустили.