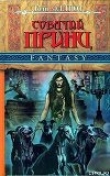Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Недовольно покосился на Алешку, который до того горячо помогал братьям укладываться, словно сам собирался в дорогу. Он столько напихал им в котомки разной еды, что даже мать подивилась:
– Куда уж столь много-то! Тут и троим в неделю не съесть.
Завязывая котомки, Таисья робко попросила свекра:
– Поеду и я в за́секу, тятенька.
Тимофей заворчал:
– Без тебя управятся. Бабье ли дело с бревнами возиться!
Но тут вступилась свекровь:
– Пусть едет, отец. Бабе хочется в последний-то день около мужика своего побыть…
Махнув рукой, Тимофей пошел на улицу.
…В засеку поехали все трое. Таисья взяла с собой корзинку для ягод и уселась рядом с мужем. Мишка, стоя на дрогах, правил. Он грозно крутил концом вожжей, то и дело покрикивая на Бурку, но тот плелся рысцой, недовольно потряхивая ушами.
Прижимаясь к плечу мужа, Таисья спрашивала тоскливо:
– Как же я, Вася, одна тут остануся?
Василий, долгим взглядом провожая диких уток, пронесшихся со свистом над пустым полем, сказал грубо:
– Куда мне тебя сейчас? В карман, что ли, положу?
И за всю дорогу не сказал больше ни слова притихшей жене, с грустью поглядывая кругом. В лесу стояла прохладная сушь. Желтым снегом опускались, кружась в воздухе, листья вянущих берез. Где-то горел муравейник, и горький дым его синим туманом висел недвижно меж деревьев. На вершине старой сосны одиноко стучал дятел.
Слушая шорох мертвой листвы под колесами, Василий тревожно думал, что вот старая жизнь у него кончилась, а новой еще нет, и неизвестно, какова она будет. Доведется ли еще когда-нибудь увидеть родные места? Или уже глядит он на них в последний раз?
Отвернувшись в сторону и украдкой вытерев глаза, сердито сказал брату:
– Погоняй, не с горшками едешь!
На вырубке остановились. Таисья как увидела вишневордеющие кругом кусты брусники, так и кинулась сразу к ним с корзинкой, на время забыв про все на свете. А братья выбрали место для штабеля, нарубили прокладок и, торопясь управиться к обеду, вытащили живо на передках десятка два бревен из леса к дороге. Оба успели только раззадориться в работе. Василий повеселел даже, и впервые за последние дни под светлыми усами его заиграла улыбка.
Бревна в штабель сложили шутя. Потом, радуясь свободе и томясь неистраченной силой, принялись озоровать, как в детстве бывало. Василий, косясь на брата притворно злыми глазами, напомнил ему:
– Жалко, удержала тогда меня мать в праздник, а то показал бы я тебе…
– Мне? – вызывающе хохотнул Мишка. – Да я бы тебя одной рукой к земле пригнул.
– Меня?
– Тебя.
– Ты?
– Я.
Минута – и оба, схватившись, начали, словно мальчишки, кататься по земле, кряхтя, вскрикивая и гогоча во все горло. Когда испуганная Таисья, бросив корзинку, подбежала к ним, Василий уже сидел на Мишке верхом и злорадно спрашивал:
– Живота али смерти?
Тот силился сбросить брата с себя, не желая сдаваться.
– Обманом-то и я бы тебя поборол!
– Я не обманом.
– А подножку зачем подставил?
– Ну, ладно, давай снова!
– Да будет вам, – улыбнулась Таисья. – Рады, что на волю вырвались. Небось при отце не посмели бы!
Домой возвращались повеселевшие. Всю дорогу братья не переставали озорничать и подшучивать друг над другом. Когда проезжали топкой низинкой, Василий закричал Мишке:
– Не видишь разве, тяжело коню-то! Дай вожжи-то мне, а сам слезь. Ты помоложе меня.
Не сообразив сразу, что Василий шутит, Мишка растерянно отдал ему вожжи и, тяжело вздохнув, собрался уже прыгать в черное месиво грязи. Но Василий, не умея хитрить, выдал себя смеющимися глазами. В отместку Мишка неожиданно и ловко уселся брату на плечи. Тому нельзя было ни сбросить его с себя, ни даже пошевелиться, иначе оба упали бы с телеги в грязь. Он только криво улыбался и молчал.
А Мишка, устраиваясь поудобнее, сердито выговаривал ему:
– Раз видишь, что коню тяжело, сразу надо было сказать. Я бы давно на тебя пересел…
И, похохатывая над братом, ехал на нем с полверсты, пока не кончилась грязь.
Глядя на них, ожила и Таисья. Испуганно-тоскливые глаза ее снова засветились, на щеках проступил румянец, и с губ до самого дома не сходила слабая улыбка.
Уже подъезжая к задворкам, Василий круто остановил вдруг лошадь, вытянув шею вперед.
– Неладно ведь дома-то у нас!
Во дворе, у крыльца, стоял, согнувшись, Алешка и, вздрагивая плечами, вытирал рукавом рубахи лицо. Увидев братьев, он растерянно застыл на месте, потом кинулся вдруг в проулок.
– Беги, догляди за ним! – встревоженно ткнул Мишку в плечо Василий.
– С отцом, поди, поругались, – догадался Мишка, нехотя слезая с дрог. – Никуда он не денется.
– Кому сказано, догляди! – рявкнул Василий, зло выкатывая на него глаза.
6
Обо всем, что бы ни случилось у соседей, Парашка узнавала первой. Ей для этого никого и выспрашивать не надо было, а стоило только выйти утречком на крыльцо.
Если дядя Тимофей визгливо кашляет во дворе и шумит на ребят, значит, Зорины собираются куда-то на весь день. Тут уж к ним лучше не показывайся: дядя Тимофей ходит со двора в избу и из избы во двор тучей, тетя Соломонида спешит накормить сыновей, и ей слова некогда вымолвить, а ребята за едой только ложками о блюдо гремят – им и подавно не до Парашки.
В такие дни Парашке становится тоскливо. Она тоже, как дядя Тимофей, начинает сновать без толку из избы в сени и обратно, сердито швыряет все, грубит матери…
Если же дядя Тимофей с утра легонько потюкивает около дома топором и мирно беседует сам с собой, а тетя Соломонида ласково скликает кур или развешивает не торопясь белье во дворе, значит, соседи никуда нынче спозаранку не поедут и можно будет сбегать к ним хоть на минутку.
Она и сама не знает, отчего ее тянет к соседям. Оттого, может, что всякий раз на Алешку ихнего поглядеть ей хочется. А уж если поговорить доведется с ним, весь день вызванивает песни Парашкино сердчишко. Оттого еще, может, прилепилась она к Зориным, что нет у ней, кроме хворой матери, никого родных в деревне, и обо всем Парашке самой заботиться надо: и о пашне, и о покосе, и о дровах. Как же тут без чужих людей обойдешься? А дядя Тимофей хоть и скуповат, хоть и сердит бывает, а иной раз и поможет полоску ей между делом спахать, или воз дров попутно из лесу ребят заставит привезти, то сам изгородь за нее в поле поправит, или косу в сенокос отобьет. И тетя Соломонида жалеет Парашку: когда муки ей маленько тайком даст, когда – картошки, а то и говядинки принесет к празднику. Парашка ей тоже помочь всегда старается. Если Таисья в поле задержалась, Парашка тете Соломониде мигом и воды принесет, и пол вымоет, и скотину напоит.
– Вот бы мне такую сноху! – шутя скажет, бывало, ей тетя Соломонида. – Уж такая ли проворная да работящая!
Вспыхнет Парашка вся после этих слов да скорее вон.
И дня не пройдет, чтобы не наведалась она к Зориным: то за ведерком, то за угольками для самовара, то за советом к дяде Тимофею, а то и просто так. Посидит, посидит, слова иной раз не проронит, только уж все выглядит, все приметит. Ничего не укроется от Парашкиного глаза!
А о разделе у Зориных узнала она, даже и в дом к ним не заходя.
Да и как не узнать было: кабы все ладом у них в этот день, дядя Тимофей с утра бы ребят пахать послал, а баб – лен стелить, а то никто из них и на улицу не показывался. Василий, правда, выходил один раз во двор: овса лошадям в лукошке понес да в расстройстве-то в это же лукошко потом и воды у колодца налил. Сам дядя Тимофей на крылечке постоял маленько, потом рукой махнул, плюнул да опять в избу. А когда Василий Ивана Синицына привел, тут уж у Парашки и сомнения не осталось ни капельки: никогда дядю Ивана Синицына в дом зря не зовут, на то он и уполномоченный.
И об отъезде Василия с Мишкой узнала Парашка сразу, как увидела только, что Таисья вешает во дворе сушить вымытые котомки, а Мишка смазывает дегтем Васильевы и свои сапоги.
Но вот своего горя не могла загодя предвидеть Парашка: застало оно ее врасплох.
В день, как Василию с Мишкой уезжать, нарочно осталась Парашка дома, хоть и надо ей было лен за гумнами стелить. Принялась с утра репу убирать в огороде, откуда весь зоринский двор, как на ладошке, виден.
Вот дядя Тимофей Бурку запрягает в дроги. Видно, Василий с Мишкой в лес хотят напоследок съездить. И Таисья с ними увязалась вместо Алеши. Уехали. Совсем стало тихо у Зориных. Только вышла раз тетя Соломонида за водой с ведерком. А потом до самого обеда по двору одни куры бродили.
«Отчего же это Алеши не видно сегодня? – раздумывала Парашка и вздыхала горестно: – Тяжело ему, сердешному, будет, как братья уедут. Совсем задавит его отец, такого молоденького, работой!»
И так жалко паренька становится Парашке, что из глаз ее капают прямо на руки, смывая с них черную грязь, теплые слезы.
Пусть! Все равно никто не увидит. Никто и не узнает, что она так об Алеше думает. И сам он ничего об этом не знает. А одной-то как хорошо про него думать!
Вытаскивает Парашка желтую репу из грядки одну за другой, обрезает ботву, а ничего перед собой не видит кроме глаз Алешиных да чуба его лохматого.
«И в кого, он, Алешенька, уродился только: улыбчивый такой, разговорчивый да ласковый?! В тетю Соломониду, верно. Счастливый будет, раз в мать!»
Вышла на крылечко Парашкина мать, села на ступеньку, закашлялась, держась худыми руками за грудь.
– Парашка-а!
Сама думает вслух:
«И куда это она запропастилась, подлая?! Люди сегодня лен пошли стелить, а ей и заботы мало. Прямо никакого сладу с девкой нет! Уж не она ли это в огороде поет, бессовестная?!»
– Парашка-а!
Не слышит ничего Парашка, не до матери ей сейчас. Одну песню кончает, другую заводит, да все на соседский двор поглядывает.
А время уж к обеду. «Вон и Зорины из леса едут! Кто это навстречу им с крыльца сбегает? Алеша, верно! Да что это с ним? Как увидел братьев – бегом на задворки!»
Только принялась гадать, зачем бы это он, – хрустнула сзади изгородь. Оглянулась Парашка, а в огороде – Алеша. Лицо у него в крови, и глаза перед собой ничего не видят. Зашлось у Парашки сердце: «Уж не беда ли какая?»
Опустился Алеша на траву, зовет к себе тихонько:
– Иди-ка сюда, Параня!
Сам голову опустил, глаз не поднимает.
– Меня тятя из дома выгнал.
Кинулась к нему в испуге Парашка.
– Ой, да как же это?!
Села рядом, обняла за голову, у самой слезы ручьем.
– Беда-то какая! Да за что же?
Молчит Алеша, только губы кусает, чтобы не зареветь.
– В город он меня с Василием не отпускал, а как я на своем стоял, он меня и выгнал…
Парашка волосы ему гладит, в глаза заглядывает.
– Зачем тебе в город-то, Алешенька?
Отвернулся от нее сердито Алеша.
– Не понимаешь, дурочка. Женить он меня ладит на Маньке Гущиной. Приданого, говорит, у ней много и девка, говорит, хорошая. А мне ее не надо. Я на тебе женюсь. А что до приданого, так я тебе его сам заработаю…
Залилась Парашка румянцем, закрыла лицо руками.
– Ой, что ты говоришь-то, Алешенька! Стыдно мне.
– То и говорю. Не маленькая, чего стыдиться-то. Я бы и не сказал сейчас, кабы тятя меня не выгнал…
– Как же ты теперь, Алешенька? – в страхе подняла на него измазанное землей лицо Парашка.
Вскочил на ноги Алеша, лицо злое, брови нахмурил, сказал упрямо:
– Уеду я. Не буду с тятей жить.
Где-то на задворках напрасно кричал и звал брата Мишка. Парашка только и помнила, как обнял ее Алеша, поцеловал в щеку да сказал, уходя:
– Ты меня жди, Параня. Не ходи замуж ни за кого. Ладно?
– Ладно, – прошептала Парашка.
От радости, что любит ее Алеша, не сразу поняла она свое горе. Села на траву, залилась счастливыми слезами. А как опомнилась, бегом кинулась к Зориным. Думала с тревогой об Алеше: «Что с ним сталося? Может, одумался да вернулся домой? Только упрямый он, на своем выстоит, не пойдет к отцу. Тогда где же он теперь?»
С упавшим сердцем вошла к Зориным в избу, села на голбец, не может слова сказать.
Не было Алеши дома.
7
У Зориных сидели, как на поминках, сват со сватьей да дядя Григорий. Тетя Соломонида собирала на стол, уливаясь слезами; Таисья, окаменев и сложив руки на коленях, сидела на лавке, а дядя Тимофей посреди пола стоял столбом, словно забыл что или потерял.
Только Василий с Мишкой ходили веселые по избе, пересмеиваясь меж собой.
Сели все за стол. Тимофей на жену глянул, крякнул.
– Вина-то, Соломонида, осталось ли после праздника?
– Есть маленько.
Когда выпили по рюмке, Василий, мигнув Мишке, огляделся, спросил:
– Где же Олешка?
Мать с отцом переглянулись молча. Не сразу отец ответил хмуро:
– Должно, вышел куда. Догонит, как пойдем.
Сват Степан, косясь на плачущую дочь, осторожно сказал зятю:
– Ладно ли, мотри, Василий, делаешь? Не промахнуться бы! Чем ехать, пожил бы у меня, пока своего угла нет…
Василий промолчал, пощипывая усы. А дядя Григорий сказал непонятно:
– Под капель избы не ставят.
Сыновья поднялись из-за стола, начали собираться. Тимофей озабоченно им наказывал:
– В дороге не разевайте рты-то. Враз могут деньги вытащить. А без денег на чужой стороне куда? Зимогорить только. Да у меня, смотрите, баловства не допускать там. Слышишь, Василий?
– Слышу.
И в пятый раз, наверное, напомнил ему, сердито взглядывая на веселое лицо Мишки:
– За Мишкой гляди. Не давай ему воли-то! Он, кобелина, только и знает, что за девками бегать да по вечеркам шататься…
Молча присели все на лавки. Тимофей поднялся, перекрестился.
– Ну, с богом!
Мишка потянул за ремень гармонию из угла и первым шагнул в сени. Василий вышел из избы последним.
На улице братья пошли рядом, впереди всех, оба ладные, крепкие.
«Экие молодцы!» – думал Тимофей, любуясь сыновьями и горько жалея, что Василий уезжает совсем. Вслух же сказал:
– Не ревите, бабы! Не на войну провожаем.
Глотая слезы, Парашка, не званная никем, лишняя тут, потихонечку плелась сзади. Она не знала, что и думать об Алеше, где искать его теперь.
Мишка лихо вскинул на плечо ремень гармонии. Всколыхнув сердце, она залилась в руках его тонко и весело. Словно сговорившись, братья разом гаркнули:
По тебе, широка улица,
Последний раз хожу.
На тебя, моя зазнобушка,
Последний раз гляжу.
Из-под ног их во все стороны шарахнулись с дороги перепуганные насмерть куры. На улицу повыбегали бабы и девки.
Оглядываясь назад и скаля белые зубы, Мишка толкнул брата в бок. Гармонь перевела дух и запела вместе с Мишкой по-новому:
Как родная меня мать
Провожала-а-а…
Василий, наливаясь от натуги кровью, поддержал брата могучим ревом:
Тут и вся моя родня
Набежала-а-а.
– Будет вам, охальники! – закричала им сквозь слезы мать. – Постыдились бы людей-то!
Сыновья, не слушая, пели:
Ах, куда ты, паренек?
Ах, куда ты?
Тимофей хмурился все больше. Песня обидно напоминала ему о ссоре с сыновьями, о сегодняшнем разговоре с Алешкой:
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.
С молодой бы жил женой,
Не ленился.
А Мишка, в дугу выгибая зеленый мех гармонии, пел бессовестно:
Тут я матери родной
Поклонился.
Поклонился всей родне
У порога.
Не скулите обо мне,
Ради бога.
Почесывая белый загривок, богомольный сват свернул с дороги, от срама подальше, и пошел сторонкой; дядя Григорий стал отставать помаленьку от ребят, сконфуженно посмеиваясь; только Тимофей, оставшись один, шел теперь за ними, как на веревке, нагнув голову.
За околицей, посреди поля, ребята остановились. Мишка торопливо обнял мать, ткнулся отцу в бороду.
– Гармонию, тятя, мою не продавай…
Василий, отведя жену в сторону, строго наказывал ей:
– Живи тут оккуратно без меня. Тятю и маму слушайся…
И, поправляя на плечах котомку, хватился вдруг:
– Где же Олешка-то у нас?
Отец с матерью помрачнели, будто ничего и не слышали.
Только Парашка встрепенулась, глядя на всех испуганными глазами.
Прижимая к боку Мишкину гармонию, Тимофей долго глядел вслед сыновьям, пока не скрылись оба за поворотом.
Пошли все молча домой.
Уже около самой околицы провожающих нагнал Елизар Кузовлев. Домой, видать, поспешает. До того разгорелся в дороге – и ворот у рубахи расстегнул. Поздоровался – и дальше.
– В Степахино летал, что ли, Елизар Никитич?
Приостановился Елизар, пошел рядом. Как поотстали маленько от баб, сказал:
– В совхозе был, Тимофей Ильич. Думаю перебраться туда к машинам поближе. Я ведь и в армии-то около машин больше терся. Люблю это дело.
– Примают?
– То-то, что нет. Своих, говорят, хватает пока.
Ничего не сказал Тимофей, попытал только:
– Примут ежели – и бабу с собой?
– Со стариками останется. А там видно будет.
Сам притуманился, вздохнул:
– Мы с ней в два веника метем. Несогласная она со мной насчет новой жизни.
Усмехнулся зло и горько:
– Такая, брат, баба, что спереди любил бы, сзади убил бы! Зарок имеет кулацкий. Не вышибешь никак…
До самого ручья молчали. Как расходиться, Елизар сказал сердечно:
– Худое наше дело, Тимофей Ильич. У меня работать есть кому, да вот лошади нет. У тебя лошадей пара, да работников мало. Таисья-то, поди, не засидится тут, к мужу уедет. А вдвоем со старухой много ли вы нахозяйствуете!
– У меня другая статья! – сердито возразил Тимофей. – Мишка домой к весне вернется…
– Чего ему здесь делать-то? – насмешливо удивился Елизар. – Чертоломить с утра до ночи без толку?!
– Да и Олешка при мне.
Елизар остановился даже.
– А ведь я думал, Тимофей Ильич, все трое они уехали. Как повстречаться мне с ними, гляжу – Олешка-то из-за гумен как раз выходит на дорогу, к братьям. Провожать, значит? Вот оно что!
Белея от испуга и гнева, Тимофей охнул:
– Ушел-таки, подлец!
Опустил голову и сказал тихо и горько:
– Н-ну, мать, нет у нас с тобой больше сыновей!
Бабы завыли в голос.
В ГОРУ – ПОД ГОРУ
1
Беда стряслась с Елизаром Кузовлевым нежданно-негаданно. Пока учился он зиму на курсах трактористов, от него ушла жена.
Сказал ему об этом Ефим Кузин, приехавший из Курьевки в совхозную мастерскую за шестеренками для триера.
– Не хотел я огорчать тебя, Елизар Никитич, вестью такой, да что сделаешь! – виновато оправдывался он, взглядывая с участием на потемневшее лицо Елизара. – Правду не схоронишь. Не я, так другие скажут…
Тяжело опустившись на кучу железного хлама, вытаявшего из-под снега, Елизар спросил упавшим голосом:
– Куда ушла-то? Давно ли?
Ефим сел рядом, то снимая, то надевая варежки.
– На той неделе еще. Батько твой тогда же ладился ехать к тебе, да занемог что-то.
Не своим голосом Елизар спросил еще тише:
– Схлестнулась, что ли, с кем без меня?
Ефима недаром звали в деревне Глиной. Из него нельзя было слова лишнего выдавить. И сейчас, прикрыв маленькие глазки длинными желтыми бровями, он долго и упорно молчал, глядя в землю.
– Врать не хочу. Не знаю. У родителей своих живет сейчас. Из колхоза выписалась вон.
– Да люди-то что говорят? – уже не спросил, а выкрикнул Елизар.
– Рази ж их переслушаешь всех! – удивился Ефим, поднимая одну бровь. – Трепали бабы про это, да ведь… Эх!
И махнул с презрением рукой.
– Н-ну?
– Не понужай меня, Елизар Никитич, смерть не люблю я бабьи сказки повторять.
Низко нагнув большелобую голову, Елизар ожесточенно ломал черными пальцами кусок ржавой проволоки. Не сломав, швырнул в снег и уставил на Ефима злые зеленовато-серые глаза с грозно застывшими в них черными икринками зрачков.
– Говори все, как есть!
Ефим с опаской покосился на него, поскреб за ухом.
– Чего говорить-то? Кабы сам знал! А то бабы сказывали. Мать, дескать, подбила Настю-то. Теща то есть твоя, провалиться бы ей скрозь землю! Надула ей в уши, что Елизар, дескать, совсем теперь от дома отбился, а если и вернется, так в колхоз тебя загонит. А в колхозе у них, говорит, и бабы обчие будут. Вишь, что выдумала, ведьма! Не нужна ты, говорит, ему нисколько, раз он прочь от тебя бежит да еще в колхоз пихает. Да и какой он, брешет, муж тебе? Около забора венчанный! Он не только своего добра нажить не может, а и твое-то все проживет. С таким, говорит, мужем по миру скоро пойдешь. А что дите от него, так это, говорит, не беда. Такую-то, говорит, ягодку, как ты, и с довеском любой возьмет. Да я тебе, говорит, сама пригляжу мужа, уж не чета будет Елизару…
– Н-ну! – подтолкнул Ефима суровым взглядом Елизар.
– Так ведь что ты думаешь! – неожиданно закричал в гневе Ефим. – И приглядела уж, стерва! Да кого? Опять же бабы говорили: Худорожкова Степку. Маслобойщика липенского. Ты его, жулика, должон знать: высоченный такой, рожу решетом не покроешь. Зато чистоплюй – в долгом пальто и в калошах ходит. На днях приезжал он к тестю твоему, на мельницу…
Елизар отвернулся, чтобы скрыть слезы лютой ревности и ненависти.
– А Настя… что?
Но Ефим уже спохватился, что сказал много лишнего, помрачнел сразу и встал.
– Про Настю не пытай. Не слыхал ничего больше.
С трудом поднимаясь, Елизар пожалел:
– Кабы мне дома в ту пору быть, уважил бы я и тещу, и тестя! Век бы поминали! – И блеснул жутко глазами. – Ну, да не ушло еще время!
– Упаси бог! – испуганно схватил его за плечо Ефим. – И хорошо, что не было тебя. С твоим характером не обошлось бы тогда без упокойника, а сам ты как раз в тюрьму попал бы. И в уме даже про это не держи!
Подойдя к лошади, понуро стоявшей у забора, Ефим стал подбирать из-под ног ее недоеденное сено.
– Тестю твоему и без тебя перо приладят. Слух идет – мужики везде кулаков шшупать начали. На выселку назначают. Кабы народишко подружнее у нас, давно бы тестя твоего вытурили, да и брата его Яшку заодно с ним. А то боятся да жалеют все. Нашли кого жалеть!
Ефим сердито засупонил хомут, так что лошаденка покачнулась и переступила с ноги на ногу.
– Вот ужо из города уполномоченный приедет, так тот живо с делом разберется. Сказывал про него Синицын, председатель-то, что не сегодня-завтра к нам будет. Из рабочих, говорит, с фабрики.
– Недружный, видать, колхоз-то у нас?
– Та и беда! – взгоревался Ефим, усаживаясь в розвальни. – Не поймешь, что делается: одни работают, другие отлынивают. Хворых столько вдруг объявилось – каждый день к фершалу в Степахино гоняют на лошадях… Как пахать ужо будем, не знаю. Лошаденок заморили, плугов справных не хватает…
– Худое дело.
– Домой-то когда ладишься? – подбирая вожжи, оглянулся Ефим. – Спрашивал про тебя Синицын, ждет.
– Уж и не знаю теперь, Ефим Кондратьевич, – в невеселом раздумье сказал Елизар. – Кабы там все ладно было, вернулся бы денька через два. Как раз курсы у нас кончаются. А сейчас – что мне дома делать?
Провел задрожавшей рукой по лицу.
– Скорее всего тут я останусь, при совхозе. Как пообживусь маленько, и стариков сюда заберу. Васютка-то здоров?
– Чего ему деется! Бойкий мальчонка растет. На салазках уже сам катается…
Ефим взял в руки кнут.
– Затем до свидания.
Уже вдогонку ему Елизар крикнул:
– Старикам-то кланяйся там!
И долго стоял на дороге весь в жару, то жалея отчаянно, что не уехал с Ефимом, то стыдясь, что хотел уехать с ним. Но тут обида, гордость и злость поднялись в нем на дыбы и задавили острую боль потери. Ему уже стало казаться, что Настя никогда не любила его, что и замуж-то за него по капризу да своеволию выскочила. Одно худое только и приходило теперь про нее в голову: и как стариков она попрекала на каждом шагу, и как не ладила с соседками, и как ругалась и плакала всякий раз, не отпуская его на собрания. Лютая на работу, все, бывало, тащила в дом, как суслик в свою нору, не останавливаясь даже перед воровством. Раз поздно вечером они ехали вдвоем на возу со снопами. Уже темнело, и в поле народу никого не было.
Вдруг Настя, весело мигнув мужу, живо соскочила на землю. Остановив лошадь, она быстро перекидала на телегу целый суслон пшеницы с чужой полосы. Забралась снова наверх и, укладывая получше снопы, счастливо засмеялась.
– Полпуда пшенички сразу заработала!
Елизар, опомнившись, круто остановил лошадь.
– Сейчас же скидай их обратно!
– Дурак! – сердито сверкнула она глазами и, выхватив у него вожжи, погнала вперед лошадь. – С тобой век добра не нажить. У кого взяла-то? У Тимохи Зорина! Он побогаче нас, от одного суслона не обеднеет.
Но видя, как суровеет лицо мужа, засмеялась вдруг и, обняв его за шею, повалила на снопы, часто кусая горячими поцелуями.
– Не тревожь зря сердце, любый мой!
До самого гумна Елизар молчал, обезоруженный лаской жены, а когда пошли домой, глухо и гневно сказал, страдая от жестокой жалости к ней:
– В нашем доме воров отродясь не было. Ежели замечу, Настя, еще раз такое – изобью! Поимей в виду.
Ничего не ответив, она изменилась в лице.
Молча дошли до дома, молча поужинали, молча легли спать в сеновале. Утром уже, проснувшись, Елизар украдкой взглянул на жену. Она лежала, не шевелясь, на спине, с широко открытыми сухими глазами и посеревшим лицом. У Елизара резнуло сердце жалостью и любовью к ней. Он притянул жену к себе, целуя ее в холодные губы и пьянея от ее безвольного теплого тела. Но она отодвинулась вдруг прочь, глядя на него с испугом, стыдом и злостью.
Елизар снова притянул властно жену к себе, ласково поглаживая жесткой рукой ее голову. Почуяв это безмолвное прощение, она с благодарной яростью обняла мужа за шею горячими руками.
Ни единого слова не понадобилось им в этот раз для примирения.
Обессиленная и успокоенная, она сразу уснула у него на плече, полуоткрыв припухшие губы и ровно дыша. Елизар бережно убрал с ее заалевшей щеки рассыпавшиеся волосы. Долго вглядывался он в дорогое ему красивое лицо, и чем больше светлело оно во сне от счастливой улыбки, тем роднее и ближе становилась ему Настя.
Но вдруг тонкая бровь ее болезненно изломилась, все тело вздрогнуло от всхлипа, и в уголочке глаза засветилась крупной росинкой тайная, невыплаканная слеза.
Дня через три Тимофей Зорин немало подивился, когда Елизар принес ему вечером ведро пшеницы, сконфуженно говоря:
– Возьми, Тимофей Ильич. Твоя.
– Да когда же ты ее у меня займовал? – силился припомнить Тимофей. – Разве что в «петровки»?
– Не занимал я, дядя Тимофей, – хмурясь, объяснил Елизар. – Суслон твой ошибкой забрали мы в Долгом поле. Солому-то я уж после тебе занесу, прямо на гумно.
– Да как же это у вас получилось? – все еще недоумевал Тимофей. – Кабы рядом полосы-то наши с тобой были, а то ведь – в разных концах они…
Елизар, стыдясь, опустил голову.
– Уж не спрашивал бы лучше, дядя Тимофей. Пожадился я. Понял али нет?
И вскинул на Тимофея виноватые глаза.
– Ты уж не говори никому об этом, а то от людей мне будет совестно.
– Признался, так и поквитался! – растроганно сказал Тимофей. – Будь спокоен, Елизар Никитич, ни одна душа не узнает.
– Ну, спасибо тебе. Век не забуду.
Ни словом, ни намеком не укорил потом Елизар жену за ее поступок, ни разу даже не поминал о нем, будто вовсе и не было ничего. Но встала между ними после размолвки тоненькая холодная стенка, словно осенний ледок после первого заморозка. Заметил скоро Елизар, что начала частенько задумываться Настя и совсем перестала делиться с ним своими хозяйственными мечтами. И в ласках с ним стала суше, и в словах скупее, осторожнее. Одно время Елизар даже доволен был такой переменой в ней, видя, что перенесла она заботу и любовь свою на сынишку, а мужу старалась не перечить.
Когда-то и слышать не хотела Настя о колхозе, а тут, как стали в Курьевке начинать колхоз, записалась вместе с мужем, без всякого скандала. Поняла ли, наконец, что выхода из нужды другого не было, или просто покорилась мужу, не узнал тогда этого Елизар. И на курсы его отпустила спокойно. Но когда расставались за околицей, впервые заронила в сердце ему тревогу.
Обняв на прощание, заплакала и посетовала горько:
– Люб ты мне, а радости с тобой у меня нет. Все ты от дома да от хозяйства прочь, и мысли у нас с тобой врозь. Не знаю уж, как жить дальше будем.
Поцеловала и легонько толкнула в грудь.
– Иди.
Раз пять оглядывался Елизар, пока шел полем до леса, а Настя все стояла и смотрела ему вслед. Домой пошла не торопясь, опустив низко голову.
Не тогда ли впервые и задумала она уйти от него?
За три месяца получил от нее Елизар два письма. В одном пересказывала она разные новости и жаловалась на непорядки в колхозе, а в другом пеняла ему, что давно дома не бывал.
Ничего худого не увидел тогда в письмах Елизар. Отписал ей, что не пускают его домой раньше срока, что скучает он сильно и сам к семье торопится.
А теперь вот, выходит, и торопиться незачем.
За три дня почернел Елизар от дум. Тяжелая ненависть его к тестю и теще все больше и больше переходила теперь на Настю.
– Не буду ни ей, ни ее кулацкому роду кланяться! – со злобой думал он. Но как только вспоминал сынишку, опускались у него в отчаянии руки и в горькой тоске сжималось сердце.
Даже в последний день учении на курсах не знал еще Елизар, поедет ли он завтра в Курьевку, или уже совсем больше туда не покажется.
2
Еще издали Трубников заметил, что его поджидает у колодца какая-то женщина в сером полушалке и меховой жакетке. Намеренно долго зачерпывая воду, она то взглядывала украдкой в его сторону, то беспокойно озиралась на соседские окна. А когда Трубников стал подходить ближе, подняла коромыслом ведра и пошла от колодца тропочкой, будто и не торопясь, но как раз успела загородить ему дорогу.
– Здравствуйте! – остановился Трубников, невольно любуясь ее румяным тонкобровым лицом с прямым носом и остро вздернутой верхней губой.
Женщина остановилась переложить коромысло на другое плечо и, сердито щуря красивые синие глаза, медленно и ненавистно оглядела незнакомого человека с ног до головы: и его хромовые сапоги с заправленными в них галифе, и кожаные перчатки на руках, и короткое бобриковое пальтишко с барашковым воротником, и худощавое остроносое лицо с небольшими темными усами. Встретив спокойный взгляд ясных рыжих глаз, отвернулась, передернула плечами и молча пошла прочь.
– Гражданочка! – вежливо окликнул ее Трубников. – Как мне тут Синицына разыскать, председателя вашего?
Женщина, не останавливаясь, бросила через плечо:
– Почем я знаю, где его черт носит?!
Но вдруг обернулась и, держа обе руки на дужках ведер, сверкнула исподлобья глазами.
– Приехали нас в колхоз загонять?
– Загонять? Да вы шутите, что ли, гражданочка?
– А нешто не загоняете! – закричала она, сразу белея от злости. – Нечего дураком-то прикидываться!
Рыжие глаза Трубникова сузились. Он снял неторопливо перчатку и принялся винтить правый ус.
– А чем же это вам, гражданочка, колхоз не нравится?
Женщина бесстыдно выругалась и, собираясь идти, пригрозила:
– Вы тут доездитесь, пока вас бабы ухватами за околицу не проводят да снегу в штаны не насыпют…
Желая повернуть все на шутку, Трубников улыбнулся.
– У Семена Буденного служил, сколько раз в атаках бывал, но такой страсти не видал. Не приходилось с бабами воевать.
– Смеешься? – быстро оглянувшись по сторонам, тихо спросила она. – Ну, погоди, плакать будешь!
Улыбка сошла с лица Трубникова. Глядя осатаневшей красавице прямо в лицо, он сказал спокойно: