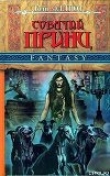Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
ДОРОГИЕ ДЕТУШКИ
1
Дом Тимофея Зорина стоит на крутом берегу ручья, как раз посреди Курьевки. Сквозь белый хоровод берез, дружно обступивших его, видны с дороги обе избы, срубленные по старинному обычаю, в ряд под одну крышу. Их соединяют бревенчатые сени с открытым крылечком, а венчает тесовая светелка с островерхой крышей и маленьким оконцем. И карнизы дома, и наличники, и крылечко затейливо оплетены деревянным кружевом резьбы, так что издали дом похож на старинную игрушку, которую сделал на досуге искусный мастер малым ребятам на забаву и себе в утешение.
К дому пристроен сзади большой двухэтажный двор, Внизу его содержится скот, а наверх завозят на зиму, по бревенчатому взвозу, сено. Один угол здесь занимает холодная клеть, где стоят бабьи сундуки с праздничными нарядами.
Если распахнуть ворота, выходящие на взвоз, увидишь сверху все хозяйство. Прямо перед глазами – широкий навес, под него ставят телеги, сани, дровни и складывают разный хозяйственный инвентарь; к одному боку навеса прилепился хлев, к другому – дровяник. Позади навеса зеленеет обнесенный высоким тыном небольшой огород; в конце огорода, подальше от жилья, стоит в одном углу баня, а в другом – хлебный амбар.
И дом, и хозяйственные постройки – все вросло в землю, скособочилось, почернело, доживая свой затянувшийся век. Пора бы давно уж хозяину ставить новые хоромы, да не дошли еще, видать, у него до этого руки. Сумел пока залатать только свежей дранью дыры на ощерившихся крышах.
Сегодня поднялся он чуть не затемно. Не спится хозяину в праздник! Пока бабы стряпали, сам накормил и напоил скотину, свежей подстилки обеим лошадям принес, отавы им в огороде накосил. Потом под навес заглянул: все ли как следует ребята убрали вчера после работы. Доволен остался: бороны поставлены на подкладки, к стенке, телега вымыта, сбруя промазана. Только вот ведерко с дегтем на улице забыли, ветрогоны! Никак их не приучишь к порядку.
Достал из-за голенища ключ от хлебного амбара, такой же большой, как от рая у апостола Петра на иконе, пошел в амбар, отомкнул обитую железом дверь. Долго стоял над полными закромами, потряхивая на ладони тяжелое зерно.
Никогда еще не намолачивал Тимофей столько хлеба, как нынче: одной пшеницы было два закрома с верхом! Прикинул, сколько можно будет продать, задумался: «Маловато! Нанять хотелось нынче плотников новую избу рубить; да не придется, видно. А уж как надо бы! Дом-то вон подгнил весь, скоро и жить в нем нельзя вовсе будет. Оно, конечно, ежели венцы нижние сменить да крышу поставить новую, постоит он еще лет десять, а то и все пятнадцать. Только ведь и новая-то изба нужна: Василий через год-два раздела потребовать может, а куда его без избы выделишь? Да и хозяйство ему помаленьку сколачивать надо загодя, чтобы не бедствовал в разделе, добром бы отца поминал!»
Запирая амбар, радовался про себя: «Теперь, слава богу, вся семья у меня – работники! Прихватить бы вот землишки в аренду да годков пять пожить вместе-то, поставили бы хозяйство на ноги. При нонешней власти это можно, только работай, не ленись!»
И подумал про сыновей с затаенной гордостью: «Все выдались работящие да послушные, радеют о доме. Навряд ли скоро делиться будут! Василий вон в армии уж отслужил, третий год как женат, а о разделе не заговаривал еще. Разве что Мишка взбаламутится после женитьбы, тот побойчей. Об Алешке и думать нечего – молод еще. Этот, младший, с родителями останется, кормильцем будет».
В избе с вечера было прибрано все, выскоблено, вымыто. На полу лежали чистые цветные дорожки, на окнах белели полотняные занавески с кружевами, а с зеркала спускалось до полу вышитое полотенце. Тимофей повесил ключ от амбара за божницу, умылся, неторопливо надел новую рубаху, гребнем расчесал русую кудрявую бороду и подстриженные под горшок волосы.
Бабы уже кончили стряпать. На столе, сияя фирменными медалями, важно фыркал и отдувался, как царский генерал на параде, пузатый самовар с помятыми боками. Перед ним красовался большой пирог с рыбой, оцепленный кругом строем рюмок и чашек.
Впервые за всю жизнь после смерти отца встречал нынче Тимофей престольный праздник настоящим хозяином! Наварил пива, купил в лавке вина и муки белой, барашка зарезал. Ребятам пиджаки всем троим сшил новые. Не забыл и про баб: старухе своей шаль зимнюю купил, а снохе Таисье голубого сатину на платье.
Сидел сейчас на лавке довольный.
– Ребят-то будить пора! – напомнила ему жена, прибираясь у печки. Сухонькая, маленькая, она третий день без устали кружилась и хлопотала на кухне, готовясь к празднику.
– Я сама сейчас Васю побужу! – повернулась живо от зеркала чернявая, как галка, сноха. Она уже успела надеть обнову – голубое платье из дареного сатина. Скрипя новыми полусапожками, выбежала в пустую избу, где спал муж.
Тимофей следом за ней пошел в сени. Там, под холщовым клетчатым пологом, сладко похрапывали Мишка с Алешкой.
В будние дни Тимофею частенько приходилось поднимать их с постели чересседельником, до того тяжелы были ребята на подъем после работы да ночных гулянок. Нынче, праздника ради, Тимофею не хотелось ссориться с сыновьями. Приподняв полог, сказал им ласково:
– Вставайте-ко, ребятушки! Невест проспите.
Но ребята не шелохнулись даже, лежали, как мертвые, широко открыв рты.
Махнув безнадежно рукой, Тимофей пошел в избу.
– Буди их сама, Соломонида! Я и так уж за лето все руки о них отбил.
Мать молча пошла в сени, зачерпнула там из кадки ковшик воды и, подняв полог, плеснула туда со всего маху. Ребята взвыли дикими голосами, и, боясь, как бы мать не пришла с ковшиком еще, выскочили одеваться. Из пустой избы, сонно почесываясь, вышел Василий.
Скоро вся семья сидела уже за столом. Тимофей торжественно достал из шкафа вино и налил рюмки.
– С престольным, родные мои!
Мать со снохой только притрагивались губами к рюмкам, зато ребята пили вино, как петухи воду, высоко запрокидывая головы.
После третьей рюмки Тимофей бережно поставил бутылку в шкаф и отодвинул от себя жаркое. Хотелось сказать сыновьям, чтобы жили еще дружнее, пеклись бы побольше о хозяйстве, не ленились бы; самому же слышать хотелось от них слова уважения и почета себе.
Но сыновья так занялись едой, что ничего не замечали кругом. Василий, наклонив белую голову, неторопливо и размеренно работал челюстями. У Мишки даже кудри взмокли и прилипли ко лбу, до того ретиво принялся он за пирог, раньше всех управившись с бараниной. Он и на работе был так же горяч и тороплив. Алешка рассеянно глодал кость, неизвестно о чем думая и не поднимая черных и пушистых, как у девки, ресниц.
– Так-то, дорогие детушки, стали и мы жить не хуже других, – начал Тимофей, ласково оглядывая ребят.
Мишка, дожевывая, пирог, перебил его:
– А вчерась в читальню лектор из городу приезжал, так сказывал, что никакого бога и нет вовсе, а люди, говорит, все от обезьян пошли…
Получив от матери звонкий удар по лбу ложкой, он сразу умолк, вытаращив растерянно глаза. Таисья фыркнула, глянув на ошеломленного деверя. А Василий, прикидываясь дурачком и мигая Алешке, спросил Мишку:
– Ты о чем это? Не понял я что-то. Бурчишь себе под нос, а чего – неизвестно…
– И я не слышал, – поддержал Василия Алешка, положив кость и изобразив на лице крайнее любопытство.
– Да все про рыбаков, – чуя подвох и косясь на мать, неторопливо и серьезно начал Мишка. – Они оба глухие были. Одного-то Васькой звали, а другого – Олешкой. Вот встретились раз на улице. Васька и спрашивает: «Что, рыбку ловить?» Тот отвечает: «Нет, рыбку ловить!» А Васька ему: «Вон оно что! А я думал, ты рыбку ловить!»
Таисья подавилась от смеха и выбежала в сени из-за стола. Мать, закрывая рот концом платка, молча погрозила Мишке половником. А Тимофей, хохотнув сначала, тут же нахмурился и визгливо кашлянул.
Душевного разговора с сыновьями не получилось.
Боясь, как бы отец не придумал им в праздник какого-нибудь дела, Мишка с Алешкой, не допив чая, выскочили из-за стола и, как на пожар, стали собираться на гулянье. Василий тоже, надев новый пиджак, потянулся нерешительно за картузом на полицу.
– Пойду и я ненадолго…
– Вроде и негоже мужику с ребятами-то гулять!
Надевая картуз, Василий заворчал:
– Хоть на людей поглядеть выйду.
Алешка давно уже был в сенях, а Мишка, сунув правую руку в рукав пиджака, левой торопливо тащил за ремень гармонию с голбца. Василий неприметно ткнул его в спину кулаком, чтобы не мешкал в дверях.
– Ветрогоны! – выругался Тимофей. – Одно гулянье на уме! Нет, чтоб о хозяйстве побольше думать.
Мать, глядя в окно на сыновей, дружно идущих по улице, тихонько укорила его:
– Что уж это такое, отец, и погулять ребятам нельзя! Ломали, ломали все лето спину-то, а ты отдыху им не даешь. Дело молодое, пусть потешатся…
Тимофей не дал договорить ей:
– Молчи, баба! Все бы жалела, а того не понимаешь, что дай им волю, и совсем от дома отобьются.
2
Долитый самовар снова празднично зашумел на столе. Ждали гостей: дядю Григория и свата Степана со сватьей Лукерьей.
Сидя у открытого окна, Тимофей нетерпеливо взглядывал на улицу. Где-то в конце деревни буйно пела Мишкина гармонь. На зов ее отовсюду спешили разряженные девки и ребята. За ними тянулись подвыпившие молодые мужики, а за мужиками неотступно жены, для догляду, а пуще из любопытства – взглянуть, как веселится молодежь, да повздыхать об ушедшем девичестве.
Вон туда же, видать, пошел и Елизар Кузовлев с молодой женой. А куда же ему идти-то? Не к тестю же! Кузьма Бесов не только зятя, а и дочку на порог не пустит. Не хотел он за Елизара никак Настю свою отдавать, но Елизар уговорил ее да ночью и увез тайком вместе с приданым. Кузьма, как хватился утром, до того ошалел, что и сейчас грозит кости ненавистному зятю при случае переломать.
Вот и идут молодожены не к родным, не гоститься, а просто на люди, чтобы дома одним не сидеть.
Жалея их, Тимофей сказал жене:
– Покличу-ка я, Соломонида, Елизарку с бабой. У всех людей праздник, а им деться некуда.
– И то покличь!
Как поравнялся Елизар с окном, замахал ему Тимофей рукой.
– Елизар Никитич, в гости заходите! Милости просим.
Остановились те, поглядели друг на дружку, повернули с дороги к Тимофееву дому. Хлопнула на крылечке дверь, заскрипели в сенях Настины полусапожки, простучали Елизаровы сапоги.
– С праздником, дорогие хозяева!
Елизар без пиджака, в новой желтой рубахе, в старых красноармейских штанах. Весь тут, как есть! Покосился зелеными глазами на праздничный стол, топчется смущенно среди пола, вытирает большой лоб рукавом. Тимофей гостям навстречу из-за стола.
– Проходите, гости дорогие!
– Спасибо, Тимофей Ильич, – благодарно кланялся Елизар, присаживаясь к столу. Подобрав новый сарафан, опустилась рядом с ним и Настя.
«Экую жену выхватил себе Елизар! – наливая вино, дивился Тимофей на Настю. – Загляденье, а не баба! До того ли статная да здоровая: идет – половицы гнутся. А как глазами синими глянет, с прищуром, да бровью поведет – и у старика сердце оттает. Характером вот только горделива да капризна очень. Чуть что не по ней – и хвост набок. Известно, одна у родителей дочка была. Балованная».
Не успели по рюмке выпить – в дверь дядя Григорий.
– С престолом вас!
– Спасибо. Садись, Григорий Иванович. Пошто без бабы пришел?
– Куда ей от робят?! – махнул рукой Григорий. Взглянув на стол, повеселел. Не часто доводилось ему вина да белых пирогов пробовать: бедно жил мужик из-за хвори своей да многодетности. Одернул холщовую рубаху, подсел с краю.
Пришли и сват со сватьей. Помолились, поздоровались чинно, сели под иконы, в «святой угол».
Соломонида с Таисьей едва успевали ставить на стол то студень, то щи со свининой, то пироги, то рыжики соленые мужикам на закуску.
– Кушайте, гости дорогие!
После пятой рюмки потекла беседа ручьем.
– Самогонки не варю, – хмелея, говорил Тимофей. – Ребят приучать к ней не следовает. Они у меня к вину шибко не тянутся…
– Ребята у тебя степенные, послушные, – бормотал осовелый сват, силясь поймать вилкой рыжик в тарелке. – Другие вон как на ноги встанут, так и от родителей прочь. А твои живут по закону, по божьему – чтят отца своего и матерь свою. Как в старину бывало. Тогда и по двадцать душ семьями жили. Вот как! Зато и нужды не видели. Да взять, к примеру, батюшку твоего, Тимофей Ильич. Пока жили вы при нем все четверо братьев с женами и детьми, да пока держал он вас, покойная головушка, в своем кулаке – был и достаток в доме у Зориных. А как разбрелись сыновья после смерти отца по своим углам, так и одолела их нужда поодиночке-то. Остался изо всех братьев один ты, Тимофей Ильич. Спас тебя Микола Милостивец от смерти и на германской войне, и на гражданской…
Поймав, наконец, рыжик, сват затолкнул его в рот и масляно прищурился.
– Прежде-то, помню, Зорины к успенью пива по пятнадцать ведер ставили…
– Не хвали, Степан, старую жизнь, – отодвинул от себя рюмку Елизар. – И в больших семьях житье было не мед. Знаю я. Чертоломили весь год, как на барщине. А что до согласия, то и у них до драк доходило. А все из-за чего? Из-за того, что жили-то вместе, а норовили-то всяк на особицу. Сначала бабы перессорятся, а потом и мужики сцепятся, пока их большак не огреет костылем. Большака только и боялись. Не уважь его – так он без доли из дому выгонит. Такая у него власть была. Ну, жили посправнее. Да только семей-то таких две-три на всю деревню было, а остальные из лаптей не выходили.
– Зато ноне в сапогах все ходят! – усмехнулся горько Григорий, почесывая плешивую голову.
– Все не все, а многие лучше прежнего-то живут!
Тимофей хвастливо вставил:
– Ноне, при Советской власти, одни лодыри в лаптях ходят. А которые работают, как я, к примеру…
Елизар обидчиво скосил на него пьяные глаза.
– Мы вот с дядей Григорием вроде и не лодыри, а только по праздникам сапоги-то носим.
– Верно! – дохнул густо луком Григорий. – А почему? Коли лошадь не тянет, на дворе коровенка одна, а на семь душ один работник – как ни бейся, а от нужды не уйдешь.
Тимофей привстал, дернул себя виновато за бороду.
– Постой. Не про тебя речь, дядя Григорий, ты человек хворый; и не про тебя, Елизар, у тебя лонись лошадь пала…
– У каждого своя причина! – медленно остывая от обиды, перебил Елизар.
Растерянно садясь на место, Тимофей пожалел его:
– Кабы тесть маленько тебе помог!
Елизар кинул вилку на стол, блеснул зелеными глазами.
– Не поминай про тестя, дядя Тимофей. Он добро не своим горбом, обманом нажил. И давать будет – не возьму!
Настю словно укололи в спину – выпрямилась сразу, вскинув голову и сощурив потемневшие глаза.
– Тятя мой никого не обманывал и чужого не брал! Сами наживали. От зависти на нас люди злобу имеют. А что торговал, так на это от власти запрету не было…
– Молчи! – тяжело стукнул по столу ладонью Елизар. – Я твоего папашу наскрозь знаю…
– Вот что, гости дорогие, давайте по-хорошему, тихо, мирно… – поднялся сват Степан, на обе стороны разглаживая сальными руками сивые волосы. Покачнулся, сел опять, уронив кручинно голову на костлявое плечо жены.
– Подхватывай, сват!
Сбивая крошки студня с редких усов, из темного рта Степана пробился тонкий вой:
Чудный месяц плывет над реко-о-ою…
Бабы пронзительно завизжали разными голосами:
Все объято ночной тишино-о-ой.
Заглядывая в красивое сердитое лицо жены, Елизар обнял ее и покрыл бабьи голоса угрюмым басом:
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красото-о-ой.
Она вывернулась из-под его руки, глядя чужими глазами в окно и вздернув обиженно верхнюю губу.
– Отстань.
– Нет, ты ответь мне! – настойчиво теребил Елизара за плечо Тимофей. – Я, по-твоему, как? Тоже обманом хозяйство нажил? То-то. Уметь, брат, надо жить-то!
Елизар выпил рюмку водки, густо крякнул и поддел на вилку зыбучий студень.
– Чего тут уметь-то? У тебя в семье все работники, и сам ты в силе. Поглядеть бы, как ты хозяйствовать будешь, ежели ребята по своим домам уйдут.
– А пошто им уходить от меня?! Им и со мной не худо! – похвалился пьяно Тимофей. – Ребята меня слушаются, только им скомандую. Утром встану: «Васька, поезжай пахать! Тебе, Мишка, на мельницу! А ты, Олешка, в лес пожню чистить!» У меня, брат, все по плану. Кругом – бегом. Попробуй не сполни моего приказа!
И опять похвалился:
– Надо уметь жить-то!
Елизар спросил, усмехаясь:
– Давно ли ты, Тимофей Ильич, жить-то научился? Я хоть и мальчишкой был, а помню, как ты на Яшку Богородицу батрачил.
– То при старом режиме было, Елизар Никитич, а ноне Советская власть.
– И при Советской власти бедноты хватает, – вздохнул угрюмо Елизар. – Ты после войны-то никак тоже года три, а то и четыре маялся, пока сыновья в силу не вошли. А до этого не лучше жил, чем я сейчас.
Тяжело моргая, Григорий перебил их:
– Вчерась у меня мужики из Сосновки ночевали. Ездили на станцию за удобрением да припозднились. Ко мне и заехали. Сказывали, будто у них которые хозяева второй год сообча землю обрабатывают. Шибко хвалили: хлеба намолачивают много. Не бедствуют, как раньше.
Елизар встрепенулся, спросил:
– Работают сообща, а хлеб делят как? По душам?
– Да рази ж это справедливо? – дернулся на лавке Тимофей. – У меня, к примеру, все работники, а у другого одни рты; у меня земля удобрена, а у другого тощая…
– Пошто?! – унял его Григорий. – Машины обчие, а земля своя. Сколь на ней вырастет, столь и получай.
Вынув из пива жидкие усы, Степан осторожно поставил кружку перед собой.
– Нам это ни к чему. Пущай Ванька Синицын идет в артель, ему больше всех надо. Верно, Тимофей Ильич?
– Верно, сват. Елизар зло усмехнулся.
– Вам-то оно, верно, ни к чему. А вот нам с Григорием Ивановичем в самый бы раз. Не в артель, так в коммуну – в Степахино.
– С богом! – хихикнул Степан. – Ваньку-то Синицына не оставьте. С собой его, с собой прихватите…
– И не выдумывай! – подскочила вдруг Настя, оборачивая к мужу искаженное страхом и гневом лицо. – Ни в жизнь не пойду. Ни в артель, ни в коммуну. Накажи меня бог!
Елизар, пьяно смеясь, силой посадил ее рядом.
– Пойдешь. Теперь уж куда я, туда и ты. В ад попаду и тебя, любушка, с собой.
Отталкивая мужа, Настя громко закричала, плача от ярости:
– Не пойду! Что хошь делай, не пойду! Иди один… коли не жалко тебе меня.
Закрыла мокрое лицо руками в горьком отчаянии:
– Куда же я-то теперь денуся?
Упав головой на стол, с тоской и страхом ответила себе:
– К кому больше-то, окромя тятеньки? Поклонюсь в ножки, может, не выгонит.
Елизар посерел, сразу трезвея. Стиснул окаменевшие скулы и, собирая пальцы в кулак вместе со скатертью, сказал жене тихо и грозно:
– Убью, а не пущу!
3
В избу ветром – соседская девчонка Парашка. Материнский сарафан на ней до полу, сама худенькая, остроплечая, с зеленым бантом в тонкой косичке. Увидела гостей, застыдилась сразу. Стоит у порога, хочет сказать что-то, а не смеет, только глазами черными исподлобья стрижет.
Глянула на нее Соломонида, вздохнула про себя: «Семнадцатый год пошел девчонке, скоро невеста, а в праздник одеть нечего! Кабы жив был родитель, допустил бы разве до этого?»
Спросила приветливо:
– Чего тебе, Паранька?
Та молчит, ноги в сапогах рваных подбирает, чтобы гости не увидели, жмется к косяку. Поняла Соломонида, что по секрету девка говорить хочет, подошла к ней.
– Тетенька Соломонида, – зашептала испуганно Парашка, – выйди-ка на крыльцо скореичка. Ваши-то страсть до чего пьяные. Домой идут. Как бы дяденька Тимофей не увидел их, а то осерчает шибко, греха бы не было…
Соломонида бегом за ней, на крылечко, поглядела из-под руки вдоль улицы:
– Матушки мои!
Идут все три сына по улице пьяные, чего с ними отродясь не было. Посередине – Мишка, гармонию себе на голову, охальник, поставил, да так и играет; сбоку от него – Василий, пиджак свой новый за рукав по земле тащит, сам что есть силы песни орет; с другого бока Алешка идет плясом, по земле картузом хлещет.
Вонзилась в сыновей глазами Соломонида, выпрямилась и застыла грозно на крыльце. Ни словом не выдала себя, пока не ввалились все трое во двор. Увидев мать, опешили сразу. Жалобно пискнув, умолкла гармонь.
– Где же это вы, бесстыдники, так налакались? – тихонечко спросила мать, не трогаясь с места. – Как теперь отцу-то покажетесь?
Мишка снял с головы тяжело вздохнувшую гармонь; Алешка, торопливо отряхнув картуз, прилепил его на затылок; Василии тоже поспешно накинул пыльный пиджак на плечи, но вдруг храбро выступил вперед и выкатил на мать остекленевшие глаза.
– А что нам батько?!. Мы сами с усами! Не век под его командой ходить!
– Кышь, ты! – испуганно оборвала его мать. – Ишь, чего городит! Вот как сам услышит, он тебе…
– Пусть слышит! – на всю улицу заорал Василий. – Может, я делиться желаю! Так ему и скажу: хватит на мне ездить! Я и сам хозяйствовать могу.
На крыльцо вышли захмелевшие гости вместе с хозяином.
– Тимофея Ильича я всегда уважу! – растроганно говорил жене Елизар, нащупывая нетвердой ногой ступеньки. – И не родня, а вот, видишь, в гости нас позвал. Не то что тесть! Да мне плевать на тестя, хоть он и отец тебе. Не с тестем жить, а с тобой…
И лез целоваться то к Тимофею, то к жене. Пылая от рюмки вина, а еще пуще от стыда и злости, Настя отпихивала мужа прочь.
– Людей-то посовестился бы! Мелешь, сам не знаешь чего.
Сват со сватьей кланялись Тимофею.
– Много довольны, сватушка. Теперь к нам просим милости!
А Василий, не видя, что отец стоит на крыльце, полосовал рубаху на себе.
– Хватит горб гнуть! Своим хозяйством хочу жить! Так и скажу прямо ему: давай мне лошадь, корову, избу…
Неожиданно трезвея, Мишка схватил брата за плечо.
– Больно много захотел, братан. А мы с Олешкой при чем останемся? Рази ж мы не наживали?
– Вы? – вскинулся на него Василий, смахивая с губ рукавом серую пену. – А много ли вы наживали, сопливики?!
– Кто? Я? – подпрыгнул Мишка. – На-ко, Олешка, подержи гармонь. Я ему сейчас…
Василий бросился к тыну выламывать кол.
– Тятенька! – отчаянно закричала Таисья, сбегая с крыльца. – Убьют ведь они друг дружку.
Прячась за спину Тимофея, сват со сватьей испуганно глядели на расходившегося зятя.
А Василий, выломив кол, кинулся было к Мишке, но Елизар удержал его, крепко обняв сзади вокруг пояса. С налитыми кровью глазами Мишка тоже рвался в драку из Алешкиных рук.
Не сходя с крыльца, Тимофей глядел исподлобья на сыновей помутневшим взглядом, выжидая чего-то. Мать спустилась с крыльца, спокойно приказала снохе:
– Неси воды.
Когда Василий, вырвавшись из рук Елизара, кинулся с колом на Мишку, она ловко ухватила его за ногу, и тот ткнулся лицом в траву.
Подбежала Таисья и вылила мужу на голову полведра воды. Он сел и заплакал, жалобно моргая глазами.
– Это как же?! Родной брат, а?! Руку на меня поднял! Н-ну, Мишка, я тебе этого не забуду. Ведь родной, а с кулаками на меня, а?
Пока бабы уводили Василия домой, Мишка невесть с чего полез драться на Алешку. Должно быть, из-за того, что тот удерживал его давеча от драки с Василием.
Но за Алешку вступилась взявшаяся откуда-то Парашка. Закрыв его собой, как курица цыпленка от ястреба, она встретила Мишку таким визгом и так жутко посмотрела на него своими цыганскими глазами, что тот попятился. А потом побрел прочь, держась за изгородь.
– Тимофей Ильич! – в пьяном восторге кричал уже с дороги Елизар, подражая командиру. – Дисциплины не вижу! Почему такая распущенность? Кто здесь у вас командир?
И хохотал, вскрикивая:
– Ой, не помереть бы со смеху!
Тимофей с крыльца говорил свату со сватьей:
– Уж вы извините, гости дорогие! Не привыкли у меня к вину ребята. Не умеют во хмелю себя соблюдать.
4
Уйти от отца Василий задумал еще с весны, да все не решался заговорить с ним о разделе; крутенек характером и тяжел на руку был родимый батюшка, коли не в час ему слово молвишь.
Но чего трезвый не скажет, то пьяный развяжет. Так и случилось с Василием в праздник. А на другой день, проспавшись, понял он, что ходу назад теперь нет. И когда начал отец суровый разговор с ним о вчерашней ссоре, Василий, головы не поднимая, сказал сухо:
– Давай, тятя, расходиться.
Отец умолк, оторопело глядя на него покруглевшими глазами. Опустившись на лавку, визгливо кашлянул, полез растерянно всей пятерней в бороду.
В доме сразу стало тяжело и тихо, как при покойнике. Мать, опершись на ухват, молча плакала около печи, Таисья с каменным лицом бесшумно убирала со стола; даже Мишка с Алешкой и те присмирели, забравшись с ногами на голбец.
Ни на кого не глядя, Василий оделся и сходил за уполномоченным деревни Синицыным.
– Ты уж, Иван Михайлович, будь у нас свидетелем при разделе, чтобы все справедливо было, по-хорошему… – говорил Тимофей, наливая ему рюмку вина.
Выпив угощение, Синицын вытер густые черные усы ладонью и неожиданно выругал всех:
– Не дело задумали! Чего бы вам не жить пока вместе-то? Али бабы взбаламутили?
– Хочу сам хозяйствовать! – заявил Василий.
Невесело усмехаясь, Синицын пожалел его:
– Ужо хватишь горького до слез!
Пока переписывали и оценивали имущество, споров не было. Но когда начали делить его по душам, Василий с обидой и гневом сказал отцу:
– Не по совести, тятя, поступаешь! У меня баба на сносях, а ты мне две доли только даешь.
Синицын шевельнул усами, пошутил горько:
– Надо было поспешать ей к разделу-то.
И строго объяснил:
– На младенцев, которые в утробе, ни имущества, ни земли не полагается.
А отец чужим голосом сказал:
– У меня вон еще двое, кроме тебя. Об них я тоже думать должон.
Василий сел на лавку придавленный, опустив голову. Больше он ничего не говорил и уже безучастно следил за разделом. Не споря, согласился взять старого Бурку, корову, лес на избу, амбар, старый плужок и борону.
Выходило – новому хозяину и жить негде, и скотину некуда девать.
Только сейчас понял Василий, что затеял не шутейное дело. Взглянув на плачущую Таисью, еще ниже опустил голову.
Составили раздельный акт. С отчаянной решимостью Василий подписал его первым.
– Ну вот, – вставая, угрюмо сказал Синицын, – еще бедноты в деревне прибавилось.
И вышел из избы, не прощаясь.
Утром Василий, осунувшийся за ночь от новых дум и забот, долго сидел в углу на голбце, не говоря ни слова, как чужой. За завтраком, чувствуя, что ест не свое, хлебнул две ложки супу и вылез из-за стола.
Когда отец тоже поднялся с лавки и начал собираться в лес рубить жерди, Василий вдруг совсем мирно сказал ему:
– Я, тятя, уехать надумал. Сказывают, народу нонеча много требуется в отъезд, заводы строить…
Мишка с Алешкой разом положили ложки и, разинув рты, с любопытством и завистью уставились на брата, а бабы так и оцепенели. Тимофей присел рядом с Василием, хмуря в раздумье лоб.
– Насовсем али как?
– Там видно будет. Как поживется. Может, и насовсем.
– Не думаешь, стало быть, хозяйствовать?
Василий криво усмехнулся.
– С чем хозяйствовать-то? Ни избы, ни двора. Пока обзаведешься, грыжу наживешь.
– Пошто делился тогда?
Василий промолчал.
– Один поедешь али с бабой?
Просительно заглянув отцу в лицо, Василий неуверенно сказал:
– Кабы твое согласие, пусть бы Таисья у вас пожила пока…
– А поедешь-то с чем?
– Хлеба мешка три продать придется, а то корову…
Подпоясывая холщовый пиджак кушаком, Тимофей выругал сына:
– Только худые хозяева хлеб с осени продают. Да и корову отдавать нельзя – она стельная.
И плюнул сердито на пол.
– Эх вы, ума своего еще не нажили, а в хозяева лезете!
Заткнул топор за кушак, надел варежки.
– Гляди сам! Тебе жить.
Уже берясь за скобку, сказал потеплевшим голосом:
– Денег я тебе на дорогу могу, конечно, дать. Вышлешь потом, ежели заработаешь. Или хлебом отдашь. А баба пускай у нас пока поживет…
Но только сунулся в дверь, как Мишка выскочил из-за стола весь красный, с загоревшимися глазами.
– Тять, пусти и меня с Василием!
Тимофея словно ударил кто в лоб из сеней, он быстро попятился в избу и глянул через плечо на Мишку белыми от гнева глазами.
– Что-о? Ишь чего выдумал! Я вот возьму сейчас чересседельник да как вытяну тебя по хребтине!..
И, топая ногами, закричал страшно:
– Разорители! А в хозяйстве кто работать будет? По миру пустить хотите?!
Пятясь от отца, как от медведя, Мишка испуганно говорил:
– Я бы, тятя, зиму только поработал, а к весне – домой. На одёжу заработаю да хлеба дома есть не буду – и то ладно.
Тимофей с грохотом бросил топор под приступок, а варежки швырнул в угол. Растерянно опустившись на лавку, плюнул в отчаянии.
– Работа на ум не идет! Сбили вы меня с толку совсем.
С опущенной головой долго сидел молча, потом заговорил вдруг неожиданно ласково, тихонько:
– Неладно, ребятушки, делаете. Коли свое, родное гнездо разорите, на чужой стороне богатства не нажить. Одумайтесь, пока не поздно. Земли у нас теперь много, а не хватит – приарендовать можно. Вся семья у нас – работники! Чего бы не жить-то?! Не о себе пекусь, о вас же! Нам со старухой много ли надо? Умрем – все ваше будет…
Не дав ему договорить, Мишка упрямо сказал:
– Хочу с Васькой ехать.
Тимофей быстро вскочил с места, выдвинул из-под лавки сундук и, с трудом найдя ключом скважину, открыл его. Дрожащими руками достал завернутые в тряпицу деньги, отсчитал сто рублей и бросил их на стол.
– Нате! Коли вы не жалеете ничего, и мне ничего не жалко. Поезжайте хоть все!
И, уходя, так хлопнул дверью, что из рамы вывалилось на улицу стекло и раскололось там с жалобным стоном.
5
Собираясь провожать сыновей на станцию, Тимофей с утра накормил получше молодую кобылу Чайку овсом, выкатил из-под навеса и наладил новую телегу, вынес из сеней праздничную сбрую.
Он уже пообмяк после ссоры, хоть и был все еще хмур и суров с виду. Со старшим сыном примиряло Тимофея то, что Василий не потребовал сразу раздела земли да и скот оставлял пока отцу же. Помаленьку остывал гнев и на Мишку. «Пусть поработает до весны на людях-то, – размышлял он, – корысти большой от него не будет, зато хоть ума понаберется. А баловаться там ему Василий не даст».
За чаем старший сын совсем покорил отца хозяйской заботливостью.
– Не́чего, тятя, кобылу-то зря на станцию гонять, – сказал он. – И пешком дойдем, тут и всего-то шесть верст. Запряги ты лучше старого Бурку, а мы с Мишкой съездим на нем до обеда в за́секу. Надо бревна там из леса к дороге вытащить да в штабель скласть, чтобы не погнили. Без нас вы надорветесь тут с ними…
Растроганно глядя на ребят, Тимофей предупредил:
– Глядите, к поезду не опоздать бы.
– Успеем. До вечера долго еще.
Уходя запрягать Бурку, проверил, все ли приготовили бабы ребятам в дорогу.
– Белье-то положили?
– Положили, тятенька, – торопливо ответила осунувшаяся за последние дни Таисья.
– Про соль не забудьте. В дороге понадобится – где ее возьмешь!
Мишке присоветовал:
– Струмент сапожный возьми с собой. Прохудятся у которого сапоги – сам починишь, новые-то не вдруг нонеча укупишь. Да и на тот случай сгодится, ежели работы не будет. Со струментом нигде не пропадешь.