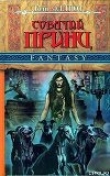Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Надели очки, кинулись оба опять к печке. А директор крикнул Соломониде:
– Теперь, тетка, пойдем. Недосуг мне с тобой, совещание надо проводить. Сейчас я тебя домой к сыновьям доставлю. Адресок-то есть?
– Есть.
Вышли из геенны огненной на улицу, забрала Соломонида свои узелки у вахтера, пересчитала – все тут. Сели с директором в машину, не успела и глазом моргнуть – подлетела машина к маленькому домику с зеленым палисадничком.
Алексей Федотыч дверку в машине открывает.
– Выходи, тетка, приехали. А сыновьям своим скажи, чтобы завтра оба ко мне зашли для разговору.
Попрощался – и был таков.
3
Пождала, пождала Соломонида на улице сыновей с работы – нету. Пошла во дворик и только поднялась на крылечко, как услышала вдруг за собой испуганно-радостный зов:
– Мама!!!
Оба сына стояли в открытой калитке, не решаясь заходить во двор и подталкивая друг друга локтями. Охнула Соломонида от великой радости и гнева, бросила свои узелочки и сбежала с крыльца.
– Вот вы где, бесстыжие! Думали, поди, не найду! Ну-ко, идите, идите сюда!
Она поискала кругом глазами какой-нибудь палки или полена. В сердцах схватила из изгороди хворостину и сурово приказала:
– Ваське – первому!
Тот покорно, как в детстве бывало, пошел к матери, угрюмо нагнув голову и тихонько упрашивая:
– Не срами, мать, перед народом. Соседи в окна глядят…
Уж лучше не говорить бы ему этих слов: только пуще распалили они мать. Проворно подбежав к сыну, она молча огрела его хворостиной три раза по широченной спине.
Потом кинулась ему на шею, причитая:
– И в кого ты только уродился такой неслух?!
Но при виде Мишки, все еще нерешительно стоящего в калитке, слезы матери сразу высохли.
– А ты чего выжидаешь, идол?
Не допуская, видно, и мысли, что мать может побить его, Мишка одернул пиджак, бережно поправил на голове фетровую шляпу и, поскрипывая щеголеватыми хромовыми сапогами, храбро пошел вперед. Он уже развел руки, чтобы обнять мать, но та, ухватив его за кудри и низко нагнув ему голову, принялась хлестать хворостиной то по спине, то по мягкому месту.
– Я те научу родителей уважать! Ты у меня будешь мать помнить.
На шум пооткрывались у всех соседей окна, выбежали из дома на крылечко обе снохи. Таисья, узнав свекровь, так и застыла на месте от удивления и неожиданности. А Мишкина жена, Катя, полногрудая черноглазая хохлушка в пестром сарафане, хоть и увидела свекровь впервые, но угадала ее сразу, по характеру.
– Бей его, маты, та добре! – горячо советовала она с крыльца. – Ось так! Ось так! От вже гарно!
Таисья теперь хохотала только, глядя на своего растрепанного мужа, опасливо стоявшего в стороне.
Но мать уже уморилась и, бросив хворостину, пошла к снохам.
Таисья кинулась ей навстречу, за Таисьей сбежала с крыльца и Катя.
– Ненько моя!
Умывшись во дворике и надев рубахи, братья пошли в дом, сконфуженно пересмеиваясь. А на столе уже дымился вкусным паром разлитый по тарелкам борщ. Соломонида сидела в сторонке, у окна, и, гладя четырехлетнего внука по стриженой круглой головенке, ласково беседовала с ним:
– Толя, дитятко роженое, бабушка ведь я тебе…
Мальчик глядел на нее исподлобья синими отцовскими глазами с белыми ресницами, крепко прижимая к груди берестяную корзиночку, присланную дедом.
– А лошадку мне привезла?
– Лошадку-то? Ох, забыла! Я тебе медведя с мужиком привезла. Оба, как живые, – молотками куют. Ужо-ка, вот, из мешка их достану…
Василий смущенно вышел на середину пола.
– Ну, мать! Милости просим за стол. Чем богаты, тем и рады!
И подмигнул брату, качнув неприметно головой на шкаф со стеклянными дверцами. Мишка расторопно достал оттуда графин с вишневкой и расставил по столу тонконогие рюмки. Себе и брату, опасливо косясь на мать, вынул из шкафа большие стопки.
– Вы сидайте, мамо, сюды, або сюды… – хлопотала Катя, ставя к столу большой стул с вышитой подушкой и плетеное кресло.
– А может, лучше на диван? – спрашивала у свекрови Таисья.
Мать милостиво принимала это уважение к себе и важно молчала Она с первого взгляда, как только вошла сюда, поняла, что сыновья живут «справно» и в согласии. Не будь этого, снохи не встретили бы ее с таким дружным радушием. Да и в доме было так чисто, так светло и уютно, как бывает только в хороших работящих семьях.
Уже идя к столу, глянула Соломонида в святой угол и подняла было руку, чтобы перекреститься, а иконы-то нет.
– В коммунисты, что ли, записались? – горько спросила она, опуская руку и не садясь.
– Нет еще пока, – нахмурился Василий. Чтобы замять разговор, он принялся за борщ.
Но тут тяжелая догадка ударила мать в сердце. Упавшим голосом она спросила сына:
– Внук-то у меня, поди, некрещеный?
И по тому, как сразу переглянулись все, поняла, что не ошиблась.
Василий, не умея врать, молчал. Тогда Мишка поспешил выручить его:
– Да ведь здесь, мать, и попов-то нету, – горячо начал он оправдываться, отчаянно мигая брату. – Кто его окрестит? Мы и так уж сами его каждый день по первости в тазу купали…
Соломонида со слезами обняла внука и сурово укорила сноху:
– Тебе бы, Таисья, дураков этих поменьше слушать надо. До какого стыда дожила!
– Он мне, мама, и некрещеный люб! – чужим голосом отозвалась Таисья. – Я его никому не навяливаю.
Мать с сердитым удивлением взглянула на сноху, но смолчала, пораженная переменой в ней. Прежде робкая и молчаливая, Таисья и за столом сидела, бывало, как виноватая, а сейчас она смело глядела на свекровь, выпрямившись и вскинув красивую голову с черным узлом волос на затылке. Щеки и уши ее зарозовели, а серые глаза с искорками сердито сузились.
«Ну, характер! – опешив, подумала свекровь. – Вон ты когда только начала его показывать-то!»
Но сама виду не подала и, усаживаясь на диван, спросила грозно:
– А Олешка где?
Василий спешно дожевал и проглотил мясо, вытаращив от усилия глаза и смущенно хлопая белыми ресницами.
– Олешка еще лонись в Москву уехал. Он в стержневом у нас работал, а вечерами в клуб все ходил на курсы да в кружке у художника рисовать учился. Потом курсы кончил да надумал дальше учиться в институте. Художником хочет быть…
Ложка задрожала в руке матери. Она положила ее на стол.
– Да как же ты смел от себя его отпустить?
Василий усмехнулся вдруг спокойно.
– А что, мне на веревке его держать? Сам не маленький…
Мать встала, выпрямилась и постучала кулаком по столу.
– Мотри, Васька, ты здесь старшой, ты и в ответе: не дай бог, случится что с Олешкой, голову тебе оторву. Помяни мое слово!
Видя, что обстановка раскаляется, Мишка догадливо разлил вино по рюмкам и поднял свою стопку.
– Со свиданьем, мама!
Все встали. Зорко глянув на сыновей, как те пьют, мать только пригубила из рюмки. Молча принялась за борщ. Ни на Василия, ни на Мишку она теперь не обращала внимания, зато со снохами была ласкова. Отведав борща, спросила:
– Кто у вас стряпает-то?
Новая сноха ответила:
– Которой досуг, та и стряпает. Мы с Тасей в разных сменах.
– Щи-то уж больно вкусные!
Таисья не утерпела и, все еще глядя мимо свекрови, сказала:
– Сегодня Катя домовничает.
– У нас и щи, и бабы вкусные! – похвалился Мишка, масляно сверкнув глазами.
– Молчи, охальник! – прикрикнула на него мать, а Катя, краснея от смущения, поддержала ее:
– От вже дурный, так дурный!
Когда поставили на стол гуляш, Мишка опять потянулся было к графину с вишневкой, но мать так сверкнула на него глазами, что Мишкина рука дрогнула и остановилась на полдороге. Но он ловко выкрутился. Чтобы скрыть от матери свое первоначальное намерение и рассеять ее подозрение, прищелкнул пальцами и спросил жену:
– И куда это горчица подевалась? Все время тут стояла.
Но Катя безжалостно напомнила ему:
– Та ее же нема третий день. И чего это тебя на горчицу потянуло? Никогда раньше не ел.
Все дружно засмеялись, даже мать улыбнулась. Когда вышли из-за стола, она уже миролюбиво приказала:
– Ну-ко, Мишка, бери бумагу да пиши. Мне сперва дело сделать надо, а гостить потом. Отец-то, поди, ждет не дождется весточки от меня.
Михаил послушно достал с этажерки тетрадку и чернила, вытащил из кармана перо и разложил все это перед собой на столе.
Сняв безрукавку и пригладив седеющие волосы, мать торжественно села в кресло.
– Ну, давайте отцу ответ, как дальше жить думаете: здесь ли останетесь, али домой вернетесь землю пахать? И еще присоветуйте, записываться ли нам в колхоз, али до вас погодить? Подвигайся, Василий, к столу, и вы, бабы, тоже. Вместе писать будем.
– Меморандум, значит? – догадался Мишка, окуная перо в чернила.
– Чего это он толкует? – не поняла мать.
– Да так, шумит, как сухой веник, – глянув сердито на брата, отмахнулся Василий.
– Обормот! – вздохнула мать. – Тут о деле говорят, а ему смешки.
И, оглядев всех, потребовала:
– Перво-наперво отписать надо, когда домой думаете ехать.
Михаил заскрипел пером.
– Куда спешить-то, ветрогон? – остановила его мать. – Подумать прежде надо. Дело-то не шутейное.
Положив перо, Михаил смущенно почесал за ухом. Все долго молчали.
– Привыкли уж мы здесь, мама… – тихо, но твердо сказала Таисья.
– Я с завода не уйду и домой не поеду, – упрямо заявил Михаил. – Чего я там забыл, в Курьевке-то?
– А родителей-то! – гневно напомнила мать и вдруг заплакала в голос, упав головой на стол.
– Ненько моя! – кинулась к ней Катя. – Не слухай ты мово дурня.
Мать подняла голову и, сжав губы, горько задумалась.
– Твое слово, Василий Тимофеевич. Ты здесь старшой, как скажешь, так и будет.
Василий молчал, часто хлопая белыми ресницами. Зная тяжкодумие старшего сына, мать и не торопила его с ответом.
– Я всяко, мама, прикидывал, – с трудом заговорил он, наконец, морща лоб. – И так, и эдак. Как сюда приехал, не поглянулась мне здешняя жизнь: по гудку вставай, по гудку обедай, по гудку отдыхай; ни хозяйства, ни дома своего, живешь, как сирота. Место тут было неприютное, голое, ни деревины кругом, ни травки, один песок. Иной раз, бывало, так сердце защемит, хоть в воду кидайся Так ведь и воды-то путной не было: ни речки настоящей, ни пруда. Тогда же и решил: «Доживу до весны, – да назад, в деревню». Говорю Мишке: «Собирайся, братан, скоро поедем». А он уперся, как бык: «Поезжай один, мне и тут хорошо». Ну, конечно, он холостой был, а тут и приодеться, и погулять можно…
Слушая брата, Мишка улыбался и покачивал ногой.
– Идол! – не вытерпела мать, сверкнув на него глазами.
– …А к тому времени завод мы строить кончили, перешли оба работать в литейную: я подручным сталевара, а Мишка разливальщиком. Работа нелегкая, да и страшновато сперва было, но платить хорошо платили. «Ладно, – думаю, – год еще как-нибудь продержусь, зато домой будет с чем ехать». И то сказать, когда с отцом разделились мы, негусто на мою-то долю пришлось. Ну, вот, работаем, а время идет к весне. Тут как раз нам с Мишкой квартиру новую дали, домик вот этот, как самолучшим ударникам. Мы, и верно, от людей в деле не отставали, а даже совсем наоборот. Спасибо тяте, работать он научил нас. Переехали мы из барака в новое жилье. Веселее стало жить-то! А тут Тася явилась. Вроде свой дом стал, и своя семья. Зарабатывали мы неплохо, приоделись все. Чумаками-то ходить не хочется, да и перед людьми стыдно…
Василий опять надолго замолчал, собираясь с мыслями.
– Ну, живем и не тужим, значит, а о родимой-то сторонке нет-нет да и вспомнишь. Иной раз сердце так и резанет: «Как там сейчас родители живут, чего в деревне делается, все ли живы, здоровы…»
Василий выпрямился и вздохнул глубоко.
– О земле шибко я тосковал. Как в дом этот переехали, не утерпел: подошло время пахать, взял лопату да около дома место под огород вскопал. Неделю возился, пока мусор да камни убирал, чтобы землю освободить. Посадили моркови, луку, помидоров. Не велика в них корысть, и на базаре можно купить дешево, а сердцу – отрада. Под окнами вон две деревины посадили. Хорошо принялись. Бог их знает, что за деревины. Здешние. Тут ни рябины, ни липы, ни березы нету…
На следующую весну опять меня тоска взяла. Говорю Мишке: «Уеду я, а ты оставайся тут да учись, пока холостой. Нечего болтаться-то!» Он на меня фыркать было начал, ну и пришлось поучить его маленько. Раза два подвесил как следует. Образумил.
При этих словах Михаил сердито хохотнул и закрыл рот рукой. Но Василий, даже не взглянув на брата, продолжал:
– Учится сейчас. В институт собирается тоже. Может, в инженеры выйдет…
– Дай-то бы бог нашему теленку волка съесть! – усмешливо вздохнула мать.
– Так и жили мы до третьей весны. И вижу я – уезжать-то нет расчета. По работе мне уважение, заработки хорошие, и дом свой есть. Я теперь не только свою семью, и родителей могу прокормить. Об родителях я, конечно, пекся. Писать, правда, мало приходилось, потому как не шибко я грамотен, да и закрутило меня тут. Живешь, как с горы бежишь: ни остановиться, ни оглянуться не можешь – подпирает. А Мишка, сколь ни просил я его домой написать, тоже говорит, не успеваю никак…
– Бессовестный! – вставила мать. – Небось, жениться так успел! Ни совета родительского, ни согласия не спросил. Оттого, видать, и писать-то бросил, что отца-матери боязно да стыдно стало…
Михаил вспыхнул весь, порываясь сказать что-то, но смолчал, увидев за спиной матери тяжелый кулак брата.
Не давая разгореться ссоре, Василий мягко сказал:
– Так что вы с тятей не сомневайтесь, не оставим вас. Скажи ему, что Василий, мол, просит в любое время хоть в гости, хоть на житье.
Мать прослезилась растроганно, встала и поклонилась Василию в пояс.
– За доброту твою и за разум спасибо, милый сын. Нам только слово ласковое – тем и довольны. А доживать в своем гнезде будем.
Когда прошла светлая минута примирения, мать тяжело вздохнула:
– Теперь советуйте, как нам с колхозом быть.
Тряхнув кудрями, Михаил важно сказал:
– Давно бы вступить надо. А то держитесь своему Бурке за хвост. А к чему? Бессознательность свою показываете…
– Тебе молчать надо, – обрезала его мать. – У тебя еще темячко не окрепло.
– Ехали бы с тятей к нам, – вздохнула Таисья.
Мать ласково взглянула на нее.
– Хозяйство-то, сношенька, бросать жалко!
– А я что и говорю? – не унимался Михаил. – Собственники и есть.
Мать безразлично поглядела на него, как на стену, и повернулась к старшему сыну.
– Видно, Василий Тимофеевич, опять тебе рассудить нас…
Не поднимая головы, Василий заговорил глухо:
– Как вы вступили в колхоз и отписали нам про это, скребнуло у меня на сердце. Хоть оно и надежнее в колхозе-то вам, а жалко хозяйства мне стало. Ведь за что ни возьмись, все есть в хозяйстве у тяти. Крестьянствовать бы только. Но опять же, если подумать: «А дальше что было бы?» Раньше-то не мозговал я, а теперь, грешным делом, тятю своего так понимаю: кабы остались мы тогда все в деревне да жили вместе, он бы из нас жилы вытянул. Ему всего мало было: и скота и земли. Он, тятя-то, остановиться уж не мог. Недаром насчет аренды заговаривал. Он мечту имел земли заарендовать, нас как следует запрячь да со стороны принанять работников. Не будь от власти стеснения, так прямехонько бы в кулаки и вышел. И сам не заметил бы. Как хошь, мама, суди меня, а я так думаю.
– Ох, верно! – испуганно воскликнула мать.
Темнея лицом, Василий поднял голову.
– Его сейчас приглашают в колхоз-то, а будет старого держаться, вовсе не примут, хоть на колешки упадет. Так ему и передай. У Советской власти тоже терпение лопнуть может. Ей надо заводы строить, а рабочих людей чем кормить? Вы поодиночке-то землю ковыряете только. У ней, у Советской власти, такая линия, чтобы и в деревне все люди хорошо жили. А кто супротив этой линии – того с дороги прочь!
Мать сидела с окаменевшим лицом и широко раскрытыми глазами:
– Ну-ко, Мишка, пиши ему, старому дураку, чего Василий-то говорит.
Пока Михаил скрипел пером, Василий спрашивал у матери:
– Бурка-то жив у нас?
– Жив.
– А телку прирезали поди?
Мать в отчаянии махнула рукой.
– Старик, перед тем как в колхоз писаться, порешил. «Все равно, – говорит, – ей пропадать-то!» В голос я ревела, как он резать пошел. Такая бы сейчас богатая корова была!
Василий опустил голову и нахмурился.
– Неладно тятя живет. Не в ту сторону думает.
– Готов меморандум. Слушайте! – торжественно объявил Мишка, кладя перо.
Мать была приятно поражена, как складно и толково написал Михаил письмо, но ничего не сказала ему, только велела отписать поклоны дяде Григорию и свату Степану.
– Уж вы распишитесь все, – попросила она. – Чтобы не сумлевался больше старый, послушал бы нас. Василий, ты первый, по старшинству.
Когда все подписались, мать тоже взяла перо непослушными пальцами и поставила в уголке письма косой крест.
ВОЗНЕСЕНИЕ ТЕТКИ СОЛОМОНИДЫ
И недели не погостила у сыновей Соломонида – засобиралась домой.
– Что уж так скоро-то, мама! – обиделась Таисья. – Али привечаем тебя плохо? Может, недовольна чем?
– Всем довольна, сношенька, а только ехать пора, – твердо стояла на своем свекровь. – Мужик-то ведь у меня без присмотра там остался. Храни бог, не случилось бы чего с ним! Уж больно в домашности-то он бестолковый: мужик, так мужик и есть, что с него спросишь!
И задумывалась подолгу, тяжело вздыхая и украдкой смахивая со щек слезы.
– Не удалось вот Олешеньку-то повидать! Кабы попутно было, заехала бы к нему, да где уж теперь!
Все только догадывались, почему так тревожно тоскует мать о своем младшем сыне, но расспрашивать ее не смели. Произошла, видно, у Алексея с родителями тяжелая ссора, когда он в город из дома уходил. Недаром отец в письмах даже не поминал его никогда, да и Алексей за все время не только не писал отцу с матерью, а и поклона им ни разу не передавал.
Сколько Василий у него ни допытывался, почему он такое сердце на родителей имеет, так и не добился ничего. Уж и стыдил-то, и ругал-то, бывало, а не смог из него ни одного слова вытянуть: окаменеет Алексей весь, глаза в угол уставит, да так и сидит целый час, даже страшно за него становилось. Раз, правда, проняло-таки парня, в голос взревел, но сказать опять ничего не сказал. Василий решил при случае выведать нынче все про Алексея у матери.
Как-то раз, вернувшись с работы, он застал ее одну. Держа в руках портрет Алексея, мать сидела у окна и плакала. Увидев Василия, смущенно принялась вытирать рамку фартуком.
– Запылилась больно…
Василий переоделся молча и, собравшись уже идти во двор умываться, нерешительно остановился у порога с полотенцем в руках.
– Чем обидели Алешку-то, мать? Не писал он вам домой ни разу, да и теперь про вас в письмах не поминает…
Мать изменилась в лице и дрожащей рукой стала вешать на место портрет сына. Тяжело опустившись на стул, охнула жалобно:
– Не спрашивал бы лучше! Виноваты мы перед Олешенькой…
Долго глядела в окно, не шевелясь, не вытирая слез, потом подозвала Василия и зашептала испуганно:
– Тебе только и скажу одному, как старшому. Выгнал ведь его отец тогда из дому-то!
– Что ты, мать?! – вздрогнул Василий. – Верно ли говоришь?
– Ох, верно. Да и я-то, подлая, не заступилась за Олешеньку! Каюсь вот теперь, да разве кому от этого легче?!
– Вот оно что? – тихонько сказал Василий и сел к столу, растерянно обрывая бахрому полотенца. – Как же это у вас получилось-то?
Мать вытерла слезы и, словно боясь, как бы не подслушал кто, заговорила вполголоса:
– …В тот самый день, когда в город вы с Мишкой собрались уезжать, стал и Олеша у отца проситься ехать с вами. А отцу страсть как не хотелось его отпускать. Ведь младший он, кормилец наш. Добром его сначала отец уговаривал: «Куда ты, – говорит, – дурачок, поедешь? Все хозяйство будет твое, как Мишку выделим. А весной женю, – говорит, – тебя. Вон у Назара Гущина девка-то какая работящая растет! Только посватай – до слова отдадут. В сундуках-то у ней, поди-ка, добра сколько! Да и корову за ней Назар даст. Земли у нас много – живи, радуйся. И нам любо: старость нашу будешь покоить».
Спервоначалу-то Олешенька поперек не пошел, подумал и отвечает отцу: «Ладно, тятя. Жить я с вами буду, не брошу вас. Только сейчас не неволь меня. В город я все равно уеду, на зиму. А невесту, – говорит, – я давно сам выбрал, не Настю Гущину, а другую, какая мне по сердцу. Приданого только нету у ней. Так я его в городе заработаю сам».
Шибко это отцу не понравилось. «Коли так, – говорит, – никуда ты не поедешь. Вот моя родительская воля». А Олешенька-то тихонько так говорит: «У меня, – говорит, – и своя воля есть. А на родителей, – говорит, – нонеча тоже управу найти можно». И как только слово это он сказал, отца с места так и подкинуло, ногами затопал, кулаками замахал. «Вон, – кричит, – из дома, стервец! Чтобы и нога твоя на мой порог не ступала больше!» Олешенька-то побелел весь, встал, да и пошел вон. Как дверь-то за ним хлопнула, я и говорю: «Беды бы какой не вышло, отец!» А его бьет, как в лихоманке, до того раскипятился. «Никуда, – говорит, – не денется. Одумается к вечеру, домой придет!» Ждать-пожидать, нет Олеши. Провожать вас пошли – его все нет. Да так и не видывали его с той поры. От людей уж узнали, что тайком он за вами увязался…
– Мы его, мать, обратно отсылали, да где там! – прервал Василий. – Отгоним прочь, а он опять за нами издаля идет. Думали, в поезд сядем – отстанет. Поехали, глядим, а он на подножке сидит. Ну что тут делать? Не бросать же его в дороге. Вылез я на станции да купил и ему билет…
Махнув горестно рукой, мать сказала шепотом:
– Отец-то сам уж сейчас жалеет, что круто обошелся с ним, мается через это, а гордость свою сломить не может и прощения у Олешеньки не просит. Больше ничего не скажу. И ты, Василий, молчи.
– Неладно, мать, получилось, – угрюмо сказал Василий, вставая. – Обидели вы Олешку. На всю жизнь, может быть.
Мать с трудом поднялась и стала накрывать на стол.
– Сами, сынок, видим, что неладно…
Хмурый и расстроенный Василий вышел во двор. Как во сне, сходил за водой к колонке, налил в тазик и только начал умываться, как хлопнула калитка и вошел, весело насвистывая, Михаил. Пиджак на нем был внакидку, шляпа – на затылке, лицо сияло. Махнув перед носом Василия газетой, он кратко объявил:
– Уезжаю!
– Куда? – вскинулся Василий, предчувствуя очередную блажь беспокойного брата. Не успев как следует смыть мыло с лица, он так и застыл на месте, изумленно хлопая ресницами.
– В Крым или на Кавказ, куда поглянется!
– Ты… это брось, – встревоженно заговорил Василий, заикаясь и вытаращивая на брата злые глаза. – С завода бежать, бросить учение?
Приплясывая, Михаил подошел к брату и, развернув у него под самым носом газету, ткнул пальцем в серый цифровой столбик.
– Выиграл! По лотерее Осоавиахима. Видал? Путешествие.
Василий растерянно умолк и быстро вытер о полотенце руки.
– Врешь!
– Честное комсомольское!
Схватив газету, Василий потребовал:
– Дай-ка сюда билет-то!
Михаил нехотя достал из записной книжки лотерейный билет и с опаской протянул его брату.
– Где? – нетерпеливо спросил тот, рыская по таблице глазами.
– Вот, гляди! У меня тут карандашом помечено.
– Верно, черт! – с завистью охнул Василий. Не выпуская билет из рук, он долго разглядывал его, морща лоб, потом бережно согнул вдвое и положил в карман.
– Погоди! – рванулся к нему Михаил. – Ты что? Отдай назад. Мой билет!
– Мы одной семьей живем пока… – спокойно сказал Василий. – Да и учение тебе бросать нельзя. Подумаем, ужо, ехать тебе али нет…
Но не успел он и шага шагнуть, как Михаил ястребом налетел на него и ухватился сзади за рубаху.
– Отдай!
Треснул на спине Василия ситец, отскочила, хрустнув, от ворота белая пуговица. Он развернулся по-медвежьи и хотел уже дать брату сдачи, как дверь на крылечке вдруг стукнула и оба увидели мать.
– Вы что это, петухи, делаете, а?
Василий смущенно одернул на себе располосованную рубаху, не зная, что сказать. А Михаил, сняв шляпу и улыбаясь, принялся как ни в чем не бывало обмахивать ею лицо.
– Мы тут, мать, физкультурой занялись. Это игра такая. Размяться захотелось маленько после работы…
Мать подозрительно оглядела обоих.
– Я вижу, какие у вас тут игрушки.
И позвала обедать.
Хотя за обедом братья были до того дружны, что прямо не могли наговориться друг с другом, мать, уже собирая со стола, неожиданно потребовала:
– Ну-ко, сказывайте, из-за чего друг дружку за ворота брали?!
Мишка, моргнув брату, крепко наступил ему под столом на ногу, чтобы тот не проговорился, но Василий недовольно махнул на него рукой и, краснея, сознался:
– Выигрыш, мать, не поделили.
– Какой выигрыш?
Выслушав Василия, приказала:
– Дай-ка сюда!
– Да билет-то этот…
Михаил в отчаянии принялся толочь сапогом босую ногу Василия, но тот уже вынимал из кармана зеленую бумажку. Мать осторожно повертела ее в руках, держа кверху ногами, спросила недоверчиво:
– Да неужто с ней куда хошь можно ехать?
– А как же! – важно объяснил Михаил. – Хоть на самолете!
Мать бросила билет на стол, сердито оглядывая сыновей.
– Вам, дуракам, и счастье в руки давать нельзя. Передеретесь. Срам! Живете в людях пятый год, а ума не нажили. Я вот ужо Алексею Федотычу про вас расскажу…
Сыновья опустили головы. Почесывая затылок, Василий сказал:
– Не шуми, мать. Билет этот, верно, ни к чему нам. Поезжай-ка по нему к Алешке.
Мать перекрестилась с просиявшим лицом.
– Слава тебе, господи, услышал ты мою молитву. Дал ты мне радость сыночка Олешеньку увидеть.
Спрятала билет в кофту, за пазуху.
– Спасибо вам, детушки! Бабам-то не говорите только, а то еще перессорятся. Спросят ежели, скажите, что директор, мол, по дружбе достал мне билет этот.
Обе снохи, вернувшись ночью со смены, сразу же заметили перемену в доме: мать, собирая ужин, не ходила, а летала по горнице молодицей, счастливо сияя глазами и ласково со всеми разговаривая; Василий тоже был в ударе и, весело похохатывая, подшучивал то над братом, то над матерью. Только Михаил сидел молча в углу, кисло улыбаясь, словно муху съел.
– Что это с тобой сталося? – в тревоге кинулась к нему Катя. – Не захворал ли?
– Мать уезжает завтра, – грустно вздохнул он, косясь на Василия. – Как-никак, родная ведь. Переживаю шибко.
Услышав про отъезд матери, снохи раскудахтались сразу, захлопотали, потом, пошептавшись между собой, полезли в сундуки и чемоданы. Таисья достала матери свое платье и почти не ношенные туфли. Катя, чтобы задобрить свекровь, подарила ей белый полушалок и свое пальто, которое совсем стало тесно после замужества.
Примеряя подарки, мать то удивленно ахала, то журила снох за расточительность, то плакала благодарно.
Все более оживляясь при виде чудесного преображения матери, Михаил ударил вдруг себя по лбу и начал что-то искать под кроватями, в сенях, за печкой, покуда не разыскал совершенно новый зонтик, полученный им когда-то по ордеру в магазине ударников. Стряхнув пыль с зонтика, он торжественно поднес его матери.
От такого подарка мать прямо обомлела и впервые сказала неуемному сыну ласково:
– Уж так ли уважил ты меня, Мишенька!
Рано утром, когда все еще спали, Михаил убежал на станцию хлопотать билет на поезд и вернулся только к чаю. Вид у него был гордый и важный.
– Ну, мать, все сделал. Полетишь самолетом сейчас. Я уж и с летчиком договорился: завезет он тебя на денек к Алешке, а оттуда прямо домой…
Василий чуть ли не выронил блюдце из рук от удивления.
Катя охнула в испуге:
– Ой, страсть-то какая! Неужели и не забоишься, мама? Я бы в жизнь не села…
Мать сурово обрезала сноху:
– Вот ужо будет у тебя свое дите, тогда поймешь. Как стоскуешься – хоть на черте к нему полетишь. А в смерти и животе один бог волен!
Опрокинула пустую чашку кверху дном и поднялась с места.
– Собирайтесь!
Все вышли из-за стола и засуетились. Перед уходом присели, по обычаю, на минутку, помолчали. Мать встала первой.
– Не опоздать бы!
На аэродром ехали с торжественно-грустными лицами, разговаривая вполголоса. Только Михаил на весь трамвай шутил весело:
– Как будешь, мать, около рая пролетать, кланяйся Михаилу-архангелу. От тезки, мол, привет…
Василий, сделав страшное лицо, показывал брату на мать глазами, но тот не унимался:
– Николаю Чудотворцу тоже большой поклон, как активному изобретателю…
Мать только отмахивалась испуганно от него.
– Замолчишь ли ты, богохульник!
В чистом поле, за городом, увидела еще издали Соломонида самолет. Как собака, он сидел на хвосте, а тонкими передними лапами упирался в землю. Задних не было. Около него хлопотали в кожаных шапках какие-то люди. Михаил побежал к ним, спросил что-то и замахал своим рукой.
– Сюда!
Перекрестившись, мать подошла к машине. Потом поклонилась всем.
– Спасибо, дорогие детушки, и вам, сношеньки, за привет, за хлеб-соль!
Обнимая внучонка, заплакала.
– Не увижу тебя, поди-ка, больше, Толенька!
Летчик помог ей сесть в самолет, привязал ремнями, чтобы не выпала, сел сам и помахал провожающим рукавицей.
Машина побежала по желтому песку, оторвалась от земли и, наклонившись набок, стала делать круг над аэродромом.
Мать сидела будто каменная и, сколько ей ни махали и ни кричали снизу, не оглянулась.
На втором круге самолет начал круто забирать вверх, выровнялся, обратился в стрекозу, потом в муху и вдруг совсем пропал в облаках…