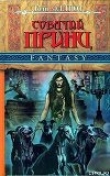Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Трубников снял фуражку, положил ее на подоконник и сел к столу.
– Мы, Савел Иванович, столько с тобой пережили вместе, что нам таить друга от друга нечего. Говори прямо: зачем пьешь?
– И скажу! – поднялся из-за стола Савел Иванович. – Таить не буду. Как хошь меня суди.
Постоял молча, глядя куда-то в бок, потом обвел всех заблестевшими глазами.
– Обманули меня, Андрей Иванович, в дураках оставили, потому и пью. От обиды…
– Кто же тебя обманул? – глянул на него с удивлением Трубников.
Савел Иванович молча вытащил из-за шкафа и расправил на столе свернутый в трубку портрет Сталина, тот самый, что в правлении висел.
– Сжечь хотел. Но только духу не хватило у меня. Это все равно что себя сжечь. А разве от себя можно отказаться? Ведь полжизни прожито с ним. Ужели за зря, Андрей Иванович? Я в него, как в бога, верил. Тридцать лет. А теперь отняли у меня эту веру. Кто я есть после этого? И кому верить мне? Не могу я так вот… сразу…
– Значит, что же выходит? – холодно уставился на него Трубников. – Только в него и верил ты, раз веры у тебя ни во что больше не осталось?! А в дело наше, в партию нашу не веришь, стало быть?!
– Говори честно и прямо, – так и подался весь к тестю Роман Иванович с дивана, – а вихлять тут нечего!
Даже не взглянув на зятя, Боев обратился к Трубникову с укором:
– Эко ты, Андрей Иванович, слова какие мне сказал! Да кабы не верил я в партию, на осине давно перекинулся бы…
В тяжкой тишине Трубников спросил вдруг.
– Ты, Савел Иванович, Аниканова помнишь, Сергея Петровича?
– Не помню что-то… – занавесился бровями Боев и опустил розовую голову.
– Врешь! – укорил его жестоко Трубников. – Врешь. Не можешь ты Аниканова не помнить!
– Это который? – одни лишь брови приподнял Боев. – Секретарь райкома, что ли?! Их тут много на моем веку сменилось…
– Да хорошо ты его знаешь! – с досадой сказал из угла Кузовлев. – Сколько раз в колхоз он приезжал к нам. Плюгавенький такой с виду, большеглазый. Как же его не помнить! При нем на всю область наш район гремел…
– …Он, Сергей-то Петрович, – глухо и грустно заговорил опять Трубников, – тоже в Сталина, как в бога непогрешимого, верил. Подражал ему даже. В шинели ходил, хоть и висела мешком на нем, как с чужого плеча. В сапогах и в фуражке. Курить начал, лишь бы трубку иметь, как у Сталина. Усов только черных ему не хватало. Мы еще, помню, шутили меж собой: «Кабы свои у него, белые, росли, покрасил бы, поди!» Суровость напускал на себя страшенную, а сам по характеру отзывчивый был и справедливый. Любили его в районе…
Трубников глядел не отрываясь на Боева безжалостно ясными глазами.
– Мы с тобой, Савел Иванович, тоже клеймили его потом на всех собраниях как врага народа. Но ты этого и подавно не помнишь. Память у тебя, вижу, трусливая…
Маша резко встала вдруг со стула.
– О таких делах с пьяным не говорят!
Подойдя к отцу, взяла его ласково под локоть.
– Иди спать, папа!
Савел Иванович послушно, как слепой, пошел за ней в горницу.
– Верно, нехорошо получилось! – потупился виновато Трубников и хлопнул себя по лбу. – Дурак старый! И зачем тебе было разговор этот начинать сейчас?!
Неловко примолкли все.
Трубников спросил погодя:
– Что у вас тут народ обо всем этом говорит?
Кузовлев, не глядя ни на кого, ответил угрюмо:
– Народ думает.
И еще угрюмее добавил:
– Понимать перестали, что кругом делается. А объяснить, не объяснял никто до тебя, Андрей Иванович. В бригаде у нас, то есть Курьевке, значит, ни доклада, ни лекции никакой не было с прошлого года. Потому и оравнодушели некоторые ко всему, а другие в свои дела кинулись. Молодежь – та совсем отшатнулась от всего…
И сердито вскинул большую голову на Романа Ивановича:
– Надо нам, коммунистам, делать с этим что-то! Нельзя же в таком тумане народу жить…
Вышла Маша из горницы, стала убирать со стола, горько и насмешливо говоря об отце.
– По палке тоскует. Пока палка была да погоняла его вперед, он шел, а как палки не стало, остановился. Не знает, куда идти, куда заворачивать. Думать его не учили! А раз так – нечего и приставать вам сейчас к нему. Чего с него возьмешь? Вы вот со мной поговорите лучше!
Роман Иванович с тревожным изумлением взглянул на жену, а она заговорила с болью:
– Вы вот, старшие коммунисты, отцы и братья старшие наши, чему нас учили, как нас воспитывали? Быть правдивыми, смелыми и честными, любить родину и партию, любить мудрого отца и учителя товарища Сталина. И мы верили вам. Стремились быть такими. Мы любим родину и партию. Мы любили и Сталина. Но что же оказалось? Один человек вами командовал, делал что хотел, сажал в тюрьмы людей, а вы молчали, боялись рот открыть. Где же ваша смелость? А теперь вы на нас, на молодежь, киваете, дескать, мы ко всему оравнодушели. Вы думаете, молодежь не переживает? Еще как! Ей партия и родина не меньше вас дороги. Детишки и те переживают.
Слушая Машу, Трубников все больше и больше бледнел и суживал рыжие глаза. И правда в словах ее была, горькая и тяжелая, и неправда, обидная, несправедливая.
– Врешь! – хлопнул он резко ладонью по столу. – Врешь, что из трусости молчали мы. В том и беда вся, что видели мы в одном Сталине воплощение чести и совести партии, воли ее, мудрости. Поэтому и верили ему преданно. Под пытками даже не теряли этой веры. Это, что, трусость? Да кабы узнали и поняли мы тогда всю правду, разве не пошли бы за нее, через пытки даже?!
Помолчал, шевеля острыми скулами и часто мигая.
– Узнал я недавно от друзей своих старых про гибель Сергея Петровича. Никакой вины за собой не признал он, все обвинения ложные отвергнул и все же был сослан и погиб.
Придавленные рассказом Трубникова, молчали все. И в это время дверь горницы отворилась вдруг. Савел Иванович отрезвевший, босой, в одном нижнем белье шагнул через порог. Найдя дочь отвердевшим взглядом, закричал сквозь слезы:
– Так разве обманывали мы вас? Разве зря мы силы и здоровье потеряли, чтобы социализм построить? Да разве мы для Сталина его строили? Мы для вас его строили!
Прошлепал босиком по полу и опустился грузно на диван.
– Эх, дочка, дочка! Неладно ты говоришь.
– Я, папа, говорю то, что думаю.
– И думаешь ты неладно. Сделайте столько вы, сколько мы сделали!
– А что? За три года в колхозе сделано больше, чем за все время…
– Опамятуйся! – оборвал ее Савел Иванович. – Не забывай, что была война, что после войны и люди, и средства в промышленность брошены были…
Маша сверкнула на отца глазами.
– А разве колхозника материально в труде заинтересовать нельзя было раньше, а разве доверие колхознику нельзя было раньше оказать, а разве…
Савел Иванович, не отвечая, вылил остатки вина в рюмку.
– Вот что… – не дослушав дочь, заключил он, – ты не думай, что о должности своей жалею. Я не за себя обижен. Одно тебе скажу: ни скостить, ни принизить того, что нашими плечами поднято, не удастся никому. И рано еще вам хвалиться и хвастаться. Имея такую науку и технику, горбом нашим созданную, стыдно было бы на месте топтаться…
Роман Иванович хмурился на жену. Трубников молча вертел фуражку в руках, Кузовлев глядел на пол, наморщив лоб.
Савел Иванович выпил рюмку, с хрустом пожевал белую луковицу. Спокойно спросил Трубникова:
– Работать думаешь, Андрей Иванович, или на пенсию сядешь?
– В заместители вот набиваюсь к Роману Ивановичу, да не берет, – пожаловался Трубников.
Роман Иванович и Кузовлев уставились на Трубникова в радостном смятении, не зная, шутит ли он или вправду так думает.
– Ну что же? – рассудил серьезно Савел Иванович. – Это ведь очень даже хорошо будет…
Сам же вдруг понурился, вздохнул грустно:
– А я вот, Андрей Иванович, свое отзвонил, видно. Пора и с колокольни долой…
6
Никто не узнал братьев Зориных, пока они улицей шли. Даже внимания особого не обратил на них никто. Мало ли нынче народу в колхоз из города ездит!
Да и как узнать было: Василий погрузнел весь, пооплыл, а Михаил – тот и вовсе на себя не похож стал. То ли на работе высох, то ли хворь его какая доняла: пожелтел, ссутулился.
Василий одет был по-простому – в синий грубошерстный костюм и белую косоворотку. Обмахиваясь кепкой, шел тяжело, неторопливо, все кругом оглядывая со светлой улыбкой, всему дивясь и радуясь в родном краю. А Михаил в светлом пальто и шляпе, в дымчатых очках, с фотоаппаратом на боку похож был на чужеземного туриста, который устал глядеть на чужую жизнь и торопится все обежать поскорее, да – домой! Летел он впереди брата, словно ветром его несло, нос в землю, руки в карманы.
У калитки родного дома дождался Василия, и оба вместе вошли в сад.
С крыльца навстречу им спускалась с ведрами загорелая стройная женщина в красной кофте. Только по большим черным глазам и признали братья в ней Парасковью. Зато она узнала своих деверей сразу. Бросив ведра, кинулась обнимать их по очереди, торопливо и тихо говоря:
– Хорошо, что поспешили, а то не застали бы отца. Помрет уж, видно, не сегодня-завтра. Спрашивает все про вас каждый день… Да идите скорее в дом!
Увидев отца, Василий захлюпал, как ребенок. Михаил тоже, сняв очки, начал вытирать глаза платком.
– Вот и приехали… – слабым голосом заговорил старик, силясь приподняться на постели. Потом устало махнул белой костлявой рукой и опустил тяжелую голову снова на подушку. – Спасибо вам, сыночки… думал, не увижу.
Хотя на щеках его тлел еще румянец, но глаза потускнели, нос заострился.
Мать сидела у отца в ногах, не сводя с него скорбных глаз.
В избу тихонько заходили люди, разговаривая шепотом и толпясь у двери.
Растолкав баб и ребятишек, подошел к умирающему Назар Гущин, встал около него и снял шапку.
– Узнаешь ли, Тимофей Ильич?
– Ты, Назарко?
– Я… Проститься вот пришел… – Заглянул в лицо Тимофею, низко нагнув плешивую голову. – Уходить, значит, наладился?
– Пора уж, Назар Тихонович. – Кабы работать мог, позадержался бы еще, а то… Какая без работы жизнь? Да и косточки скучают, просят покоя…
Назар часто заморгал мокрыми глазами.
– Шибко я тебя уважал, Тимофей Ильич, за твою великую доброту. Помнишь ли, от какого позора спас ты меня? Другой не пожалел бы, а ты…
Опустился на колени и поцеловал сухую горячую руку старика.
– Я тебе, слушай-ко, Тимофей Ильич, березку ужо на могилу в ноги посажу. От засеки привезу. Выберу которая покудрявее…
– Спасибо, голубчик.
Назар встал, вытер глаза рукавами, поклонился низко Тимофею.
– Прощай, коли так…
И ушел сразу, согнувшись и опустив плечи.
Вечером зашли к Зориным Роман Иванович, Трубников, Елизар Кузовлев, Ефим Кузин – все сразу. Постояли молча у постели умирающего. Старик долго глядел на них, не узнавая. Закрыл устало глаза. Соломонида махнула рукой, чтобы уходили все.
Когда изба опустела, Тимофей задремал, тихо и ровно дыша. Сыновья стали уговаривать мать отдохнуть немного, но она осталась около мужа.
– Идите сами отдыхайте, с дороги-то. Посижу я с ним. Да и получше ему, видать, стало…
Тогда оба пошли в прохладные сени и легли там, не раздеваясь, на старый тулуп, брошенный на пол и покрытый простыней. Михаил скоро уснул, а Василий долго ворочался с боку на бок, все вспоминая, как уходил молодым из родительского дома вместе с братьями. Давно ли, кажется, было это? Вчера будто. А прокатилось с того дня тридцать лет! Вот и сам он стариком стал, и у Мишки внуки растут, а Алешка, самый младший, тоже вон уже в годах…
Думалось Василию об отце легко и хорошо. Хоть и не больно ласков был батько с сыновьями, когда вместе жили, хоть и учил, бывало, не только словом, а и чересседельником, хоть и обижал зря иной раз, но прощал ему Василий сейчас все и жалел его. Как ни суди отца, а вырастил всех троих терпеливыми, в жизни цепкими, до работы жадными и перед людьми честными.
Под утро Василий задремал ненадолго, а когда открыл глаза, Михаила рядом не было. Накинув пиджак, вышел на крыльцо. Брат сидел с папиросой в зубах на пригорочке, у старой яблони, опершись на нее спиной. Василий подошел к нему, сел рядом, спросил:
– На отца глядел?
– Глядел ночью. Ничего, спал он. Хотел я мать сменить, да отослала обратно…
Помолчали оба. Над лесом уже вздымалось огромное бледно-розовое солнце, плавясь и переливаясь, как сталь в печи. Под лучами его безмолвно пылали оранжевым пламенем в саду вянущие березы.
– Пойду еще проведаю… – поднялся Василий.
В избе было сумрачно и тихо. Мать дремала на табуретке у кровати, уткнувшись головой в ноги отцу. Устала, видно.
Отец лежал, вытянувшись и уронив худую руку с постели. Лицо его было спокойно, белая борода распушилась на груди. Не просыпался, должно быть, с вечера.
«Может, полегчало!» – подумал Василий и тихонько подошел к постели. Поправил съехавшее одеяло, стал поднимать отцу руку на грудь. Рука была холодная и тяжелая.
Василий прирос к полу от испуга и жалости. У него не хватило сил разбудить мать. Он вышел в сени, спустился в сад и, всхлипывая, сказал негромко брату:
– Мишка, умер батька-то у нас!
Оба долго молчали, опустив головы. Стояла такая торжественная утренняя тишь, что только и слышно было, как падают в саду с глухим стуком на землю переспевшие яблоки…
Вышла на крыльцо мать и, по обычаю, запричитала, завыла в голос.
И по этому тоскливому вою узнали все в Курьевке, что Тимофей Зорин ушел из жизни.
Обмывая днем тело и убирая после покойника постель, бабы нашли под подушкой измятый конверт, перевязанный накрест ниткой. Василий вскрыл его. В конверте было 500 рублей и тетрадный листок бумаги, на котором твердым отцовским почерком расписано было, кого попросить сделать гроб и вырыть могилу, кого позвать на поминки и сколько взять вина.
Братья так и сделали все, как наказывал им в завещании отец. Только насчет поминок Михаил нерешительно сказал:
– Надо ли, Васька, поминки устраивать? Оба мы коммунисты, а религиозный пережиток соблюдаем.
Василий возразил сердито:
– Испугался, что осудят? Эх ты ученый-недопеченый! Батько ведь тоже в бога не верил, и не для себя он поминки заказывал, а для людей, чтобы каждый подумал о себе: «А будет ли меня чем помянуть?» Сделаем уж все по нашему русскому обычаю…
…До самого кладбища братья несли гроб на руках, дивясь, до чего отец стал легкий. Вернулись с кладбища уже вечером.
Помянуть Тимофея Зорина пришли званые и незваные. Чтобы усадить и накормить всех, пришлось открыть двери в сени и ставить там еще два стола. Парасковья с Настасьей Кузовлевой просто умаялись, подавая угощение. Вина Василий не велел много давать: время уборочное, не перепились бы люди!
Худенькая и маленькая, мать казалась во всем черном еще меньше. Но и в горе не теряла она голову. Выпрямившись и крепко сжав губы, зорко оглядывала застолье, то и дело командуя:
– Настасья, Назару щей забыла налить!
– У Андрея Ивановича рюмки нет, Парасковья.
– Ефросинья, добавь хлеба Елизару!
– Разливай, Михаил, вино!
Когда задымились во всех тарелках говяжьи щи, поднялся за столом Елизар Кузовлев.
– Помянем, дорогие товарищи, Тимофея Ильича. Хороший человек был, земля ему пухом! Много добра я от него видел да и другие, думаю, тоже.
Назар Гущин, оглядывая всех ястребиными глазами, захрипел:
– Я вот живой сижу тут средь вас, а может, и не было бы меня давно, кабы не Тимофей Ильич…
Смигнул слезы и махнул рукой.
– Что промеж нами было, не скажу никому. Совести моей для этого не хватает. Лишь то скажу – от погибели он меня спас. Один человек только и знает здесь про это, ежели не забыл…
И повернулся тяжело к Трубникову.
– Должен ты про это помнить, Андрей Иванович.
А как не помнить было Трубникову: застал раз ночью Тимофей Ильич Назара на току с мешком колхозной ржи. Сидеть бы в тюрьме Назару десять лет, да поверил ему Тимофей Ильич, не выдал его. И сам Андрей Иванович, придя на ток, хоть и догадался тогда же обо всем, а виду не подал. Тоже в Назара поверил. Чуя сейчас тяжелое молчание за столом, сказал негромко:
– Забыл я, Назар Тихонович. Да не все нам и помнить надо.
Ложка задрожала в руке Назара, он положил ее на скатерть, захрипел упрямо:
– Сам покаюсь, как умирать буду…
А Трубников говорил уже о другом:
– Косить нас Тимофей Ильич, помню, учил. Я только что из города сюда приехал, а Роман Иванович был еще мальчишкой в то время…
– Ну и досталось же нам с тобой от него! – заулыбался Роман Иванович. – «Экие вы, говорит, бестолковые оба, да косорукие…»
С другого конца стола слышался обмякший бас Кузовлева:
– До самого смертного часа Тимофей Ильич за колхоз душой болел. А посчитать бы, сколько хлеба за свою жизнь вырастил! Целым поездом, поди, не увезешь.
Савел Иванович, разговаривая в сенях с кем-то, пьяно жалел:
– Трудолюбивый был старик, правильный… Пожить бы ему еще!
Сыновья растроганно слушали все доброе об отце, и, когда люди разошлись, Василий сказал:
– Не убивайся, мать. Дай бог всякому так прожить, как батько наш.
Она вздохнула, выпрямилась и приказала спокойнее:
– Будете завтра оградку отцу заказывать, пусть пошире сделают, чтобы и на меня хватило. А ты, Алексей, покрась ее, как поставим, да попригляднее, голубенькой краской. Слышишь?
7
Не успел Роман Иванович с гостем после завтрака день свой распланировать, как под окнами остановилась и уткой закрякала бежевая «Победа». Потом дверца ее открылась, на землю ступила нога в большом желтом туфле и клетчатом носке…
– «Сам!» – обеспокоенно сунулся в окно Роман Иванович.
Нога убралась опять. И тут из машины, как из глубокого колодца, долетел приглушенный тонкий крик:
– Выходи, Роман Иванович, по епархии твоей поедем!
И немного погодя:
– А где твой гость?
– Тут.
– Зови его с нами.
За неделю дважды пытался Трубников увидеть секретаря райкома, но ни разу не заставал его на месте: Додонов метался по району из конца в конец на своей «Победе» с утра до ночи.
И вдруг такая неожиданная возможность поговорить с ним!
А поговорить было о чем: успехи степахинских колхозов не только обрадовали, но и тревожно озадачили Трубникова. За невинной маленькой курьевской показухой с переводом Тимофея Зорина в «коммунизм» начал он подозревать большую, районную показуху.
Но сколь сильно закусили удила районные руководители в своем стремлении выскочить вперед во что бы то ни стало? По честному ли недомыслию и горячке, как Роман Иванович, выдают они желаемое за действительное, или же из хвастовства, из честолюбия, из карьеризма? И понимает ли сам Додонов, куда эта показуха ведет и чем она обернуться может?
С этими мыслями и вышел Трубников за Романом Ивановичем на улицу.
– Ну, здравствуйте! – легко вылез навстречу из машины рослый, бурый от загара, здоровяк со светлым хохолком на макушке. Подал Трубникову мягкую ручищу. – Слыха-ал, слыха-ал, от старожилов здешних слыхал про вас…
Вглядываясь пронзительно в белое худое лицо Трубникова, пожурил Романа Ивановича:
– Плохо гостя кормишь, краше в гроб кладут…
И, должно быть, стыдясь перед лектором своего могучего здоровья, смущенно повел широченными плечами, а обе ручищи спрятал конфузливо в карманы полотняной куртки.
– Жаль, не пришлось вас послушать. Уезжал я. Хорошо помогли вы активу районному своей лекцией, спасибо. А то растерялись тут у нас некоторые руководящие товарищи после разоблачения культа личности. Все у них в головах переворотилось, а значит, и народу ничего толком они сказать не могут. Очень полезно было им областного лектора послушать…
Открыл дверцу к шоферу, скомандовал:
– Поехали!
В глубине машины, в самом углу, уже сидел кто-то в сером плаще, без кепки, со встрепанным пшеничным чубом. Ни бровей, ни губ, ни носа не видно было на пропеченном лице, похожем на овальную румяную булку, из которой торчала, однако, папироса.
– Наш эмтэесовский агроном! – представил Додонов.
Агроном протянул из дыма круглую темную руку, сказав отрывисто:
– Зоя Петровна!
Не успел оторопевший Трубников на место усесться, как влез Роман Иванович, придавил его крепко к мягкому горячему боку агронома, и машина ринулась проулком в поле.
– Во многих ли колхозах с лекцией побывали? – весело обернулся к Трубникову Додонов.
– В трех только…
– Ваше впечатление?
– Пока все приглядываюсь, да примечаю, рано еще судить… – уклонился Трубников от прямого ответа, не желая походя говорить о серьезном деле.
– Ну, ну! – благодушно разрешил Додонов. – Перед отъездом загляните ко мне, побеседуем.
– Непременно, – улыбнулся Трубников, – только чую, придется мне спорить с вами…
– Зачем же откладывать? – разом сбросил с себя благодушие Додонов. – Спорить так спорить.
И пригрозил полушутливо:
– Только имейте в виду, никогда противникам спуску не даю. А рука у меня тяжелая.
– Вижу! – тоже пошутил насмешливо Трубников. – Но трудно вам пристукнуть меня: я ведь на партучете состою не у вас, да и в обкоме работаю нештатным.
– Не беспокойтесь, выговор хлопотать вам не буду! – всерьез обиделся Додонов и полез напролом.
– Итак, что же вам у нас не нравится? Говорите прямо, люди свои!
– Ну, что ж, раз настаиваете, скажу: стиль руководства не нравится. И вот почему…
Не дослушав даже, Додонов круто оборотился весь к Трубникову.
– Это вы серьезно?
И прицелился в лицо ему острым, настороженным взглядом.
– Сами понимаете, это утверждение потребует фактов…
– Факты будут.
Все примолкли неловко в машине.
– Двор-то новый гостю показывали? – через плечо спросил Романа Ивановича Додонов.
– Не успел! – завозился тот на месте смятенно.
– Показать надо.
И погордился перед областным лектором:
– Во всей области такого нет! Шефы строят. Нынче вот оборудуем его к зиме…
Машина повернула вправо, огибая деревню. На угоре, где строили когда-то первый коровник, увидел Трубников длинное шлакоблочное здание, крытое шифером, с зелеными дверьми по краям и зелеными же воротами в середине. По бокам ворот белели не то колонны, не то пилястры.
Будь окна в здании чуть пониже, и не подумал бы, что это скотный двор. Трубникову доводилось даже встречать в таком здании научно-исследовательский институт.
– Хорош! – потянулся он к окну. – Во сколько же обошелся?
– В общем-то полмиллиона… – застеснялся вдруг Роман Иванович, сдвигая кепку на нос.
– Парфенон! – восхитилась усмешливо Зоя Петровна, еще шире открывая окно. – Храм Афины Паллады. Правда, на водонапорную башню денег у колхоза не хватило, доярки и сейчас ведрами воду носят. Но уж зато коровам сколько радости: ходят мимо нового двора и улыбаются. От одного погляда надои повысили…
Трубникова удивило, что Додонов не ответил ничего злоязычной Зое Петровне, только шея у него зарозовела.
Подъехать поближе к новому зданию было нельзя, столько мусору валялось вокруг. Шофер подрулил к старому коровнику, и все стали вылезать из машины.
У ворот коровника стоял чей-то мотоцикл с коляской, а вокруг него толпились, громко смеясь и разговаривая, доярки.
Долгоногий парень в лыжных штанах и синем берете уже взобрался на седло мотоцикла и взялся за руль, собираясь ехать, но женщины не отпускали его, донимая, видно, расспросами…
– Что случилось? – с ходу закричал весело Додонов.
Женщины оглянулись разом, умолкли и расступились.
– Да вот подружку провожаем, товарищ Додонов, – загораживая кого-то собой, как наседка цыпленочка, выступила грудью вперед Настя Кузовлева.
– Кого провожаете? – обеспокоился Додонов.
– Клюеву Нину.
– Куда?
– Замуж выдаем! – окатила его счастливой улыбкой Настасья. – В город уезжает.
– Подождите, – уже встревоженно взял себя за хохол Додонов. – Лучшая доярка района, и – вдруг в город! Почему? Зачем? Не понимаю!
– Так ведь жених-то у нее там работает! – сердясь на мужскую бестолковость секретаря, принялась объяснять ему Настасья. – Он, Юрка-то, хоть здешний, а после армии на завод сразу ушел. Теперь вот и Нину к себе забирает…
– Как же это можно допустить?! – возмутился Додонов, оглядываясь. – Где она?
Зоя Петровна фыркнула сзади:
– Интересно, как же это можно не допустить?!
Настатья с ревнивой опаской отступила в сторону, чтобы показать невесту. Разряженная, в светлых кудряшках, невеста уже сидела в люльке мотоцикла с маленьким чемоданчиком на коленях и горько плакала.
– Ну конечно! – обрадованный ее слезами, укорил горячо Настасью Додонов. – Легко разве из родного колхоза уезжать?! Вытолкнули девку и рады. Люди из города в колхоз к нам возвращаются, а вы ее…
Нина заплакала еще пуще, пряча в платок покрасневшее лице.
– Поплачь, поплачь… – не слушая Додонова, утешала ее весело Настасья. – Невесте да не поплакать!
– Уж вы, тетя Настя, на свадьбу-то приезжайте с Елизаром Никитичем… – всхлипывая, просила Нина. – Заместо родителей у меня будете…
– Приедем, милая. А вы с Юрой в гости к нам. Как родных примем…
Додонов меж тем отыскал строгими глазами Романа Ивановича.
– Где же ты раньше-то был? Лучших людей из колхоза отпускаешь.
Роман Иванович только плечи молча поднял.
– Надо было с женихом потолковать, – принялся выговаривать ему Додонов, – да убедить его, чтобы сам он из города в колхоз переехал к невесте. Уж я бы…
– Да вон он сидит, потолкуйте с ним сами… – усмехнулся Роман Иванович.
Додонов поднял голову на притихшего за рулем парня и тучей двинулся на него.
– Здравствуйте! – подал сердито руку. – Вы что же это, девиц тут у нас крадете?! Лучшую доярку выхватили и увозите невесть куда и зачем…
– Почему невесть куда? – оробел от неожиданности парень. – В город, товарищ секретарь, на завод…
– Кем же вы на заводе работаете?
– Шофером.
– А сколько получаете?
– Да дело не в заработке. Я в колхозе, может, и больше заработал бы…
– А в чем же тогда?
Жених нахохлился, неприязненно и обеспокоенно глядя на Додонова из-под сдвинутых бровей.
– Просто решил в городе жить…
– А квартира там есть?
– Перебьемся как-нибудь годик на чужой, потом дадут… Сейчас жилья много строят.
– И все-таки, – спросил Додонов уже с досадой, – почему же вы из колхоза уезжаете?
Передернув плечом. Юра вызывающе сказал:
– А что мне тут делать? Я хочу на механика учиться. Нынче вот в техникум вечерний поступаю…
Додонов помолчал озадаченно.
– Ну, а Нина что делать в городе будет?
– Тоже работать. И учиться. Десятый класс окончит, а потом поглядим.
– Учиться и здесь ей можно! – не отступался Додонов.
– Где же это можно-то?! – обозлился вдруг Юра – Ни выходных, ни подмены. Три раза начинала она в вечерней школе десятый класс, и пришлось в конце концов бросить…
– Ну, это мы организуем! – уверил Додонов.
– Раньше думать надо было, – отвернулся Юра и заключил решительно:
– Вообще, товарищ секретарь, хочется пожить культурно. А здесь что? В кино и то не вдруг попадешь: клуб-то из сарая, а в нем 60 мест на две деревни. Я уж не говорю о всем другом прочем…
Он хотел добавить еще что-то, раздумал, отмахнулся и замолчал.
– Так, так… – обидчиво покачивал головой Додонов. – Вот вы уедете, другой уедет, третий… А кто же здесь за вас клубы да столовые, пекарни да прачечные строить будет? Да и нельзя все это сразу поднять. Придется подождать с культурой. Надо вон скот определить сначала на место, зернотоки, сушилку строить. Верно, Роман Иванович?
– Мне ждать некогда, – взялся Юра за руль, – я жить хочу, мне образование и профессию добрую получить надо, пока годы не ушли… А насчет колхоза – может, у меня тоже сердце обрывается из-за того, что уезжаю.
И с сердитой торопливостью принялся давить ногой на педаль. Но сколько ни лягался, мотор молчал.
Сама не своя от волнения, страха и счастья, невеста сидела в люльке, как мраморная.
– Ведь надо же так случиться?! – виновато стал оправдываться перед ней будущий супруг, заглядывая в бак. – Горючее кончилось. Забыл с вечера проверить…
– Ну вот, – по-мальчишески возликовал Додонов и сел на бревно закуривать. – Никуда вы теперь не уедете. Придется обоим в колхозе жить…
Смущенный общим смехом, жених растерянно оглядывался, потряхивая черной челкой. Потом решительно пошел к райкомовекой машине.
– Браток, дай литра два горючего, – в отчаянии попросил он шофера, – мне только до МТС дотянуть, а там…
– Не давай! – закричал Додонов с места страшным голосом.
Все захохотали.
– Ну как тут не дать, Аркадий Филиппович, – вылез из машины шофер, – в такой беде сам пропадай, а товарища выручай…
Пока заправляли мотоцикл горючим, Додонов шутливо пугал невесту:
– Пропадешь ты с таким отчаянным. У него и глаза-то как у разбойника… Не езди.
Нина впервые улыбнулась, украдкой глянув на жениха с затаенной гордостью.
Тот уже сидел в седле.
– Будьте здоровы!
И насмешливо подмигнув Додонову, дал газ. Мотоцикл с громом скатился под угор, попетлял тропками и выскочил на шоссе. Синий берет птицей понесся над хлебами.
Глядя туда из-под ручищи, как былинный богатырь, Додонов ругался встревоженно и восхищенно:
– Обрадовался, лихач! Так и убиться недолго…
Повернулся к Роману Ивановичу грозно:
– Такие кадры упустить, а?!
– Пускай едут! – огорошил его Роман Иванович. – Придет время, вернутся. А не вернутся, людей у нас хватит. Только учить их надо здесь, на месте, да культуру деревни быстрее поднимать…
Они яростно заспорили, идя к машине. А Трубникова остановила за рукав Настасья, горячим шепотом спрашивая:
– Правду ли, Андрей Иванович, говорят, что опять работать у нас будете?!
Не переставал дивиться на нее Трубников: никак не соглашается стареть баба! На щеках – пожар, глаза искрят, бровями, что крыльями, так и взмахивает. А убрала под косынку седеющие волосы, вовсе помолодела.
Отшутился от нее:
– Боюсь ехать сюда опять. Забыл, думаешь, как ты меня встретила, когда я на коллективизацию приехал?! Снегу в штаны грозилась мне насыпать…
– Ой, да полно уж вам, Андрей Иванович, старое-то поминать! – запылала еще пуще Настасья. – Стыдобушка прямо!
– Ну как с фермой управляешься? – уже серьезно спросил Трубников. – Говорили мне, будто бы по району самые высокие надои на вашей ферме…
– Да что из того толку! – разом рассвирепела Настасья. – Убыток один колхозу от этих надоев. Коров-то шоколадом только не кормим, а так все им даем… Такую добрую рожь нынче на подкормку скосили, заревела я прямо. А что сделаешь? Роман-то Иванович не хотел бы, да заставляют его из района…
Все уже сидели в машине, когда Трубников попрощался с Настасьей.
8
Дорога пошла хлебами, как просека в лесу.
С телеграфного провода, завидев людей, комком свалился ястреб, расправил крылья и бесшумно-понесся над самой пшеницей. Провожая его глазами, Роман Иванович пожаловался озабоченно:
– Подгоняет нас лето нынче здорово! Сеноуборку еще не закончили – рожь поспела. Только управились с рожью – пшеницу надо жать. Овес тоже вон белый весь! И тимофеевку скорее убирать надо – перестоит. А вчера озимые начали сеять… и ничего отложить нельзя ни на один день!
– Имей в виду, по радио дождь обещают, – припугнул Додонов, – а ты все еще в хвосте сводки. В чем дело? Вези, показывай, как у тебя раздельная уборка идет.