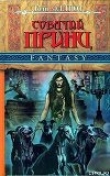Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
– Тикай! – шепотом приказывает Мишка и прыгает прямо через перила на улицу. Бросив кринку на пол, Васька тяжело валится вслед за ним, но, задев пиджаком за железный бельевой крюк, повисает в воздухе. Сорваться с крюка можно только, если расстегнуть или оборвать пуговицы, чтобы вывалиться из пиджака, но тогда все равно узнают потом вора по пиджаку. Ничего не остается, как висеть – авось не заметит хозяин, не догадается глянуть за перила. И Васька висит, как мертвый. Мишка, тот ловок, убежал, но Алешку Егор поймал на улице.
– Пусти, дядя Егор… – слышит Васька жалобный Алешкин голос – Я больше не буду.
– Сейчас, милай. Сейчас я тебя пущу домой, потерпи маленько… – приговаривает Егор торжествующе. Василий косит глаза и видит, как он просовывает Алешке сквозь рукава рубахи, за спину, длинный кол. Это – любимое мужиками наказание озорных ребят в деревне.
– Ну вот теперь иди с богом! – кротко говорит Егор, и Алешка, словно огородное пугало, уныло и беспомощно бредет по улице домой с раскинутыми руками. А Егор, тихо матерясь, поднимается на крыльцо и начинает подбирать с полу черенки…
«Сейчас увидит меня, возьмет кнут!» – холодеет Васька.
И верно, Егор заметил висящего на перилах крыльца человека. Охнув от страха, дробно стучит голыми пятками по ступенькам, обегает крыльцо. Но, подняв кверху маленькое личико с разинутым ртом, узнает Ваську и… злорадно смеется.
– Так… – ликует он, доставая из штанов кисет и усаживаясь неторопливо рядом на завалинку. – И што мне исделать с тобой? Крапивы ли тебе в штаны положить али кнутом выпороть? Выбирай, чего любее!
– Сними, дядя Егор… – униженно просит Васька.
– Это можно! – к великой Васькиной радости, решает вдруг Егор. – Не век же тебе тут висеть.
Но погодя немного, сокрушается:
– Да ведь как тебя снимешь! Одному-то не под силу мне. Придется Тимофея Ильича крикнуть, чтобы помог…
Егор тушит цигарку, встает с кряхтением и неторопливо идет к дому Зориных.
Васька в ужасе и отчаянии начинает болтать ногами и раскачивается, надеясь сорваться с крючка, но холщовый пиджак и нарочно не порвешь.
Уже совсем рассвело, поют петухи, в том конце деревни забренчали ведрами бабы, а Васька все висит, цепенея от одной мысли, что его могут увидеть.
И сейчас, через тридцать пять лет, не может Василий без стыда и ужаса вспоминать, как отец с Егором снимали его с крюка и как шел он потом с отцом домой. Не сказал ему в ту ночь отец ни слова. А на другой день, отослав мать к соседям, выпорол всех троих чересседельником по очереди, молча.
Братья не пикнули даже. Весь день ходили подавленные, не решаясь присесть. За ужином, жалея их, отец сказал матери, усмехаясь в усы:
– Примечаю я, до молока у нас ребята большие охотники, а ты, мать, даешь им одну кринку. Заморила совсем: гляди, как отощали!
Алешка пулей выскочил из-за стола. Васька онемел, жалобно моргая. Только Мишка не растерялся. Приняв от матери вторую кринку, поставил ее перед старшим братом, заботливо угощая:
– Пей, Васька, обе, а то вчера тебе ни капли не перепало!
…Слушая сыновей, мать слабо улыбалась одними губами. Но постепенно заискрился в глубине ее потухших от скорби глаз какой-то огонек, а потом плеснулся вдруг оттуда, как вешняя вода в проталинку, живой горячий свет.
– Господи, – схватилась она за бока в неудержимом смехе, – какие же вы у меня росли оболтусы!..
– Особенно Васька! – живо досказал Михаил, отодвигаясь на всякий случай от брата подальше. – Он, мать, и сейчас еще растет…
После этого минутки не давал отдохнуть Михаил ни матери, ни братьям, тараторил и чудил без устали, пока не пришла с поля обедать Парасковья.
Радуясь оживлению в доме, Парасковья принялась весело собирать на стол. Все еще нося в себе молодую стать, не ходила, а плавала по дому грудью вперед, вскинув голову. Смуглая по обличью, цыганистая, Парасковья за эту неделю и вовсе от загара потемнела, только глаза да зубы сверкали на лице. И платье носила она цыганское, из самого глазастого ситца, и серьги у ней были цыганские, сияли в ушах, как два полумесяца.
Даже Михаил приумолк, любуясь, до чего же красиво и ярко отцветает жена у Алексея.
Торопясь с обедом, не сразу и заметила Парасковья, что муж сидит с письмом в руках сам не свой. Кинулась к нему.
– Чего ты, Алеша?
Виновато и потерянно Алексей сказал:
– Картину мою приняли на выставку…
– Вот горе-то, а?! – хохотнул недоуменно Василий.
– Ее поправить там надо, – не поднял голову Алексей. – И вообще просят меня привезти все другие работы…
Оба деверя переглянулись молча с Парасковьей, а Василий, погодя, сказал Алексею тихонько, чтобы мать не слышала:
– Ладно ли будет, Алеша, если уедешь? Видишь, с матерью что у нас делается.
Но мать все услышала и все поняла.
– Пусть едет, раз дело требует! – приказала она. – Коли умру, есть тут кому глаза мне закрыть.
Ни возразить матери, ни ослушаться ее не посмел никто. Пообедали невесело, встала молча из-за стола Парасковья, спеша ехать со всем звеном в поле, успела только наскоро собрать мужу белье в дорогу и тут же заторопилась из дома. Попрощалась горячо с деверями, а мужу кинулась с плачем на грудь.
– Ну что ты… – смущенно поцеловал жену в мокрую щеку Алексей.
И сама понимала Парасковья, что нет никакой грозы сейчас над их счастьем, да больно памятливо сердце бабье. Сколько ни приводилось ей в жизни провожать Алексея, были разлуки с ним долгими и горькими. В первый раз парнишкой еще молоденьким уезжал Алеша с братьями против воли отца в город, приданое Параньке, невесте своей, зарабатывать. Отнял тогда Алешу город у Параньки на пятнадцать лет. Во второй раз, уже чужой женой будучи и людей таясь, провожала Параша Алексея на войну – и пропал он на фронте, в плену и в лагерях на двенадцать лет. В третий раз…
Поборола-таки глупый страх свой Парасковья, сквозь слезы пошутила даже:
– Надолго ли едешь? Годиков на десять, поди? А мне тут без тебя как быть? Замуж ли выходить опять али подождать?
Смятенно улыбаясь воспоминаниям, Алексей обнял, успокоил жену.
– Недельки на две я, Параша, не больше. Ты Леньке накажи, чтобы не убегал из дома надолго…
…Мать, как ее ни отговаривали, побрела все же провожать сыновей. Но в поле, сразу же за околицей, задохнулась, остановилась. Оглядела сыновей сухими горестными глазами, сказала Василию и Михаилу:
– Ну, вот что, сыночки мои, не увижу я вас больше. Попрощаемся в остатний раз. Как умру, хоронить не приезжайте. Незачем тратиться на такую дорогу, да время зря терять…
Обняла и поцеловала по очереди всех троих – сначала Василия, потом Михаила, потом Алексея.
– Идите с богом!
И пока до поворота шли они, часто оглядываясь, все стояла в пыли, посреди дороги, опершись грудью на костыль.
Вот и поле давно кончилось, и дорога под угор пошла, и лесок начался, а братья все молчали, погрустневшие, приунывшие…
Первым встряхнулся Михаил. Остановившись, поставил чемодан посреди дороги.
– Хватит. Неси, Васька!
Продолжая идти, Василий заворчал добродушно:
– Не дури. Как домой приедем, от вокзала сам понесу.
– Хитер! – идя за ним, посмеивался Михаил. – Пустой-то его легко нести будет. Нет, ты сейчас неси!
– Сказал тебе, не дури! – уже осердился Василий. – Пропадет ведь чемодан.
– Пусть пропадает, – беспечно отозвался Михаил. – У меня там пара белья да зубной порошок. Только и всего. И пропадет ежели, так не жалко. Переживу как-нибудь.
Василий оглянулся на сиротливо стоявший посреди дороги чемодан.
– Кому говорю! – зыкнул он.
– …а у тебя там, – не слушая брата, продолжал Михаил, – две пары носков новых, да пара белья хорошего, да пижама новая, не говоря о пирогах. Мне-то что: я и в буфет сбегаю в вагоне, перехвачу что-нибудь. Много ли мне надо!
Не умеряя шага, Василий, однако, с тоской оглянулся на чемодан.
– Вон впереди едет кто-то! – встревоженно сказал он.
– Пусть едет, – равнодушно отмахнулся Михаил.
Алексею надоело слушать спор братьев, и он хотел вернуться за чемоданом, но Михаил закричал:
– Не смей, Алешка! Тут дело в принципе, и ты не вмешивайся, пожалуйста. Сейчас Васька сам побежит, вот увидишь. Духу не хватит у него чемодан бросить. Это я точно знаю…
И вглядываясь вперед, охнул испуганно:
– А ведь верно, едет кто-то. Если сейчас не пойти, подберут наш чемоданчик. Только его и видели.
Ругаясь, Василий начал помаленьку отставать.
– Я тебе этого не прощу, Мишка! – слышали братья за своей спиной его негодующий, постепенно удаляющийся голос. – Я тебя научу, как фокусы надо мной выкидывать…
Михаил оглянулся и остановился.
– Пошел-таки! – с глубоким удовлетворением сказал он, улыбаясь вслед Василию. – Теперь давай, Алешка, покурим, пока он вернется.
Оба сели на край канавы у дороги.
Впервые после приезда в Курьевку Михаил поинтересовался судьбой младшего брата:
– Ну, как дальше жить думаешь?
– А что?
Михаил посвистел, глубоко утопил в кудрях белые пальцы, зевнул.
– Захиреешь, Алешка, тут. Переезжал бы всей семьей к нам да за настоящее дело брался. Город у нас большой, культурный, работа художнику всегда найдется. Поговори-ка с женой да с матерью…
Даже мигать перестав длинными ресницами от удивления, Алексей ответил немного погодя.
– Спасибо, поехать в большой город не мешало бы мне, на время. Среди художников там потолкаться, послушать, чем они живут, поглядеть, что и как пишут. Но я, видишь, хочу настоящее что-то сделать, значительное, пока силы есть. А для этого, брат, в город ехать необязательно. Вот если с творчеством не заладится, тогда, конечно… Придется плакаты, рекламы, вывески писать. Они тоже нужны. Но их здесь, в колхозе, так много не потребуется, как в городе…
– Творчество! – усмехнулся Михаил над братом снисходительно. – А много ли пользы от картин твоих? Сейчас, Алешка, век науки и техники. Вот если бы ты по технической эстетике работал, скажем, тогда другое дело. А искусство, картины… Одна выдумка, от безделья. Они и сейчас мало кому нужны. А в будущем?
Думая о том, что сердцем Василий умнее брата, Алексей осадил Михаила, как школьника:
– Искусство, брат, как и труд, делает людей человеками. Без искусства ты и сейчас ходил бы на четвереньках и лакал болотную воду. Уж если на то пошло, то и машины хорошей не создать без выдумки, без воображения…
Очевидно, приняв это за намек на свою неудачу с комбайном, Михаил, досаду свою скрывая, только рукой махнул на Алексея презрительно.
Подошел Василий, кряхтя и вздыхая. Поставил чемодан, вытер лоб. Сел к братьям.
– А что, думаешь, пижамы не жалко мне было? – сердито оборотился он к Михаилу. – Я привык беречь копейку. Мне, брат, никогда она даром не давалась. Да и гостинцев материнских жалко. Оставили бы, сколько обиды ей нанесли!
– Я на это и рассчитывал! – серьезно поглядел Михаил на брата. – Неужели, думаю, у Васьки совести хватит материны гостинцы бросить!
– У тебя вот хватило, небось. Бросил.
Михаил плюнул на окурок.
– Не бросил бы! Кабы не пошел ты за чемоданом, я дождался бы проезжего, да с ним до чемодана и доехал. А ты не сообразил этого, поперся пешком. Правду говорят, что дурная голова ногам покоя не дает.
Позубоскалив еще над братом, Михаил взял чемодан.
– Пошли.
11
Поднимаясь за Додоновым по райкомовской лестнице, Трубников уже готовился мысленно к тяжелому разговору с секретарем. После Курьевки они успели съездить еще в два колхоза, но поездка эта не только не успокоила, а еще больше встревожила Трубникова: в районе начали потихоньку отбраковывать и резать в счет второго плана сдачи мяса даже дойных коров.
След в след ступал за Трубниковым Роман Иванович. Он был угрюм и молчалив, сосредоточенно раздумывал о чем-то.
Не успел Додонов за стол в кабинете сесть, как над головой его устрашающе зашипели вдруг старомодные стенные часы с фарфоровыми ангелочками и медным маятником величиной с чайное блюдце. Мерно и торжественно отбили они два удара, и не успел еще замереть их малиновый звон, как на столе запели разом черные петухи-телефоны.
С приездом секретаря в райкоме началась жизнь. Попеременно поднимая то одну, то другую трубку, а то и обе вместе, Додонов так и не мог уже оторваться от них. Со всех концов района несся к нему по проводам зычный крик председателей колхозов. Одни просили у секретаря райкома поилки и водопроводные трубы, другие настойчиво добивались канавокопателей, третьи требовали запасных частей для автомашин, а все вместе, горячо уповая на Додонова, как на последнюю и единственную свою надежду, умоляли его повлиять, нажать и надавить на бюрократов, которые…
Обещая немедленно разобраться с делом, Додонов нажал и надавил сперва на самих председателей, требуя от каждого досрочной сдачи мяса и молока, немедленного и безусловного усиления темпов уборки. Потом честно и настойчиво стал принимать меры по жалобам, добираясь по телефону до бюрократов, которые…
Но тут выяснилось, что ни труб, ни поилок, ни запчастей в районе сейчас нет, а какие были – уже распределены по колхозам. Не оказалось и свободных канавокопателей: все они находились в тех колхозах, где и надо было им находиться по графику мелиоративных работ в районе.
Раздосадованный вначале своим бессилием изменить что-либо, Додонов нашел-таки возможность выполнить свои обещания. Узнав, что один колхоз не смог внести деньги за трубы, он настоял, чтобы трубы эти переданы были тому колхозу, председатель которого был при деньгах и особенно сильно плакался по телефону; точно так же нашелся один канавокопатель в колхозе, где правление не успело подготовить фронт для мелиоративных работ; нашлись и запчасти, не выкупленные вовремя каким-то раззявой…
А телефонный самум все нарастал, нарастал… И с чем только не обращались к Додонову люди, уверяя его, доказывая ему, требуя от него, прося его, даже плача перед ним! Казалось, не будь секретарь райкома на месте, замерла бы сразу, остановилась в районе жизнь. Так и не приступили бы к строительству моста через ручей, кабы не позвонил в исполком сам Додонов; нескоро бы нашлись в банке деньги на ремонт школ, кабы не повлиял на директора банка сам Додонов; гуляли бы на свободе обнаглевшие хулиганы, кабы не надавил на начальника РОМа сам Додонов; не хватило бы у редактора духу напечатать разоблачительную заметку о председателе райпотребсоюза, если бы не дал согласия сам Додонов; не послали бы сразу ревизора в магазин к проворовавшемуся заведующему, кабы не потребовал этого сам Додонов; целый месяц пролежало бы на станции химическое удобрение, кабы не заставил председателя колхоза выкупить его сам Додонов; даже места в детском садике не могли найти для дочурки школьной уборщицы, пока не позвонил в районо сам Додонов…
– Я что-то не пойму никак, где я нахожусь и кто вы такой есть?! – поднял на Додонова глаза Трубников, улучив минуту телефонного затишья. – Хотел уж выйти на улицу, посмотреть на вывеску, туда ли я попал.
Все еще взволнованный телефонными боями, вспотевший, довольный, даже счастливый оттого, что удалось разрешить столько важных вопросов, Додонов не сразу понял его:
– Да, приходится, знаете, всеми делами заниматься!
– Все время считал я, – заметил Трубников, – что райком – орган политического руководства, а тут вижу какое-то административно-хозяйственно-заготовительное учреждение. И вы в нем, извините, очень мало напоминаете политического руководителя.
У Додонова мигом исчезло с лица выражение счастливого внутреннего удовлетворения. Никто еще ни разу не сомневался в том, что он – секретарь райкома. Колеблясь, сразу ли отчитать непрошеного критика или же выслушать его до конца, Додонов ответил не сразу. Лишь после того как загнал, видно, обиду в самый глухой угол сердца, спросил спокойно и серьезно:
– Вы когда-нибудь бывали на руководящей политической работе?
– Слава богу! – взялся за фуражку Трубников. – И членом райкома бывал, и замполитом, и секретарем партбюро…
– Давно?
– Давненько таки. Да что из того?
Додонов, безотчетно радуясь чему-то, усмехнулся снисходительно, извиняюще.
– Ну, тогда все ясно. Вы просто отстали, товарищ капитан. Времена так называемого общего политического руководства, беспредметной политической агитации и книжной пропаганды, оторванной от жизни, прошли. Сейчас, знаете, от партийного руководителя требуется конкретное руководство, он сам должен быть специалистом, сам должен во все вникать, сам активно вмешиваться в работу производственных, да и всех других предприятий и организаций, воздействовать, так сказать, непосредственно на их деятельность, направлять ее… Понимаете?
– Не совсем… – озадаченно почесал за ухом Трубников. – Если так вмешиваться и воздействовать, как это делаете вы, то что же тогда остается делать самим хозяйственникам и специалистам? Для чего же они сидят на своих местах?
– Вы наивный человек! – мягко пожалел его Додонов. – Что же, по-вашему, самоустраниться райком от хозяйственных дел должен, пустить все на самотек?
И, глубоко сокрушаясь, посоветовал:
– В том и беда, товарищ капитан, что слабы еще у нас в районе руководящие кадры. Нельзя на них положиться, нельзя им доверить. Ведь провалят они все планы, если райком сам не будет руководить и севом, и уборкой, и заготовками…
– Провалят! – неожиданно и убежденно согласился Трубников. – То есть даже и сомнения в этом нет. До того вы их отучили, вижу я, от всякой самостоятельности и ответственности, что как только не почуют они руководящих вожжей сверху, так и растеряются сразу. Шагу вперед сами не ступят. Ну и завалят, конечно, план…
– Не в этом суть! – с досадой возразил Додонов. – Плохо они дело свое знают. Учить их нужно. А партийных руководителей в первую очередь. Чтобы специалистами были, а не краснобаями, чтобы руководили конкретно, практически, сами активно в производство вмешивались…
– Только ли в этом суть?! – усомнился Трубников и, глянув на стопку учебников на краю секретарского стола, живо заинтересовался: – Где учитесь вы лично?
– Заочно в сельхозинституте. Первый курс вот кончаю! – несколько вызывающе сказал Додонов и похвалился: – У нас многие руководители и передовики учатся кто в техникуме, кто в институте, кто на курсах. А секретарей парторганизаций и работников райкома, тех мы просто обязали всех специальности учиться.
– Это хорошо.
– То-то, – сказал Додонов. – Скажу одно, не хвастаясь: район наш по всем показателям вышел на второе место в области. В прошлом году мы раза в полтора перевыполнили план по сдаче мяса и молока. Вот вам результат учебы наших кадров и конкретного руководства колхозами!
Они проспорили бы еще дольше, но в дверь уже в третий раз заглянула тонкая кудрявая секретарша, закрывая рукой смеющийся рот. Вместе с ней в кабинет прорвался хохот и громкий говор из приемной, где, как заметил лектор, давно уже толпились шумные, пестро и весело одетые молодые люди, должно быть, инструктора и заведующие отделами.
Не расставаясь с улыбкой, секретарша спросила:
– Аппаратное совещание будет, Аркадий Филиппович?
– Будет. Пусть подождут немного.
Трубников обдумывал между тем, как предупредить секретаря райкома о главной беде, которая подстерегает его и которой не видит он в пылу наступления? Как сказать ему правду, чтобы сам он ее понял? А вдруг на дыбы встанет?
Что от жены секретарь райкома критику терпит, в том еще дива нету: знавал Трубников генерала одного, который всю дивизию держал в трепете, а перед женою сам трепетал не меньше.
Додонов же, видать, не только не трепещет перед домашним агрономом, но лишь терпит его критику. Сам же упрямо делает все по-своему.
Что ему жена, хоть и умная?! Что ему лектор, хоть и обкомовский?
Да, такого орла только районный актив или сам обком образумить могут! Но успеют ли вовремя, вот в чем вопрос! А надо бы успеть.
– Куда же вы? – удивился Додонов, видя, что лектор, а за ним и Роман Иванович встали и надевают фуражки. – От спора бежите?
И тогда Трубников спросил его, прямо глядя в глаза:
– Почему вам здесь не говорит никто, что если вы и дальше так руководить будете, то, сами того не замечая, дойдете до обмана государства, до очковтирательства, до подрыва хозяйства колхозов?!
Додонов медленно стал подниматься, опираясь о стол обеими ручищами. Но у секретаря райкома хватило выдержки.
– Придется все-таки говорить с вами в обкоме! – сказал он замороженным голосом.
– Зачем нам туда спешить, – улыбнулся Трубников. – Через неделю я встану к вам на учёт.
Додонов не ответил ему, только убрал правую руку со стола. Они не попрощались. Оба хорошо знали теперь, что скоро встретятся.
12
У сосновой опушки, где кончалось поле, братья Зорины остановились, чтобы взглянуть еще раз на родимую сторонку. Но только по высоким березам и отыскали глазами Курьевку. Вся она, до самых крыш, затонула в пшенице.
Вглядываясь туда выцветшими от огня глазами, Василий улыбнулся растроганно:
– А что, братцы, пройдет вот еще лет пятнадцать, люди новые здесь подрастут, домов больших понастроят, болота осушат кругом, сады разведут, дороги во все стороны хорошие проложат, асфальтовые – и следа от нашей прежней Курьевки не останется. Жалко даже как-то…
– Нашел о чем жалеть! – фыркнул Михаил, обмахивая лицо шляпой. – Давно бы ее ликвидировать надо, а землю совхозу отдать. А то ковыряются тут. И раньше ковырялись без толку, и сейчас проку от колхоза этого мало государству.
– Как это без толку? И почему это проку мало? – сердито вскинул на него глаза Василий. – Да из этих деревушек, как наша, вся Россия вышла. Возьмем рабочего, к примеру. Откуда он взялся? Из деревни. Ежели не сам он, так отец его, или дед ушел из деревни на завод. А заводы кто строил? Мужики. А города, Питер, к примеру, кто строил? Опять же лапотники со всех губерний. А Москву? Они же. А кто кормил и кормит всех? Деревня. Так что без Курьевки никак было не обойтись. Да и сейчас тоже. Без Курьевки, брат, и коммунизма не построишь Верно говорю, Алешка?
Алексей поддержал старшего брата. Покосившись на Михаила, заговорил раздумчиво:
– Мы тут считали с батькой как-то: после революции из Курьевки учиться и работать уехало сорок два человека. А кем они стали? Помню только, что рабочих вышло из одной нашей деревни пятнадцать. И не каких-нибудь, а квалифицированных. Сталевар один в том числе, это ты Василий. Инженером стал, правда, один ты. Мишка. Художником – тоже я один. Учителей вышло четверо, да агроном и зоотехник, да ветеринарных врачей двое, да бухгалтеров трое, да разных других служащих сколько. И в войну, брат, Курьевка наша лицом в грязь не ударила: семнадцать человек орденами и медалями награждено, кто при жизни, кто посмертно. А сколько хлеба дала она стране, мяса, молока…
– И больше бы дать могла, кабы чистоплюев таких поменьше было, как Мишка! – вставил обрадованно Василий. – Выучили тебя, одели, обули, квартиру хорошую дали, а ты и забыл, что сам из лапотников вышел. Фукаешь на колхоз, а помогаешь как? Машину и то не можешь толком сделать…
Михаил засмеялся, но не очень уверенно. Присмирел под напором братьев.
– Думается мне, Мишка, – сказал ему погодя Василий взволнованно, – последний раз мы в отчем краю с тобой. Матери недолго, видать, осталось жить. А если еще Алексей не останется тут, то и ехать нам больше сюда незачем будет.
Братья постояли, погрустили. Но светлой была их грусть, потому что давно вся страна стала им отчим краем и матерью.
Идя к станции, они все оглядывались, все искали глазами Курьевку среди пшеничного поля. Но свежий ветер развел на нем такую крупную зыбь, что бронзовые волны совсем затопили ее. Доносило только оттуда петушиный крик, песню пилы, железный стон наковальни да ровный моторный рокот…
И в этом шуме чудилась братьям жизнь всей нашей страны, ее глубокое, мирное и чистое дыхание.
Проводила бабка Соломонида сыновей, а сама еле до дому добрела. Устала, старая, не может и на крылечко подняться. Села на лавочку под березами отдохнуть. Да где тут? Набежали ребятишки со всех сторон. Повадились, пострелята, сказки слушать, прямо отбою нет.
А бабке нынче не до сказок. Стала ребят уговаривать:
– Ни одной, милые, не осталось больше, все пересказала. Идите-ка лучше гулять…
Да разве их обманешь?! Обсели бабку, жмутся к ней, теребят: расскажи да расскажи!
Ну что ты с ними поделаешь?
Задумалась бабка, ласково поглаживая белые ребячьи головенки. Просияла вдруг.
– Слушайте-ко, ребятки, что я вам придумала…
Вытерла губы кончиком платка и ровным голосом принялась сказывать:
«Бывало-живало, не близко, не далеко, в русском царстве-государстве народился у одного богатея, проще сказать у купца, могучий богатырь. Сызмальства он кашу с молоком да мед ел, оттого и тело нажил белое да плотное, лицо румяное да чистое, а брюхо круглое. И силищи в богатыре незнамо сколько было.
Только пошла ему вскорости лишняя сила во вред: стал он озоровать шибко – то у мужика телегу на крышу взворотит, то у лошади хвост вырвет, то овин завалит набок, то у проезжего купчишки воз с товаром перевернет…
В те поры кличет родитель его к себе:
– Чадушко мое! – говорит. – Хватит потешаться, пришло то время царю государю службу сослужить, за своих братушек-купчишек заступиться, от мужиков-сермяжников их оборонить. Лютует ноне мужик, не хочет свою долю несть, не хочет работать на нас и хлебом нас кормить.
Говорит тут богатырь, а его Сысоем звали, по прозвищу Брюхан:
– Рад я, дорогой батюшка, осударю-царю службу сослужить, да не знаю как.
Родитель в те поры ему ответствует:
– Должен ты, говорит, великое сражение вынести. В один год, в один месяц, в одну ночь и в один час с тобой народился у мужицкой голытьбы богатырь, по прозванию Еремей Безземельный. Хоть и вырос он, поганец, на щах да на квасе, а силы вышел несусветной. И лицом тот богатырь чище тебя и телом статней. И горько мне, старику, и дюже обидно видеть это.
А чует мое сердце, что не побороть тебе того Безземельного Еремея, ежели ты без хитрости к нему пойдешь. Какую хитрость пустить следовает, я те сейчас научу. Когда будете вы в чистом поле съезжаться друг супротив дружки, позови его попрощаться перед боем. Слезет он с коня, и ты слезай. А только меча с палицей не сымай с себя. И как будете напоследок обниматься, бросай того Еремея врасплох на землю, тут ему и кончину сделай.
Поклонился Сысой Брюхан родителю в ноги за науку, а сам снаряжаться пошел.
Взял он себе щит весом в семь пудов, да палицу двухпудовую, да меч-кинжал огромной. Сел на свово коня, поехал.
Долго ли, коротко ли ехал, видит: идет по дороге человек, два бревна на плече несет, посвистывает. Подивился Сысой Брюхан, остановил коня.
– Что за человек такой силой своей похваляется? Уж не Еремей ли Безземельный, часом?
Сбросил тот человек бревна с плеча, рукавицей лоб вытер, говорит:
– Я и есть Еремей Безземельный… только силой своей я не похваляюся, а батюшке своему на избу бревна из лесу вытаскиваю. У батюшки моего лошади нет: ее купчишка, подлая душа, за долги со двора свел.
Осерчал на те слова Сысой Брюхан, а еще пуще зависть его начала грызть: велик был ростом Еремей, лицом красив, телом статен и в плечах широк.
– Как ты смеешь, – кричит Сысой, – моего дорогого батюшку срамить и пакостить так? А хочешь, я тебе в горб за это?!
Услышал те слова Еремей Безземельный, схватил в сердцах бревно да и махнул в обидчика. Сысоев конь, как собака, на задние ноги сел от того удара, а сам Сысой Брюхан пал на землю и ноги кверху задрал. Кабы не рубаха на нем железная, остался бы тут навеки.
Струсил он и вспомнил сразу родителеву науку. Покряхтел, почесался, встал и говорит:
– Ах ты, мужичья кость! И драться-то по-благородному не умеешь. Коли хочешь биться, выезжай на край земли в чисто поле. Там и поквитаемся. А здесь не к лицу мне с тобой, вахлаком, валандаться!..
А когда прочь отъехал, еще и посмеялся:
– Забыл я, что ты не только Безземельный, а и Безлошадный. На корове, что ли, ко мне выедешь?
Стерпел Еремей насмешку, а сам тем же часом к дяде своему пошел. У него дядя богатый был, но такой ли скаред, что зимой снегу не выпросишь. А тут вдруг разжалобился: «Коня, – говорит, – я тебе не дам, а кобылу рыжую возьми, пожалуй». Той кобыле, правда, годов двадцать было, и она еле ноги таскала; на шкуру и то не годилась: вся в болячках. А дядя и тут пожадничал: «Как будет, – говорит, – кобыла жеребят носить, одного мне приведешь».
Что поделаешь? Даровому коню в зубы не глядят. Взял Еремей кобылу, привел домой. И уж так ли за ней ухаживал: в речке купал, на лугу сам пас, чистил, холил, хлеб с ней последний делил. Выправилась кобыла, обгулялась и понесла жеребенка. Три года прошло, вырос у Еремея конь силы и красоты дивной.
Попросил тогда Еремей кузнеца деревенского сковать шапку и рубаху железную, меч и палицу. Обрядился, поехал Сысоя Брюхана искать. И повстречались они в чистом поле, на краю земли, у самых гор.
Закричал Еремей:
– Слезай, с коня, купчина! Давай попрощаемся. Кому-то из нас не видать завтра солнышка.
У Сысоя сердце екнуло, а виду он не показывает, да еще похваляется:
– Долгонько же ты, сермяжник, по смерть собирался!
Сошел Еремей с коня, положил на землю меч и палицу, сам к Сысою идет. Тот навстречу ему при всем, как есть.
Только обнялись для последнего прощания, как схватил Сысой Еремея за пояс, приподнял над головой и бросил на землю. А когда привстал Еремей на колени, ударил его Сысой со всего маху двухпудовой палицей по железной шапке. От такого удара Еремей в землю по пояс ушел и умом первое время помутился. А Сысой меч да палицу бросил ему и приказ дал:
– Будешь стоять здесь между гор веки вечные, землю нашу от ворогов оборонять. За хорошую службу жизнью награжу, за плохую – срублю голову.
Кровяными слезами заплакал Еремей от обмана и горя, но пришлось ему покориться. И стоял он между гор на краю земли пятьдесят годов. Не пропустил мимо ни конного, ни пешего. Поседел весь сам, мохом зеленым оброс и не чаял уж, сердешный, когда его муке конец придет.
– Только раз на зорьке слышит он конский топ и людскую молвь с нашей русской стороны. А как стало светать, увидел – едет человек на коне во весь скок. Едет один, сам с собой разговаривает, песни поет. Остановился на угоре, глядит по сторонам, бороду черную поглаживает. Лицо у него смелое, глаза вострые, руки жилистые. По виду кузнец: на плече кувалду держит железную и одет бедно, – рубаха в заплатах, рукава у ней по локоть закатаны, а шапки и вовсе нет.
Храпит под ним конь, трясет гривой, дальше не идет. Привстал кузнец на стременах и шумит:
– Что там за колода торчит?
На те слова осерчал Еремей:
– Проезжай своей дорогой, пока я тебя палицей не огрел!
Слезает кузнец с коня, идет смело к богатырю.
– Здравствуй, Еремушка. Не зря, видно, люди сказывали, что живой ты. Насилу я дорогу к тебе нашел. Да что сидишь тут сиднем?