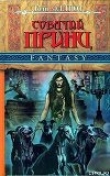Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– Останови-ка, сынок!
И говорит отцу:
– Пойдем, Елизар Никитич, проведаем Ивана Михайловича. И жену свою первую навестить я хочу.
Оба вылезают из машины и начинают собирать на канавке цветы.
А Васютке что? Шоферское дело такое: сказали ждать – жди. Но про машину не забывай. Мало ли что случиться может! Вывернется вон грузовик из-за поворота, да как врежет! Знаем, какие лихачи на грузовиках этих ездят: одних кур в колхозе передавили сколько!
Васютка осторожно отводит машину с дороги в сторону и терпеливо ждет, не снимая рук с баранки.
Отец с капитаном идут к фанерной красной пирамидке. Наверху пирамидки сверкает новая жестяная звездочка. Ее ребята из шестого класса делали, потому что старая поржавела. А пирамидку и Васютка красил. Не всю, правда. Кабы не отобрали кисть, он и всю мог бы покрасить. Зарыт под пирамидкой Иван Михайлович Синицын, который колхоз организовал. Отец председателя, Романа Ивановича. И лежит он в земле убитый. Кулаки топором его зарубили. Про это Васютка от отца знает, да и в школе им рассказывали. А почему незнакомый капитан пошел Синицына проведать, этого Васютка не знает. Может, родня ему, а может, вместе воевали против буржуев…
Отец с капитаном кладут цветы у пирамидки и долго стоят оба рядом, без шапок. Потом отец садится на канавку покурить, а капитан опять собирает цветы и идет на старое кладбище. Оно недалеко отсюда. Васютке видно даже, как мелькает среди берез капитанская фуражка.
Давно уже отец кончил курить, давно думает о чем-то, опустив голову. А капитана все нет и нет. И чего он там делает? Шел бы скорее! Раз она умерла, жена, с ней ведь не поговоришь. Ну погляди на могилку, положи цветы – и обратно.
Капитан возвращается с цветами в руках.
– Не нашел, брат, я Веры, – грустно говорит он, садясь на канавку рядом с отцом, – скот у вас гуляет на кладбище, вытоптано все…
Отец хмурится виновато, отводя в сторону глаза, а капитан вздыхает:
– Из сердца вот не вытопчешь. Никогда.
Оба молчат, потом капитан жалуется тихонько, чтобы Васютка не слышал:
– Виноват я очень перед Верой, Елизар Никитич… И никто этого не знает. Первому тебе говорю…
Оба думают, поди, что Васютка не слышит ничего, а если услышит – не поймет, мал еще. Как же! Васютка, брат, все слышит и все понимает, даром что маленький. Да чего тут понимать? Кабы задача по арифметике, тогда другое дело. А тут… Все Васютке ясно. Андрей Иванович этот до войны в колхозе работал, только он тогда не капитан был, а председатель, как Роман Иванович сейчас. А фамилия ему Трубников, и о нем Васютка сам давно слыхал от взрослых. Жил, жил Андрей Иванович в колхозе, и все было хорошо, только детей у него не было. А ему хотелось, чтобы дети были. У всех взрослых дети есть, а у него нет. И ему обидно было, конечно. А жене Андрея Ивановича доктор сказал: тебе рожать нельзя, можешь сама умереть. И она не выраживала. Тогда Андрей Иванович взял и влюбился в Парасковью Даренову. А жена Андрея Ивановича, как узнала про это, говорит ему, что доктор ей разрешил выродить ребенка. Обманула. Тут Андрей Иванович обрадовался сильно. Повез ее в больницу. Она там выродила ребенка, а сама умерла. И ребенок без нее тоже умер. Андрей Иванович стал пить вино и проситься на фронт. Сначала никак его не пускали, а потом в райкоме все-таки пожалели – пустили на фронт. И он там воевал с фашистами и стал капитаном…
Все Васютке ясно.
Нечего тут и понимать.
– Что ж, Андрей Иванович, горевать-то! – слышит он голос отца. – Не воротишь теперь. Вера, конечно, хорошая женщина была. Жалко ее, потому как несчастная.
– Не говори, Елизар Никитич… – сердито машет рукой на отца капитан. – Как вспомню, все во мне переворачивается. Прокляла, поди, меня в последний час. Ничего мне не передала перед смертью. Наказать, видно, решила. Оставила вот без ответа, без прощения, одного перед своей совестью…
– Не смогла, может, или же не успела, – утешает его отец.
Оба садятся в машину. Отец все думает о чем-то, а капитан глядит в окно, сдвинув на острый нос фуражку. Васютке в зеркало видно, как по худой щеке его катится из-под козырька светлая слеза. Васютка и жалеет капитана, и удивляется, как это могут плакать взрослые, да еще военные.
Он, Васютка, хоть и маленький, но когда бабушка умерла – только вначале плакал. Это верно, сперва плакал. А когда похоронили ее, вовсе даже не плакал больше…
Откуда Васютке знать, что бывают у людей такие страдания ума и сердца, которые не излечивает своим спасительным забвением даже время.
Вырастет – узнает и поймет. А сейчас…
– Поехали! – трогает сына за плечо Кузовлев.
Шоферское дело такое: сказали ехать – поезжай.
Васютка суровеет опять, дает сигнал и не спеша давит стартер голой пяткой.
3
За разговором не заметили старые друзья, как до Курьевки доехали. Хотел Кузовлев гостя сразу к себе увезти, да Андрей Иванович попросил Васютку опять остановить машину.
– Пойдем пешочком, Елизар Никитич, хочу на деревню поглядеть…
Вылезли оба из машины. Махнул Кузовлев рукой просиявшему сыну, чтобы ехал домой один, а сам с гостем остался.
Пошли оба тихонько по тракту к деревне.
– Вроде и не молод уж ты, Андрей Иванович, – говорил Кузовлев, – а все еще тебя в армии держат, как генерала.
Трубников похвастал шутливо:
– Что генерала, поднимай выше. Генералы-то многие в отставке давно, за ненадобностью, а я, видишь, погонов даже не успел после демобилизации снять. Моя должность поважнее генеральской.
И так же шутливо козырнул, подобравшись весь и щелкнув лихо каблуками.
– Командир отдельного саперного батальона гвардии капитан Трубников!
Не убедил, однако ж, гвардии капитан бывалого солдата в бравости своей. Кузовлев только головой жалостно покачал, на него глядючи. Похоже было – встал Андрей Иванович с постели недавно, после долгой болезни. Под рыжими глазами его лежала еще полукружиями синева, не заровнялись еще впадины на щеках, не округлились торчащие под ушами скулы…
– А вид у тебя, Андрей Иванович, скажу прямо, не гвардейский. Чем болел-то?
– Тряхнуло маленько. Убирали мины после немцев, да с машиной на одну и напоролись. Ну и… лежал после этого в госпитале месяца два. Еле оттуда вырвался. Теперь все в порядке.
– Долго же тебе пришлось пеньки после войны корчевать! – посочувствовал ему Кузовлев.
– Да ведь мы не только пеньки корчевали, кое-чем и другим занимались…
Нарадоваться, видно, не мог после болезни Трубников засиявшему перед ним заново миру. Рассказывая, все глядел на курьевские крыши и березы, все улыбался чему-то удивленно и светло, все пощипывал худыми пальцами черные щеточки усов. Даже румянец заиграл на бледном лице его слабым заревом.
– Семья-то в городе? – осторожно допытывался Кузовлев.
– В городе.
– Сам на пенсии теперь?
– На пенсии.
– Милое дело! Отдыхай. Заводи сад, яблоньки сажать будешь, клубничку, малину… По рыбу ходить.
Сказав это, Кузовлев даже вздохнул. От зависти будто.
– Огляжусь поначалу, – недоверчиво скосил рыжие глаза на него Трубников. – До рыбы не охотник я, а вот по тетеревам да по уткам…
– Есть у нас тут и тетерева… – обрадованно сообщил Кузовлев, тоже взглядывая на Трубникова сбоку.
– Напросился вот с лекцией по области съездить, – рассказывал тот, – очень уж стосковался по гражданской жизни…
– …и уток много у нас, и глухари не перевелись, – будто не слыша его, расписывал Кузовлев.
– …Первую путевку сюда, конечно, попросил, в ваш район, – упрямо говорил свое Трубников, – потянуло в родные места, к старым друзьям. Узнать захотелось, как тут народ живет. Что ни говори, а колхоз-то начинали в Курьевке мы. Вот и надо поглядеть, что из нашего дела вышло. Скажу тебе, Елизар Никитич, страшновато даже. Себя ведь проверяю, что хорошего сделал, в чем ошибался…
– С недельку поживешь у нас?
– Да ведь как привечать будут: я здесь гость! – отговорился Трубников.
Пошли тихонько оба, похохатывая и перемигиваясь, как заговорщики.
От усталости ли, от волнения ли, от свежего ли воздуха Трубников ослабел вдруг. Заколотилось часто-часто сердце, задрожали ноги отвратительной мелкой дрожью, качнулось в глазах, и начало падать на него небо…
– Что с тобой, Андрей Иванович? – испуганно захлопотал Кузовлев. – Зря ты давеча хорохорился, не надо было нам Васютку отпускать…
– С непривычки это… – улыбнулся побелевшими губами Трубников, садясь на канавку и с тоскливой досадой думая: «Да неужели подошло время жизнь свою итожить»?
С болью и завистью вспомнил, как молодым еще, здоровым, уверенным в себе, шел в солнечный мартовский день по этой самой дороге в неведомую тогда Курьевку, чтобы повернуть курьевских мужиков к социализму.
Думал вернуться на завод вскоре, а прикипел всем сердцем к маленькой деревушке на десять лет…
…Пересиливая себя, поднялся Андрей Иванович с канавки, застегнул покрепче плащ, поправил фуражку.
– Пошли, Елизар Никитич!
И как только вступил на курьевскую улицу, начала забирать его в сладкий и тяжелый плен воспоминаний каждая знакомая кочка.
Вон синеет у самой дороги высокий камень, напротив избы Егорушки Кузина. Сколько осей обломали об этот камень в распутицу, а так и не удосужились убрать его прочь. Как стоял, так и сейчас стоит сизый столб с вереей у ворот Назара Гущина, покривился только немного. Даже лавочка из широкой тесины под окнами Ильи Негожева сохранилась, хоть и вросла в землю. По вечерам собирались бывало сюда колхозники покурить, посудачить…
А это Степана Рогова колодезный журавль из-за берез виден. До того вода была в роговском колодце холодная да вкусная, – хоть на замок ее запирай: все соседи летом по воду к Рогову ходили.
Словно людей после долгой разлуки, узнавал и угадывал Трубников постаревшие курьевские дома. Они глядели на него, кто вприщур окосевшими окнами, кто разинув изумленно черный рот подвальной двери, кто хвастливо сверкая новыми заплатами на крыше…
Сжалось у Трубникова сердце: только два новых дома на всей улице и белели за молодыми лопоухими тополями!
Вон и правление колхоза в том же самом доме, крыша только на нем новая да вывеска другая.
С таким же душевным волнением, как и в марте тридцатого года, поднялся Андрей Трубников на высокое старинное крыльцо, вошел в те же самые сенцы с широкими половицами и открыл ту же самую, каждой щелью памятную дверь.
И так же, как двадцать семь лет назад, увидел он колхозников у стола в табачном тумане, а за столом – первого председателя Курьевского колхоза Ивана Синицына. Сбрил только Иван Михайлович сердитые черные усы да надел пиджак новый на белую пикейную рубашку.
А так ни в чем больше с виду не изменился: и нос тот же, с горбинкой; и глаза те же серые, зоркие; и брови над ними те же, густые, тяжелые, с мостиком через переносицу.
Да и в правлении все как было, так и осталось: старый поповский стол из мореного дуба, шкаф кулацкий высокий вишневого цвета, несгораемый церковный сундук в углу…
Никто не заметил Трубникова, заняты были все своими делами и разговаривали.
«Да уж не заново ли повторяется жизнь?! – усмехнулся он грустно и остановился на пороге не в силах унять сердечную сутолоку. – Вон и Боев сидит у окна, где сидел в тот мартовский день тридцатого года. Нету, правда, сейчас у Савела Ивановича бородки курчавой, да и на голове дымок рыжий вместо волос остался вокруг лысины, а так, по всему обличию, он это, Савел Иванович. Теперь только Тимофея Зорина тут не хватает. А помнится, был он тогда тут, из колхоза выписывался. Из-за него-то и началось на первых порах несогласие мое с Синицыным и Боевым. Обидели они тогда Тимофея Ильича несправедливо. Да, погоди-ка, здесь ведь он! И не узнаешь его сразу, до того поседел да сгорбился. Ну, конечно, он это у председательского стола с клюшкой стоит».
– Так чего же ты хочешь, Тимофей Ильич! – спрашивал требовательным отцовским голосом Роман Иванович.
И тут наваждение прошлого покинуло Трубникова разом.
– Выпиши ты меня, Роман Иванович, из коммунизма… – говорил старик просительно, даже робко. – Хлопотное это дело, не по годам мне. Да и совесть не позволяет…
Роман Иванович задумался, сердито подняв одну бровь. Вздохнув, решил непреклонно:
– Хоть и трудно, а держись, Тимофей Ильич. У тебя в голове пережитков социализма еще много, они-то тебе и препятствуют в коммунизме жить. Но ты их должен побороть и доказать, что дорос до коммунизма вполне.
– Да мы со старухой, Роман Иванович, как-нибудь и с пережитками доживем… – начал было старик, но Роман Иванович недовольно прервал его:
– Огорчаешь ты меня, Тимофей Ильич! О тебе даже в области известно теперь. Все тобой интересуются. Ведь небывалый же факт! А ты который раз приходишь ко мне с подобной просьбой…
Старик молча надел на голову модную зеленую шляпу. Пошутили, видно, в магазине над ним, нарочно такую подобрали. Постояв озадаченно около стола, пошел к двери, но, подняв глаза, остановился, потрясенный.
– Да ты ли это, Андрей Иванович, голубчик?!
Савел Боев чуть шею не вывернул, крутнув головой, а Роман Иванович так и привскочил за столом.
Кинулись все к Трубникову здороваться, принялись расспрашивать, где был, почему не писал давно, совсем ли приехал, или в гости только…
Не успевал отвечать Андрей Иванович, до того затормошили со всех сторон. Но хоть и гостем был, а как остались в правлении Роман Иванович с Боевым да Тимофей Ильич, не постеснялся, напал на Романа Ивановича с ходу:
– Это для показухи мудруете вы тут над Тимофеем Ильичом?
– Ну почему же?! – смутился и обиделся Роман Иванович. – Колхоз у нас не бедный. Хватит всего. А что тут плохого, если решили мы вознаградить за трудовые заслуги старейшего колхозника? И райком нашу инициативу одобрил…
– Райком одобрил, известно мне это! – сощурил гость рыжие глаза в сердитой усмешке. – Но вам зачем понадобилось колхозников подбивать на такую нелепость? Выхвалиться хотите? Перед кем? Для чего?
– Да что вы?! – даже руку приложил к груди Роман Иванович. – От чистого сердца я хотел. Поглядеть не терпелось, как оно будет…
– Все равно, нелепость остается нелепостью, – не стал слушать его расстроенный гость, – вы же самое идею коммунизма опошляете в глазах колхозников. Хвастуны! Голову потеряли от первых успехов! А подсобное хозяйство не успели еще ликвидировать? Коров у них еще не скупили в колхоз? Ну, слава богу, хоть до этого не дошли!
Роман Иванович и голову скреб ожесточенно, и с ноги на ногу переминался, поднять глаза не смея на Трубникова, а Савел Иванович только в кулак похрюкивал смиренно.
– Нелегко и непросто придется начинать нам осуществление коммунизма в колхозной деревне, – наставительно втолковывал им Трубников, – потому что была она и есть пока – отстающий участок социалистического хозяйства…
Засмеялся вдруг молодо, раскатисто, оглядывая весело обоих.
– Мечтаете, поди, всем районом к зиме в коммунизм перейти? Во главе с Додоновым! А что? Экономика у вас передовая, изобилие полное, уровень сознательности у всех на высоте. Чего ждать?
После сердитого молчания спросил деловито:
– А старики все у вас пенсию получают?
– Не все Пока, Престарелые только… – страдая, признался Роман Иванович.
– Хлопотал и я себе пенсию, Андрей Иванович, да вот видишь, как оно получилось… – сокрушался Тимофей Ильич.
– Вижу, старина, – ласково обнял его за костистое плечо Трубников, – вижу, что настоящим ты коллективистом стал, не хочешь в коммунизме один жить. Умнее ты своих руководителей оказался…
Роман Иванович встряхнулся вдруг, сказал виновато:
– Сделаем, Тимофей Ильич, по-твоему. Как сам ты желаешь. Иди спокойно домой.
Но старик не ушел, пока не настоял, чтобы гость и обедал и ночевал у него. Ну мог ли отказать ему Трубников?
– Уж такое ли тебе, Андрей Иванович, спасибо, что заступился ты за меня и в обиду не дал, – радовался по дороге Тимофей Ильич, – теперь я человек совсем свободный, могу и делом заняться, как все люди…
Дом у Тимофея Ильича был тот же, старый, но недавно, видать, подрубленный и отремонтированный. Новое крылечко и сейчас еще пахло свежим тесом.
– Алексей с женой при мне живет, – говорил старик, открывая калитку. – Мы со старухой в одной избе, а они – в другой.
И как только ступил в сени, крикнул:
– Соломонида, принимай гостя!
Вышла навстречу бабка Соломонида, всплеснула руками:
– Господи, какой же худой! Что с вами сталося, Андрей Иванович?
Не поверила гостю, что сыт, и поставила ему обед, а сама села за краешек стола, подперев щеку рукой.
– Как здоровье? – спросил ее Трубников, принимаясь за щи.
– Какое мое здоровье, – посмеялась бабка над собой. – День ничком, да два – крючком.
– Сыновья пишут?
Лицо бабки, иссеченное морщинами, просветлело.
– Вчерась от обоих письма получили. В отпуск приехать обещаются. Старик-то от радости ходит сам не свой.
Вытерла счастливые слезы концом платка и похвастала с гордостью:
– Внуков у меня много, Андрей Иванович. Ужо как придут один краше другого. Все теперь у дела: которые работают, которые служат, которые учатся…
С Тимофеем Ильичом разговор пошел, конечно, о международных делах. Не раз ему пришлось снимать для справок с гвоздя пудовую подшивку газет. Но добрался скоро дотошный старик и до внутренних дел.
– Мне, Андрей Иванович, недолго осталось жить! Не к тому говорю, чтобы жаловаться: слава богу, всего видел. Мои ровесники вон все почти убрались. Но хотел бы я годков десяток еще пожить, поглядеть, какое дальше течение жизни будет. Очень любопытствую. Ну вот поднимем колхоз. А потом что? Коммуна будет? Или перейдем в совхоз, чтобы никакой отлички между колхозниками и рабочим человеком не было ни в чем?
Задал бы Тимофей Ильич Трубникову еще не один вопрос по внутренним делам, да накричала на него Соломонида:
– Уймешься ли ты, старый? Дай хоть человеку отдохнуть!
Гостю и в самом деле отоспаться надо было перед лекцией! Покорно пошел он за бабкой в горницу и, как только добрался до постели да натянул на себя пикейное одеяло, словно в черную вату провалился.
4
Проснувшись, долго понять не мог Трубников, как попал он в эту горенку с голубыми обоями?
На стене тихо плавился оранжевый прямоугольник вечернего солнца, за окном кланялись кому-то в пояс, взмахивая зелеными рукавами, босоногие березки, а в окно заглядывала несмело и стучала по стеклу мохнатой лапой старая рябина, как будто ночевать просилась…
– Да где же это я? – оглядывался Трубников. И тут попался на глаза ему пестрый тряпичный клубок, что на подоконнике лежал. Собирала, видно, бабка Соломонида на цветной половичок лоскутья по всему дому, стригла их на ленты и свивала в этот клубок.
Как увидел в нем Трубников лоскуток один синий с белым горошком, так и пронзило его сразу: «От Парашиного платья лоскуточек, от того самого, в котором на фронт провожала!»
Где только не перебывал, чего только не перевидел, чего только не пережил с тех пор Андрей Трубников, а уберегла жестокая память встречу их прощальную.
Сидел, помнилось, на станции, в Степахине, ожидая отправки. Один сюда из Курьевки пешком пришел, затемно, чтобы не встречаться по дороге ни с кем. К забору притулился, от людей подальше, голову хмельную руками обхватил и думал, думал, судил себя судом лютым. За непрощенную гибель жены. За любовь свою к Параше злосчастную, ненужную ни ему, ни ей. За то, что запил малодушно с горя…
Пусто и холодно было в сердце, как в обгорелом дому: еще вчера жил тут, а сегодня хлещет стужа в полые окна и несет угаром от обгорелых стен.
Куда пойдешь? Кому скажешь?
Обрадовался, когда услышал команду:
– По ваго-о-на-ам!
Вскочил, побежал вдоль состава своих искать. И только взялся за поручень вагона, услышал отчаянный женский крик:
– Андрю-юша!
Не оглянулся Трубников даже. Никто его так не назовет теперь. Другому кому-то кричат, мало ли на свете Андрюш!
Но тут усатый пожилой солдат тронул его за плечо.
– Тебя вроде баба-то кличет, землячок. Сюда глядит…
Повернулся Трубников, а Параша уж тут, кинулась на шею, обнимает. Сама отдышаться не может. Бежала, видно, не разбирая дороги – и сапоги, и платье грязью исхлестаны.
Выкрикнула с укором и болью:
– Да как же ты один тоску такую в сердце понес?! Мы там не знаем, на что и подумать… обидел ты нас…
Сует в руки узелок ему с чем-то, целует.
– Прости ты меня, Андрей Иванович. А за что – сам знаешь. Живой к нам возвращайся, с победой. Помни про нас, а мы никогда тебя не забудем…
Тут закричал паровоз, втащили Трубникова на ходу товарищи в вагон.
Солдат усатый опять за рукав его трогает:
– Полезай ко мне на полку, отсюда в окно видно…
Сунулся к окну Трубников, а станцию уже проехали. По синему платью только и угадал он Парашу на перроне. Глядел на нее из окна, пока глаза не заломило…
Но тут резанул его по сердцу усатый солдат доброй завистью и сочувствием:
– Хороша, землячок, баба у тебя! Скушно уезжать от такой…
…Отгорела давно и пеплом седым покрылась безответная любовь его к Параше, а и сейчас ревниво завидовал он Алексею, и сейчас досадовал, зачем сам от Параши отступился, когда Алексей в Курьевку перед войной приехал! Кто знает, может, и не уступил бы ее тогда, кабы посмелее действовал!
И желал, и робел Трубников сейчас встречи с Парашей. Как они сейчас в глаза друг другу взглянут? О чем говорить будут? Оправдывает ли она его? Осуждает ли? Да и любила ли хоть немного, или жалела только?
Мимо дома прошли девчата, на ферму, должно быть, и рассмешили, спасибо им, Трубникова шутливой частушкой:
Я люблю такие кудри,
Кои завиваются.
Я люблю таку породу,
Коя улыбается.
Потом заиграло где-то радио, машина прошуршала по шоссе, пролязгал гусеницами трактор.
В дом пришел кто-то и безуспешно стараясь говорить тише, уже второй раз спрашивал за тесовой перегородкой:
– Спит?
В ответ ему восхищенно зашептал Тимофей Ильич:
– Ну, скажу тебе, и голова же этот Андрей Иванович!
Помолчал и сообщил важно:
– Очень памятно мы с ним тут по международному вопросу потолковали. Заходи ужо, расскажу.
– Зайду непременно.
Заговорили о колхозных делах. И тут только по голосу узнал Трубников Романа Ивановича.
Торопливо одевшись, открыл дверь горницы. Роман Иванович сидел у стола нарядный, в сером костюме и вышитой рубашке, словно на праздник собрался. Даже старенькие сапоги и выгоревшая кепка, которую держал он в руке, не нарушали в нем этой праздничности.
– Добрый вечер!
– Добрый вечер, Андрей Иванович!
– Пора, поди, на лекцию?
– Народ уже собрался. Ждет.
Хлопнула дверь в летней избе, кто-то прошел быстро сенцами.
Оглянулся Трубников: стоит на пороге темноглазая, смуглолицая женщина, – чем-то похожая и непохожая на прежнюю Парашу, словно бы не сама она это, а сестра ее старшая. Глядит на гостя, тоже его не узнает. И вдруг засветились радостной догадкой горячие глаза, пробился сквозь загар на щеках вишневый румянец.
И слышал, да не понял Трубников, что говорила Параша, когда кинулась навстречу ему. Молча и растерянно стоял он перед ней, а она все глядела на него жалостливо и тревожно, все расспрашивала о чем-то…
После уж вспомнил он и заново пережил ее слова:
– Семья то у вас, Андрей Иванович, есть ли?
– Есть.
Запнулась перед тем как спросить еще:
– И дети?
– Сын растет!
Порадовалась неистово, словно сама была матерью его:
– Ой, какое счастье!
Прошла быстро вперед, наклонив голову, и села спиной к окну, чтобы утаить слезы. И тут понял с запоздавшей горькой радостью Трубников: хоть и не ответила ему тогда на любовь Параша, а носит в себе, как и он, чувство вины перед Верой. Почему? Поздно теперь думать об этом…
Из светелки спустился Алексей. Только по синей блузе, измазанной красками, и узнал его Трубников. Ничего будто и не осталось от Алеши в этом суровом на вид человеке с курчавой бородкой и глубокими морщинами на лбу. Глаза разве только – широко распахнутые, с густыми черными ресницами.
И Алексей тоже оторопело протянул руку незнакомому, худому и подтянутому офицеру с седыми висками.
Тяжело бывает встречаться иным людям через пятнадцать лет: страшно видеть им друг в друге, до чего же может жестоко сокрушить человека жизнь.
Не сразу спросил Алексея потрясенный Трубников:
– Что поделываете, Алексей Тимофеевич?
– Зайдите посмотрите! – повернулся Алексей и уже на лесенке в светелку сказал смущенно:
– Картину я на выставку отправил, а здесь этюды только…
Но как пошли Трубников с Романом Ивановичем от холста к холсту, так и не могли оторваться от них, удивляясь и восторгаясь.
– Да ведь это Савин бор, погляди-ка!
– А Тимофей Ильич! Ну как живой, вот-вот заговорит…
– И Клюева Нина тут. Ишь ты, с гитарой…
– Узнаешь, Андрей Иванович, Настасью Кузовлеву? Как есть она: и на картине такая же бой-баба!
Не думал как-то раньше Трубников, до чего же дороги ему люди в Курьевке и до чего же красивы здесь луга и леса!
– Ну спасибо вам! – сказал он Алексею и спросил восхищенно: – И как вы такое можете?
Алексей улыбнулся грустно:
– Меня эсэсовцы в лагере научили не только каждого человека нашего, а каждую травинку русскую любить…
Только сейчас заметил Трубников Парашу. Она стояла в сторонке, с тревогой и жадностью слушая, что и как говорят о картинах Алексея. И такой гордостью сияли ее глаза, и такое счастье они источали, что с невольной ревностью Трубников подумал: никогда она не любила и не будет любить никого, кроме Алексея.
Спустились вниз. Тимофей Ильич уже надел новую рубаху и праздничные брюки, расчесал бороду. Пошли в клуб. На лекцию собрались все, от мала до велика, так что Роману Ивановичу пришлось идти вперед, чтобы проложить лектору дорогу.
С волнением Трубников поднялся на трибуну.
И когда повернулся он лицом к людям, трепетно отыскивая глазами своих старых друзей, с кем колхоз поднимал, обдало его холодом: не увидел он многих. А где они, об этом и спрашивать было не надо: кто в боях погиб, кто умер.
Знал их каждого Трубников, и они его знали; верил в них, и они в него верили.
А сейчас глядели на Трубникова совсем незнакомые, чужие, новые, даже одетые по-новому люди. Кто они? Какие они? Не знает он их, и они его не знают. Может, и не слышали о нем вовсе. Да и нужен ли он им?
Как вдруг откуда-то с задних рядов веселый голос крикнул, звеня молодым волнением:
– Привет товарищу Трубникову!
Рядом ахнула тихо и обрадованно женщина:
– Здравствуй, Андрей Иванович, родной ты наш…
Поднялись все, зашумели, захлопали.
Нет, помнят его здесь – и те, кто знал, и те, кто слышал только о нем. Да, видно, за хорошее помнят, раз встречают сердечно так.
Заволокло вдруг слезой глаза. Снял фуражку с седеющей головы.
– Ну, здравствуйте, дорогие товарищи! Вот и приехал я к вам…
5
Загостился Андрей Иванович в Курьевке: не отпускают радушные хозяева домой, да и шабаш! Отнял его у Тимофея Ильича вскоре Елизар Кузовлев, от Кузовлева переманил к себе коварно Ефим Кузин, по пути к Назару Гущину перехватил и взял в плен дорогого гостя Роман Иванович.
А от Романа Ивановича и сам не уедешь! Возил он гостя на мотоцикле с собой всюду, хозяйство колхозное показывал. И в полях они побывали, и на фермах, и в лагере животноводческом, и на мельнице, и в кузнице. Сегодня тоже собрались ехать после обеда хозяйство тепличное смотреть, да не удалось. Только принялись за щи, как потемнело сразу в доме, затрепыхался на улице с грохотом сиреневый свет, и тут же зашумел по крыше сердитый ливень. Шумел, не переставая, часа два.
Куда по лужам поедешь?
Вышли оба в сверкающий после дождя сад, на скамейку перед окнами, наслаждаясь послегрозовой прохладой. А садом словно маляр прошел с маховой кистью: по земле хватил травяной зеленью, березы охрой золотистой окропил, в рябину с плеча махнул огненным суриком, а на дорожки синьку выплеснул прямо из ведра…
Слушая, как жена и теща в доме возятся с новорожденной, счастливо пересмеиваясь, Роман Иванович поднялся вдруг обеспокоенно:
– Тестя бы проведать надо. Третий день, говорят, пьет. И что с ним такое творится, понять не могу!
– Давай сходим к нему сейчас, – виновато заторопился Трубников. – Забыл я про старика совсем. Один раз только с ним и виделся, поговорить даже толком не удалось. Знаю, что обижается!
Роман Иванович позвал в окно жену:
– Маша, выйди-ка на минутку!
Выплыла из темной глуби комнаты Маша, застегивая лениво кофту, вздувшуюся парусом от набухших грудей.
Не только синие глаза ее, веснушки даже цвели материнской радостью.
– Чего тебе?
Услышав об отце, встревожилась:
– Не говори маме, я сейчас.
Когда вышли все трое на дорогу, догнал их на облепленном грязью «Москвиче» Кузовлев. Открыл дверцу, крикнул:
– Роман Иванович, в третьей бригаде пшеницу пора жать. Я дал команду, чтобы начинали завтра…
– Ладно. А сам когда начинаешь?
– Послезавтра. Садись, повезу!
Вылез из машины, поклонился с шутливым подобострастием:
– Пожалуйте, господа.
Все уселись. Роман Иванович сказал тоже с шутливой важностью:
– К тестю, да поживее у меня!
Проезжая мимо дома Зориных, Кузовлев сказал сумрачно:
– Сказывали мне, захворал шибко Тимофей Ильич. Сыновей сегодня даже вызвали сюда телеграммой…
– А что с ним? – разом спросили все.
– Кто его знает! Не жаловался будто на здоровье, а позавчера сходил в поле, на скотный двор, со внуком да с Васюткой моим и простудился, должно. Родничок там искали. Еще мальчишкой Тимофей Ильич с дедом своим наткнулся на этот родничок, да пришлось забить его тогда колом: на чужую полосу вода пошла. А сейчас хотели они тот родничок отыскать, чтобы воду на скотный двор подать можно было…
– Нашли? – встрепенулся живо Роман Иванович.
– У ребятишек спросить надо. Показывал он им, где копать.
– Нам Тимофея Ильича завтра же навестить нужно, – забеспокоился Трубников. – Может, помочь ему, чем сумеем…
Машина остановилась у самого крыльца Боевых.
– Зайди и ты, Елизар Никитич, разговор есть, – пригласил Кузовлева Роман Иванович.
Войдя в дом, все столпились смущенно у порога: Савел Иванович сидел за столом, поддерживая рукой отяжелевшую голову. Перед ним стояла недопитая бутылка водки, на краю стола, уныло свесив зеленые хвосты, лежали две луковицы. В тарелке кровоточил одиноко старый, лопнувший помидор.
Услышав стук двери, Савел Иванович поднял голову. Мутные глаза его блеснули.
– Проходите к столу! – заговорил он обрадованно, встал и, пошатываясь, пошел к шкафу за рюмками. – Ты, Андрей Иванович, чуть не месяц как приехал, а к старому своему соратнику и глаз не кажешь…
– Опять пьешь? – укорила сурово Маша.
– Мое дело, дочка, теперь маленькое. С ружьишком по лесу прошел – и все. Никакой роли я в истории не играю, никому не нужен, вот и сижу один. Отчего не выпить?
Взглянув на остатки вина в бутылке, просительно поднял на дочь глаза.
– Слетала бы, Мария, в лавку, за пол-литрой. Гостей принять нечем.
– Не за этим пришли, – нахмурился Роман Иванович. – Поговорить с тобой надо.
– Со мной теперь говорить не о чем. Я лесник. Вот ежели делянку желаете, это я могу. Хоть сейчас укажу… Пожалуйста.