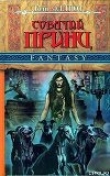Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Молча выслушивала Парасковья мужние укоры, все глубже тая обиду за свой труд. Знала – не поймет Семен обиды той, да и высказать ее не смела. Виноватой считала она себя перед ним за прошлую связь свою с Алексеем и благодарна была уж за одно то, что заботился он все-таки о пасынке. Приучал его к порядку, строжил, за плохое учение взыскивал. Хоть и обливалось кровью материнское сердце, когда поколачивал он спьяна мальчишку, да ведь больно своевольным рос Лешка, иной раз никаким словом его не проймешь!
Хозяином Семен рачительным был: железки ржавой на улицу не выбросит зря! Как приехал – и крышу починил, и печку сложил новую, и полы в сенях перестелил.
Не по одной бабьей жалости да старой памяти сошлась во второй раз с ним Парасковья. Думала вначале, что научился он в тюрьме да на фронте уму-разуму, пообтесался там, но обманулась. На словах только попроворнее стал Семен. Меньше и людей теперь дичился, а во всем другом не изменился нисколько. С полгода ходил по колхозу в героях, медалями звенел, а ни к какому делу колхозному душой так и не потянулся. Кое-как уговорила его пойти в МТС. Пристроился там учетчиком, да и эту работу как наказание отбывал.
Слушая его выговоры, в одном согласна была Парасковья: забросила она в последнее время семью и хозяйство, это верно. Глотая слезы, виновато и яростно принималась ночами наводить в доме порядок. Скребла и мыла полы; стирала и чинила белье, стряпала до свету завтрак и обед. Но ненадолго ее хватало везде успевать. Часто приходила домой усталая, не до хозяйства было. А сегодня до того наворочалась за день с мешками, что с трудом на крыльцо поднялась. Не слушались, дрожали ноги, ломило поясницу.
Семен был дома. Совершенно трезвый сидел поодаль стола, на диванчике, в сапогах и в шапке, в туго подпоясанной гимнастерке, с заткнутым под ремень пустым рукавом, словно собрался куда-то.
Встретил жену тяжелым взглядом. Остановилось у Парасковьи сердце от предчувствия какой-то беды.
– Замерзла поди? Садись пей чай! – с необычной заботой, грубовато сказал он. – Мы тут с Лешкой поели уж…
И подозревающе сощурил на Парасковью мутно-голубые глаза.
Все еще не избавившись от тревоги, Парасковья наскоро умылась, присела у стола, налила себе чаю.
– Закончили мы сегодня переборку! – робко похвастала она мужу и улыбнулась обрадованно. – Убережем теперь картошку…
Семен не ответил ей. Глядел на свои сапоги, думал о чем-то своем.
– С понедельника удобрение на участок будем возить… – неуверенно продолжала делиться с ним своей заботой Парасковья. – Нынче его побольше у нас будет. Выцарапал Савел Иванович в городе.
Семен опять промолчал и настороженно взглянул на жену сквозь желтые тяжелые кудри, свалившиеся на лоб.
На крылечке завизжал снег. Кто-то быстро вошел в сени, долго шарил рукой скобку.
Семен выпрямился сразу, одернул гимнастерку и уставился на дверь. Запыхавшись, вошла Настасья Кузовлева. Вошла и нерешительно остановилась у порога, увидев Семена. Не сразу нашлась, что сказать:
– За дрожжами я к тебе, Парасковья… Пироги хочу завтра спечь. Хватилась, а дрожжей и нет…
– Есть у меня! – взяла со стола чашку Парасковья.
Идя на кухню за ней, Настасья спросила шепотом:
– Али не слышала ничего, подружка?
– Не была я дома весь день… – тоже шепотом ответила Парасковья. – А что?
– Жив Алексей твой… из плена вернулся! – чуть слышно шепнула ей в ухо Настасья. И чуя, как вздрогнула и ухватилась за нее обеими руками Парасковья, закрыла ей рот ладонью, чтобы криком не выдала та себя. А сама вслух сказала спокойно и громко:
– Ну, вот спасибо тебе, выручила. Да и дрожжи какие хорошие!
Парасковья не слышала, как хлопнула за Настасьей дверь и прохрустел снег за окном, она все стояла не дыша, схватившись за сердце. И вдруг радость, огромная и неуемно-дикая, жарко полыхнула в ней. Уже ни о чем не думая, себя не помня, Парасковья схватила полушалок и кинулась вон. Но не успела сбежать с крыльца, как ударил ее в спину мужний окрик:
– Парасковья, ты куда?
Зная теперь, что мужу известно о приезде Алексея, она не остановилась, побежала по тропке еще быстрее.
Семен, тяжело топая, обогнал ее и загородил дорогу.
– Вернись домой!
– Сема, – умоляюще закричала горячим шепотом Парасковья, и месяц распался вдруг в глазах ее на сверкающие обломки, – пусти меня, Сема! Должна я увидеть его, отец ведь он Лешке…
Семен толкнул ее рукой в грудь.
– Иди, говорю, домой, сука!
Парасковья вздрогнула и выпрямилась.
– Ты что это мне сказал? – спросила она тихо и страшно, все приступая к нему и повышая голос: – Ты что сказал мне, подлец?
Пятясь под ненавидящим, гневным взглядом жены, Семен размахнулся и ударил ее по лицу.
– Еще добавить? Я и с Алешкой твоим разделаюсь! На фронте мы таких предателей расстреливали…
Парасковья молча поднялась и пошла прямо на него. Локтем столкнула легко с дороги.
– Пусти, не удержишь!
Только около дома Зориных она пришла в себя и, раздавленная унижением, заплакала. Долго стояла на крылечке, вздрагивая от холода и бездумно глядя вдоль пустынной улицы, где теснились около домов под месяцем сугробы, подняв кверху голые горбатые спины…
На краю деревни, где-то около скотного двора, зазвучал отчетливо на морозе людской говор. Парасковья торопливо смахнула концом полушалка слезы, вбежала в сени и с забившимся сердцем дернула прихваченную морозом дверь.
В избе ярко горела под Потолком большая лампа, и в первую минуту Парасковья, щурясь от света, не увидела Алексея. За столом, рядом с дедом Тимофеем, сидел в черной рубахе и пил чай кто-то чужой, стриженый, с кудрявой бородкой. Парасковья хотела уже крикнуть: «Где же Алеша-то?» Но чужой поднял вдруг на нее густые длинные ресницы, и она увидела большие серые Алешины глаза.
Увидела и не могла сказать ни слова.
Расплескивая чай, Алексей поставил блюдце и неуверенно стал выходить из-за стола, не сводя с нее виновато-радостного взгляда. Губы его шевелились без слов.
Она бросилась на грудь ему, сотрясаясь от плача и хватаясь руками за плечи, потом опустилась на пол и, обняв его ноги, забилась в тяжелых рыданиях.
– Алешенька! Живой!
Он с трудом поднял ее с пола и, гладя голову, спросил:
– Сын наш… растет?
Все еще всхлипывая, она улыбнулась.
– Четвертую зиму в школу ходит!
В сенях загремели мерзлые сапоги. В избу вошли друг за другом Савел Иванович, Елизар Кузовлев, Роман Иванович. Закрыл дверь последним Семен.
– Вот какое у нас нынче счастье! – встал Тимофей навстречу гостям, плача от радости.
Все поздоровались с Алексеем, только Семен не подал ему руки.
Савел Иванович, усаживаясь на лавку, к столу, начальственно спросил:
– Раньше, стало быть, нельзя было родителям сообщить о себе?
– В плену я был, Савел Иванович, а потом у нас в лагере сидел…
– Понимаю. Наказание отбывал?
– Нет, наказывать меня было не за что. Выясняли просто…
Семен кашлянул в кулак, расстегнул полушубок:
– Долгонько что-то выясняли!
– Там не торопятся, – сказал неопределенно Алексей, взглянув мельком на Семена. – Да и выяснять не у кого было…
– Присаживайтесь, гости дорогие, к чаю! – заторопился Тимофей. – Давай-ка, старуха, закусить что-нибудь.
Все отказались от чая. Покосившись на полупустую бутылку, Савел Иванович отодвинулся на конец лавки, словно ему жарко было у стола.
– Не повезло, брат, тебе! – посочувствовал он Алексею. Подвинулся опять к столу и взял стакан чаю. – История не больно красивая у тебя получилась. Ведь людям рта не заткнешь. Был в плену? Был. И куда ты денешься от этого? На всю жизнь, можно сказать, пятно. И на семью тень. Вот какие дела, брат. М-да.
Тимофей высоко вскинул голову.
– Не ладно ты говоришь, Савел Иванович. И раньше в плен солдаты попадали, да не казнили их за это. С кем беды не бывает! А мне сына своего стыдиться нечего: кабы изменником он был, не отпустили бы его, не сидел бы он тут с нами. И второй мой сын, Михаил, тоже кровь пролил за Родину, израненный весь воротился. Василий, тот на заводе оставался всю войну, сталь делал для фронта. А ты про тень толкуешь.
И встал из-за стола торжественно-грозный.
– Жили мы, Зорины, честно, и жить будем честно. И ты, Савел Иванович, тень на семью нашу не наводи!
Глухо и обидчиво Кузовлев спросил, не глядя на Боева:
– Али тебе, Савел Иванович, неизвестно, что Алексей в плен раненый попал? Про это сын мой, Василий, незадолго до гибели своей писал сюда в письме…
– Что он писал! – повернулся к нему тяжело Боев. – Писал, что Алексея убитого видел, а он вот, слава богу, живой сидит. О живом и речь я веду. Каждый должен перед Родиной ответ нести за свои проступки. А как бы вы думали?! С каждого спросится, кто у Гитлера оставался…
До сих пор молчавший Роман Иванович остудил его разом:
– В плену да в неволе, Савел Иванович, миллионы людей советских были. Так что же, по-твоему, всех изменниками их считать?
Алексей взглянул на него благодарно, вспыхнув и часто-часто замигав длинными ресницами.
– Я понимаю, – низко опустил он голову, – что всякий вправе теперь сомневаться во мне, если не знает, почему и как я в плен попал…
Смяв окурок, поднял на всех тоскующие глаза.
– Хоть и себя поставьте на мое место: ну как бы вы сами поступили? Очнулся я утром в лесу и не знаю, как тут очутился и что случилось со мной. Ощупал себя – вроде цел, нога только ноет. Встать хотел – не могу. Слабость страшенная, и в голове шумит. Понял, что контузило меня. Как поотлежался, решил хоть ползком, а к своим пробираться. Да вот беда: не помню, с какой стороны наступали! Дождался солнца, пополз на восток. Весь день полз, а к вечеру сил не стало, свалился в овражек и уснул. Не знаю, долго ли спал, но вдруг слышу: «Русс, штеет ауф!» – вставай, значит. Кругом меня немецкие автоматчики. «Хенде хох!» – руки вверх, стало быть. Ну что тут поделаешь? Ни оборониться, ни убежать. Повели меня на дорогу, а там наших пленных набралась целая колонна. Стоим. Немцы в сторонке совещаются о чем-то. Потом подошел один, сержант по-нашему, сказал что-то переднему в колонне тихонько, будто про себя. Были же и среди них хорошие люди! Сказал же он вот что: «Рус, рви документы, скоро эсэс приедут». А когда повели нас, на том месте, где наша колонна стояла, все равно что снег выпал – столько бумаги рваной осталось. Порвал и я свои документы – билет партийный, книжку офицерскую. Порвал, и окаменело в тоске сердце у меня. Вот, думаю, и все. Один остался. Нет у меня теперь ни родины, ни партии, ни семьи. А это ведь хуже расстрела, товарищи дорогие… Это понять надо…
Алексей отвернулся, сглатывая слезы и закрывая глаза рукой. Услыхав глухие рыдания матери, вздохнул, перемогаясь, и заговорил тише.
– Не буду вам рассказывать, как мы в лагерях фашистских жили. И без меня слыхали вы про это. Другое скажу: не опозорил ничем я советское звание и не в чем каяться мне. Если и виноват я, так в другом. Как стали подходить войска наши, устроили мы в лагере восстание, бараки сожгли, а тюремщиков-эсэсовцев захватили всех. И тут, каюсь, озверел я. Сам этими вот руками убивал их. Безо всякого суда. И безо всякой жалости… До войны я ни разу в драке не участвовал, не ударил человека ни разу, даже птахи никакой не погубил. А тут… Выстроил палачей наших, иду вдоль шеренги и в глаза каждому смотрю. Всех в лицо их знал. И они меня знали многие, но только сейчас поняли, что офицер я. Тянутся передо мной, а самих дрожь бьет. С ихним же пистолетом подошел к первому в шеренге. Он упитанный был, здоровый. Трясется, как студень. В затылок я ему выстрелил, он в песок носом. Помутилось вдруг все во мне, упал я, заревел. Часа два, может, в припадке колотился, еле отходили. Какую же от палачей этих муку перетерпеть мне надо было, чтобы до такой нечеловеческой ненависти к ним дойти?!
Алексей пошарил у себя за спиной, взял какую-то темную ветошь с подоконника и начал ее развертывать.
– Приданое свое хочу вам показать. У немцев заработал. Двенадцать лет его берег, чтобы сыну отдать на память. Это вот одежа моя. Четыре года носил ее, не снимая. А это наручники. Самые модные. Американской системы: чем больше их дергаешь, тем крепче они руки схватывают. Попробовать не желаете?
Но к блестящим позванивающим кольцам никто не захотел даже притронуться, и Алексей завернул их опять в черные лохмотья.
– Зачем же тебя наши-то… в лагерь? – недоверчиво сощурился Савел Иванович.
Алексей не ответил. Он хотел допить остывший чай, но не мог: зубы колотились о стекло, и рука не держала стакан.
…Уходя от Зориных последним, вслед за женой, Семен задержался у порога.
– Не верю я тебе, Алеха! Шкодливый ты человек. Перед войной ты мне нашкодил, в войну государству нашкодил и сейчас тут шкодить будешь! Я тебе вот что скажу: уезжай отсюдова, не становись поперек дороги, а то я за себя не отвечаю.
Глянул на Алексея через плечо помутневшими от гнева глазами и так хлопнул дверью, что в лампе подпрыгнул огонь.
Тихо стало в доме у Зориных после ухода гостей. Мать молчком постелила Алексею в горнице постель, отец курил на голбце цигарку за цигаркой, низко свесив седую голову.
Даже под родительской крышей почувствовал себя Алексей чужим и бесприютным. Лежа в постели, слышал он, как отец с матерью говорили о чем-то вполголоса и осторожно ходили по избе, словно в доме был тяжело больной.
«Кто и что я теперь? – глядя в темноту широко открытыми глазами, отрешенно раздумывал Алексей. – Меня считают отступником, и нет мне места среди честных людей. Но где оно и как его найти? Был я художником до войны. А сейчас? Могу ли я с народом языком искусства говорить, ежели веры мне от людей нет? А коли нет места в жизни моему искусству, для чего же мне жить? Для сына, который даже не знает меня и который поэтому не принадлежит мне? Да и что я могу дать сыну, я – отступник и предатель в глазах его? А ведь люди непременно скажут ему об этом. Параша? Она потеряна для меня давно. У ней теперь своя семья, своя судьба. И люди мы с ней разные – по жизненным интересам, по развитию, по культуре. Зачем портить ей жизнь? Вот и остается мне, стало быть… Что же мне остается? Нет, даже в плену не помышлял я о смерти! Даже под дулом автомата верил я в жизнь, в своих товарищей, в свою Родину. Пусть я наказан ею несправедливо, но отойдет у ней сердце, может, и приголубит опять. Ведь сын же я ей!»
Зарывшись лицом в мокрую подушку, Алексей забылся понемногу, всхлипывая во сне. А когда проснулся, услышал тихий говор.
Мать спрашивала отца:
– Разбудить, может, Алешеньку? Второй час уж… обедать пора.
– Пускай спит, – возразил спокойный отцовский голос. – С обедом потерпим.
– Белье чистое у него есть ли? – обеспокоенно спрашивала Параша, и от голоса ее Алексей сразу поднялся с постели. Холщовая занавеска не закрывала весь проем двери в горницу. Алексею виден был край стола, накрытый, как в праздник, старинной белой скатертью. Он догадался, что Параша сама истопила для него баню. И вздрогнул вдруг от сиплого мальчишеского голоса:
– Мам, а если дядя Семен будет еще драться, я и сам ему тресну…
– Тише ты… – сердито и испуганно перебила его Парасковья. – Не суйся, куда тебя не просят. Он те треснет…
Алексей вскочил с постели и торопливо начал одеваться. Дрожащими руками застегивая пуговицы рубахи, шагнул из горницы в избу. Худенький мальчик в ушанке и рваном пальтишке стоял у печки. Возле ног его лежала сумка с книжками. На валенках еще не растаял снег.
Серые широко открытые глаза мальчика с густыми черными ресницами уставились на Алексея с удивлением, испугом и робкой радостью. Забыв все на свете, Алексей кинулся к мальчику, схватил его в охапку, поднял к своему лицу.
– Лешка! – уже не видя ничего сквозь слезы, закричал он. – А ты знаешь, что я папа твой?
Мальчик громко, как от тяжелой обиды, заревел и обнял отца за шею.
Алексей поцеловал его, поставив на пол, хлопнул по плечу.
– Ну-ка, пусть тронет еще тебя дядя Семен! Нас теперь двое, да мы ему теперь так треснем!
И взглянул прямо и властно на обезображенное синяками лицо Парасковьи.
– Не ходите домой! Увезу я вас отсюда.
Мальчик радостно вздохнул, снял шапку и стал расстегивать пальтишко.
– Дай-ка, я на печку его положу, пусть посохнет! – кинулась помогать внуку Соломонида.
Тимофей привстал встревоженно с лавки.
– Куда вам из родного дома ехать, Алексей?
7
Проклятый петух так и не дал Роману Ивановичу отоспаться как следует у лесника перед партийным собранием.
Накануне петух этот, обворожив двух кур, вывел их через щель в подворотне на улицу. И сам он, и обе дурочки, увязавшиеся за ним, поморозили себе гребни, так что хозяйке пришлось посадить всех троих в подпечек отогреваться. Но даже в темнице, жестоко простуженный, петух преданно нес свою службу: всю ночь оглушительно аплодировал крыльями и хрипло кричал. Под утро же, обретя голос, прямо осатанел совсем от усердия, без передышки закатываясь пением на полчаса. Не унимался он и во время передышек, упоенно и громко беседуя с подружками.
Какой уж тут сон!
Но, правду говоря, и без этого не поспалось бы утром Роману Ивановичу. Как на грех, сегодня хозяин затемно ушел на лыжах в лес проверять капканы, а без него в доме опасно было задерживаться. Раз от разу настойчивее начала донимать гостя своим вниманием сдобная тонкобровая лесникова жена.
Одно дело – вдову утешить, невелик грех для обоих, другое дело – Гранька… И в мыслях не хотел Роман Иванович обмануть доверие гостеприимного Степана Антоновича. Да ведь если такой бессовестной бабе, как Гранька, чего захочется, так и мертвый разохочется. Разве мало она, пока замуж не вышла, голов задурила в Степахине! И каких голов: седых, женатых, ответственных! А Роман Иванович вовсе не стар, да и холост был. К тому же совсем его истомила за время службы в райкоме холостая праведная жизнь.
Ночевать к леснику заезжал он по старой дружбе. Воевали они вместе в одной батарее, а когда Роман Иванович вернулся из госпиталя в Курьевку, Степан Антонович с матерью приютили его, бездомного, у себя.
Так и жил он у них, прилепившись к чужому семейному теплу, пока не выздоровел. И тут разошлись врозь дороги фронтовых друзей. Послали Романа Ивановича зоотехником в захудалый отдаленный колхоз; а Степу, всем на диво, очень скоро прибрала к рукам разбитная смазливая продавщица раймага Гранька Лютова. Говорили, будто бы от растраты спряталась за него. К тому времени умерла, на беду, Лукерья Сергеевна, Степина мать, и некому было оборонить от Граньки храброго батарейца. Потом узнал стороной Роман Иванович, что ушел Степан из колхоза в лесники. Худого, понятно, не было в этом ничего, кабы от людей не отгородился, а то, сказывают, по неделям в лесу пропадает, дичать прямо начал. Помня строгую и добрую Лукерью Сергеевну, привечавшую его как родного сына, и тревожась за дружка своего, навещал Роман Иванович Степана всякий раз, как случалось бывать по райкомовским делам в Курьевке.
…Лежа сейчас в широкой мягкой кровати, сияющей никелированными шарами, с доброй завистью оглядывал он хозяйскую горницу. Не худо бы пожить в таком уюте! Стены в ней оштукатурены и побелены, пол покрашен, на полу – цветной мягкий коврик, на окнах – тюлевые занавески, в одном углу, на маленьком столике – новый радиоприемник, в другом – шифоньер с зеркальными дверцами.
Справно жил работяга и хлопотун Степан Антонович! Было у него, видать, хозяйство не маленькое: все утро бренчала Гранька ведрами, бегала из дому во двор и со двора в дом, обихаживая скотину и птицу.
«Вставать надо!» – понужал себя Роман Иванович, не двигаясь, однако ж, и смятенно прислушиваясь к частому стуку хозяйских каблучков и своего сердца. Она, должно быть, управилась с хозяйством, раз сменила сапоги на туфли.
Ужаснувшись стыдного желания видеть Граньку около себя, сел быстро в постели, схватил со стула гимнастерку и брюки, но одеться не успел.
– Вставайте завтракать! – заглянула она без стука в горницу, блестя глазами, зубами и сережками. И опустила плотные ресницы, неторопливо закрывая дверь.
«Мало тебе мужа, блудня, с жиру бесишься!» – презирая себя, ругал ее Роман Иванович.
Злой и смущенный вышел из горницы на кухню умываться. Гранька живо подала ему кремовое шершавое полотенце и зачерпнула воды. Держа ковшик в правой руке, потрепала гостю левой спутанные волосы, ласково жалея его:
– Господи, тоска вам, поди, какая без любви?! И как это вы терпите только: такой видный из себя, симпатичный, а живете один…
Вода из ковша плескалась через край, на пол, мимо тазика, а Гранька стояла над гостем, ничего не замечая, и хохотала:
– Давно заговелись-то?
Ноздри ее маленького носика трепетно вздрагивали, голос звучал тихо, придушенно:
– Религию, значит, соблюдаете? Как бы вам, Роман Иванович, причастие не пропустить! Грех-то какой будет…
Все больше багровея, Роман Иванович вытер сухое лицо полотенцем и пошел к столу, где шипели и потрескивали на сковородке блины. Торопясь и обжигаясь, начал есть, а Гранька, пунцовая не столь от печного, сколь от своего жара, присела, распахнув малиновый халат, за другой угол стола.
Роман Иванович, убегая взглядом от бесстыдно зовущих Гранькиных глаз, не стерпел, покосился на точеную шею и на крутые белые предгорья грудей, закрытых кружевными облаками…
Кабы не спасительный стук в сенях, не устоял бы, поди, праведник от греха. Стук этот испугал и обрадовал его.
Гранька в досаде повела тонкой бровью и с ужасающей неторопливостью поплыла в кухню, а Роман Иванович выпрямился и вздохнул прерывисто.
Такое же счастливое чувство испытывал он, помнится, однажды на фронте, когда плена позорного избежал.
Вошел Степан с красным от мороза лицом и заиндевевшими бровями, бросил молча в угол двух мерзлых зайцев, разделся и сел в одной рубахе на лавку, общипывая сосульки с усов.
Впервые Роману Ивановичу за три дня выпала минута поговорить с ним. До этого он Степана даже не видел, потому что тот с курами ложился, с петухами вставал.
– Ну, как охотишься нынче? – спросил, радуясь, что прямо и честно может глядеть ему в глаза.
Степан показал на полати, откуда свешивались четыре рыжих лисьих хвоста.
– За зиму вот вся и добыча тут. Зайчишек, правда, около десятка в капканы поймал да белок десятка три сшиб…
Улыбнулся вдруг, повернув к Роману Ивановичу худое скуластое лицо с большими серо-синими глазами.
– Лося твоего ноне видел…
– Где? – живо вскинулся Роман Иванович.
– Иду на рассвете просекой, по дороге. У меня там капканы. Вижу вдруг – едут навстречу мне на конях. «Не лес ли кто ворует, думаю?» Стали подъезжать ближе, приглядываюсь, а это лоси! Идут друг за дружкой. Рога ихние за дуги я в темноте принял. Два, значит, вправо кинулись, в чащобу, а один остановился в снегу и стоит…
– Так чего же ты смотрел? – задрожавшими руками отодвинул от себя блины Роман Иванович.
– Ну зачем же я чужого лося трогать буду? Да и ружьишка с собой у меня не было.
– Я к тебе на будущей неделе приеду, вместе и пойдем! – Загорелся враз Роман Иванович, вылезая из-за стола.
Степан только рукой махнул и начал разуваться.
– Нет, уж… Вижу – не собраться тебе, да и срок на исходе.
– Ничего, успеем.
Сняв старые подшитые валенки и глядя на свои побелевшие ноги, лесник угрюмо выругался:
– Замерз, брат, как собака. Всю вселенную обошел сегодня…
– Чего же ты надрываешься так?
– Да ведь охота пуще неволи.
Достал с печки меховые унты, обулся, сел опять рядом.
– Только ли охоту тешишь? – глянул на него с усмешкой Роман Иванович. – У тебя вон хозяйство стало большое, оно не только ухода, а и расхода требует.
Степан усмехнулся.
– Поди, думаешь, спекулирую, взятки беру? Нет, дружок, все своим горбом зарабатываю! И дело мое безгрешное: зимой лисицу, волка, зайца поймать, а летом – отроек словить, грибов и ягод заготовить. Целую пасеку вон наимал пчел-то…
– Колхозные, поди?
– И колхозные попадаются.
– Нехорошо вроде колхозные присваивать…
– Все по закону, Роман Иванович. Раз упустили рой, значит, не хозяева ему.
– И как же ты их ловишь?
– Тоже труд нужен. Колоду сделаю, натру ее мелиссой, чтобы на запах пчелы летели, а потом эту колоду в лес везем с бабой да поднимаем на дерево. Глядишь, денька через два-три и прилетит рой туда. Ну, берешь его на свою пасеку, либо продаешь.
– Не понимаю, Степа, зачем ты из колхоза вышел? Ну сам лесником работаешь, а жена в колхозе пускай бы…
Степан не успел ответить, как из-за кухонной занавески выскочила Гранька, словно кипятку на нее плеснули.
– Что, я дура, что ли? Чертомелить зря!
Даже не взглянув на нее, Степан сказал:
– Я не супротив колхоза. Кабы порядок там, разве ушел бы я оттуда? Так ведь оттого и ушел, что порядка не стало. Зверофермой в колхозе я заведовал. Люблю всякое зверье. Ну только вижу – нет никакого внимания к звероферме, а из-за этого колхозу один убыток, да и мне напрасные попреки и выговора. Взял и ушел.
– А ежели по-настоящему ферму оборудовать?
– Можно тогда подумать.
– И не выдумывай! – пулей вылетела опять из кухни Гранька. – Нечего нам в колхозе делать. Хватит, настрадались…
«Не больно ты, видать, настрадалась!» – глянув исподлобья на нее, подумал Роман Иванович. И повернулся опять к Степану.
– Газеты читаешь? Видишь, что делается в колхозах после сентябрьского Пленума? А ты на стариковской должности укрываешься!
– Верно, больше стало колхознику внимания. И веры больше стало от партии и правительства. Это ничего, это, я скажу, очень хорошо даже.
– Али тебе худо живется? – уже не на шутку встревожилась Гранька, присаживаясь к столу. – Сыты, одеты, обуты. А пока в колхозе жили, что видели?
Не слушая ее, Степан пожаловался:
– Мне без людей скучно, Роман Иванович. Я воспитывался в колхозе, на народе. И очень обидно было в лес от колхоза хорониться, да что сделаешь! Савел Иванович меня заставил, он меня с колхозом разлучил. А за хорошим председателем почему же в колхозе не жить?!
– Выберут хорошего.
– Поглядим, как оно будет…
– И глядеть нечего! – не унималась Гранька.
– Ты, Граха, молчи! – прикрикнул на нее Степан. – Сходила бы лучше к Дарье на полчасика.
Сердито сопя, Гранька оделась и молча стукнула дверью.
– Не хочу говорить при ней, – объяснил он, – а говорить надо. Растревожил ты меня!
И впервые взглянул в лицо Роману Ивановичу загоревшимися глазами.
– Я, дружок, вот как болею за колхоз, хоть и не колхозник нынче! С кровью от колхоза отрывался. Ну только нельзя мне больше там жить стало. Все делалось не по уставу. Указчиков много, а хозяина нет. Скажу тебе, до того я замучился, что собирался в Москву письмо писать. А потом подумал: «Ну чего я туда буду соваться? В правительстве люди сами с головой и без меня все знают. Еще посмеются, думаю, надо мной. Вот, дескать, умник тоже нашелся! А то и за ворот сгребут!» И опять думаю: «А может, не знают они, не видят сверху-то, что у нас тут делается, может, не доходит до них, думаю, недовольство народа, может, очки им втирают бюрократы? Ну только опять же думаю, не могут они не знать… Знают! А не знают ежели, обязаны знать и думать о нас…» Ладно ли говорю?
– Говори, говори…
– Ну-ка, возьми карандаш, Роман Иванович. Пиши.
Степан сказал на память, сколько в прошлом году получил колхоз хлеба, сколько сдал в госпоставки и за услуги МТС, сколько засыпал на семена и сколько после этого осталось колхозникам на трудодни.
– Посчитал? Вот и погляди сам теперь: половину урожая колхоз наш государству отдал. А колхознику сколько осталось? Триста граммов зерна на трудодень. Да ведь он еще и налог платит. Какой же интерес ему в колхозе работать?
– Что же ты хочешь сказать? – бросил на стол блокнот и карандаш Роман Иванович. – Государство обирает колхозы? Так?
– Да про это разве я говорю! – обиделся Степан. – Неужели не понимаю я, что не может государство с колхозов меньше брать. Ему народ кормить надо! А рассудить если, так и берет оно немного. Ведь кабы мы не шесть, а пятнадцать центнеров пшеницы с гектара получали, нам бы хлеба девать было некуда после расчета с государством. Ну только с Савелом Ивановичем не добиться такого урожая.
– Почему же?..
– Я тебе, Роман Иванович, так про него скажу. Сам по себе человек он честный. Не хочу на него зря грешить! Колхозного крошки не возьмет и другим не даст. За это хвалю. Да ведь вот беда с ним какая: никому не верит и никого не слушает! Командует один, а кто ему поперек скажет, тому житья от него не будет. И о колхозниках не думает. Ему бы только директиву поскорее выполнить и рапорт начальству дать, а там хоть трава не расти…
– По-твоему, что же – директивы не обязательно выполнять? – жестко усмехнулся Роман Иванович.
– И чего ты сердишься?! – еще больше обиделся Степан, вскидывая на него с укором чистые серо-синие глаза. – Директиву с умом выполнять надо! Ведь начальство, которое директивы пишет, оно не знает, где, что, когда и сколько на нашей земле сеять выгоднее. А Савел-то Иванович должен знать, ведь родился тут. Так зачем же он по директиве сеет? Ну, начальству угодил, план сева перевыполнил, а посеял не там, не то, не так и не вовремя. И колхозников без хлеба оставил, и государству прибытка нет… Не имеет он своего соображения, вот что я скажу, Роман Иванович. Предпишут ему из района головой в омут нырнуть, он и спрашивать не станет: «Зачем?» Только пятками сверкнет!
Ничего не ответил Степану Роман Иванович. Губы покусал в раздумье, спросил погодя:
– Ты решения Пленума читал?
– Я три газеты выписываю. Все читаю, чего в них пишут…
– Ну и как ты думаешь теперь?
– Да ведь как? – неохотно отозвался Степан. – Можно дело поправить, если всурьез возьмутся…
– А ты, значит, не хочешь с нами поправлять? – встал из-за стола Роман Иванович.
– Про меня другой разговор… – сердито вздохнул Степан, глядя в окно.
И пока Роман Иванович одевался, не сказал больше ни слова.
На улице было кругом белым-бело от свежего чистого снега. Но оттепели за снегопадом не чуялось: морозный ветер насквозь прохватывал выношенную шинель.
В калитке Роман Иванович столкнулся с Гранькой. Она возвращалась, видно, от соседки. Проходя мимо, выпрямилась, поджала губы и еще плотнее прихватила на груди серую пуховую шаль.
8
Обдумывая, как бы ему рассердить курьевских коммунистов, чтобы смелее брали они судьбу колхоза в свои руки, Роман Иванович не заметил, как до правления дошел. Встряхнулся от дум, когда за скобку взялся.
Четырех часов еще не было, а коммунисты уже собрались все. Недружно, вразнобой ответили на приветствие, не меняя понурых поз. Ни смеха, ни шуток, ни споров, какие бывают обычно перед собранием, не услышал сегодня Роман Иванович. Женщины и те сидели молча, сложив руки на коленях.
И только Савел Иванович, в новом черном френче, на который не забыл он перецепить со старого пиджака высветлившийся орден, был самоуверенно невозмутим. Сидел один за столом и, похохатывая, рассказывал шоферу Малявину, как добился в райисполкоме концентратов для скота. Малявин слушал его с угрюмой почтительностью, почесывая худую небритую щеку и нетерпеливо кося хитрые глаза на стол, где лежали накладная и путевка для подписи.