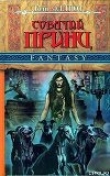Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
У РОДНОГО ПОРОГА
1
Разом очнувшись от глубокого раздумья, Роман Иванович круто осадил Найду: по свежей пороше только что перешел дорогу лось.
Так и екнуло у зонального секретаря от жаркой досады охотничье сердце.
«Не иначе, мой это гуляет!»
Давно уж таскал он в кармане лицензию на отстрел сохатого, да никак не выпадало свободного денечка погоняться за ним… А хорошо бы с ружьишком сюда в выходной!
Вскочив на ноги, вытянул сторожко шею: не прохрустит ли в лесу снег под тяжелым копытом, не качнется ли сучок на дереве, задетый ветвистым рогом. Но стояли недвижно в белой тишине отягощенные инеем плакучие березы, как высокие белоструйные фонтаны, ударившие из-под снега и схваченные враз лютым морозом.
Слыша только глухой стук своего сердца да тонкий звон крови в ушах, Роман Иванович со вздохом тронул вожжи.
«Сегодня же сговорю лесника на охоту!»
Но не отъехал он и сотни метров, как забыл тут же и о лосе, и о лицензии, и о леснике. Придавили опять неотступные думы и заботы, одна другой беспокойнее, одна другой тревожнее, одна другой тягостнее. И черт их знает, откуда только свалились они на него все разом! Жил и работал спокойно, хорошо, как вдруг…
Вчера утром позвонил ему в МТС из Курьевки Савел Иванович Боев и, не здороваясь даже, огорошил с первых же слов:
– Беда ведь в колхозе-то у нас, Роман Иванович! Да то и случилось, что падеж начался. Скотина мрет. От бескормицы. И еще того хуже – бруцеллез объявился на второй ферме. Пять коров абортировали… Прямо не знаю, что и делать!
Романа Ивановича так и подбросило на стуле. Проглядеть такое несчастье! Ведь эдак можно все стадо загубить.
– Да, может, ошибка?! Откуда он взялся? Кто обнаружил-то?..
– Кабы ошибка! Говорю тебе, пять коров абортировали. А болезнь эту участковый обнаружил. Товарищ Епишкин. Вот он тут, у меня, сидит. Могу ему трубку дать…
Но Роман Иванович уже не слышал ничего и понимать ничего не желал больше:
– А где же вы, черт вас побери, оба с Епишкиным раньше были? Я спрашиваю, о чем вы раньше-то думали? А Левушкин куда глядел? Дождались, пока всю ферму заразили. Да совсем не нужно специалистом быть, чтобы кровь на бруцеллез у скотины проверить. Сам должен об этом знать, не новичок, двенадцать лет колхозом руководишь!
И сгоряча так страшно накричал на Савела Ивановича, что старик начал заикаться по телефону от испуга и обиды.
А Роман Иванович, уже стуча пепельницей по столу, пригрозил вдобавок:
– Да вас всех троих под суд отдать надо!
После, как трубку бросил, опомнился немного и, кляня себя за невыдержанность, побежал в райком, через улицу, к первому секретарю. Шутка ли, бруцеллез в районе появился! И где появился-то – в колхозе «Рассвет», когда там и без того скот падает. Нет, пора кончать с такой безответственностью руководителей колхоза, хватит полумерами отделываться!
Но Додонов почему-то не привскочил на стуле, как того ожидал Роман Иванович, не закричал, не удивился даже, а выслушал его с таким видом, будто давным-давно ожидал именно этого несчастья в этом именно колхозе. Процедив сквозь толстые пальцы светлый хохолок на макушке, деловито распорядился:
– Поднять на ноги ветеринаров!
– Да там уж Епишкин второй день сидит…
Даже головы не повернув, Додонов сказал с раздражающим спокойствием:
– Пусть и районный туда же едет немедля. Ну и в область сообщить надо, конечно.
«Нервы свои бережешь! – закипая снова, думал Роман Иванович, уже сердито глядя на могучую шею и атлетические плечи Додонова, на его розовое, пылающее здоровьем лицо. – Нет, я тебя сейчас пройму, я тебе кровь сейчас испорчу! Не уйду, пока не добьюсь от тебя помощи настоящей…»
И не узнавая своего голоса, осипшего вдруг, заговорил с гневной досадой:
– А что могут сделать там, Аркадий Филиппович, одни ветеринарные врачи?! Лечить не скотину, а колхоз надо! Врачи приедут, составят акт, дадут хорошие советы и уедут, а больных коров изолировать все равно некуда! Врачи уедут, а скотину кормить все равно нечем! Врачи уедут, а грязь на фермах так и останется…
– Ну и что же вы предлагаете? – переходя сразу на вы, спросил Додонов с возмущающим спокойствием.
– Снимать надо Боева, вот что я предлагаю! – и Роман Иванович с отчаянной решимостью отсек рукой в воздухе голову курьевскому председателю.
– Я понимаю, – торопливо приложил он затем обе руки к груди, – Савел Иванович – заслуженный человек, немало для колхоза потрудился. Не зря же в войну орден получил. Но не под силу ему, Аркадий Филиппович, нынешний укрупненный колхоз! Да и от старых методов руководства не может до конца отрешиться. А сейчас на приказах да окриках не уедешь далеко. К тому же выпивать начал он частенько.
– Снять, значит, предлагаете Боева? – прищурился Додонов. – Ну что ж, я не возражаю. Тебе виднее, ты в первую очередь за колхозы своей зоны отвечаешь. Зачем же дело стало?
«Пронял-таки!» – сердито возликовал Роман Иванович и укорил запальчиво Додонова:
– За вами дело стало, Аркадий Филиппович! Ведь сами же за Боева держитесь, сами не даете в Курьевку нового председателя… Но поймите, пока Боев будет колхозом руководить, отношение к животноводству там не изменится и вообще крутого подъема хозяйства не обеспечить, об этом и думать нечего. Сколько времени прошло после сентябрьского Пленума? Три с лишним месяца? А положение в этом колхозе не улучшилось. Даже ухудшилось…
Додонов поднялся вдруг и тяжело оперся на стол огромными, в светлой шерсти, ручищами.
– Вот сидели вы у нас в райкоме, товарищ Синицын, три года, отделом заведовали и власть, и права имели. А для своего, можно сказать, родного колхоза и то не позаботились, не говорю уж председателя, а даже ветфельдшера подобрать. Сколько раз говорил я вам: приглядите в той же Курьевке толкового коммуниста помоложе или комсомольца и пошлите в школу колхозных кадров. Ведь не могу я сам везде успеть! Кабы вы сделали это в свое время, был бы в Курьевке сейчас новый председатель, ну если не председатель, то заместитель новый, в крайнем случае… А сколько раз бюро нам с вами записывало – заняться подбором и воспитанием колхозных руководящих кадров всерьез! И что же? Мы подобрали и послали на учебу из района… пять человек! Да и те, будем прямо говорить, неудачные… А сейчас вы, зональный секретарь, становитесь в позу и требуете от меня, именно от меня, заметьте, нового председателя в Курьевку! Да я, что, в кармане про запас их держу, председателей?! Мне, что же, из города по почте их присылают? Дали нам, спасибо, трех руководителей, а больше не обещают пока…
Роман Иванович давно умолк смятенно и виновато, а Додонов не унимался никак:
– Так что же выходит? Выходит, не вы у меня, а я у вас должен требовать нового председателя в Курьевку. И я потребую! А как вы думаете?! Кто же будет расплачиваться за ваши ошибки? Завтра вот поедете сами в Курьевку. Разберетесь сами на месте, поможете Боеву и Зорину подготовить отчетно-выборное собрание. Ну и председателя нового поможете колхозникам подобрать. Неужели и этому я учить вас должен?
Роман Иванович поморщился, как от сильной рези в животе, и вытер узкое горбоносое лицо грязным платком.
– Сам я не могу сейчас туда поехать, Аркадий Филиппович, инструктора придется послать. Но дело не в этом, конечно…
– То есть как не в этом? – даже опешил Додонов. – Именно в этом. Такие вопросы не инструктора должны решать.
Избегая его взгляда, Роман Иванович замялся.
– Трудно мне, Аркадий Филиппович, ехать к Боеву и с должности его снимать! Не могу я! Другом был Савел Иванович отцу моему…
– Ну и что же? – шевельнул с досадой широкими плечами Додонов. – Во-первых, не снимать, а заменять Боева надо; во-вторых, заметьте себе, не вы, а колхозники должны его заменять; в-третьих, если бы даже и снимать Боева пришлось, так что же из этого?
– Не могу я! – повторил Роман Иванович упрямо.
– Та-а-к! – пропел с сердитым удивлением Додонов. – Требовали снимать Боева, чуть кулаками не стучали на меня, а как до дела дошло, так в кусты сразу? А если, допустим, отцовский друг сопьется совсем и колхоз будет разваливаться? У вас и тогда не хватит духу снять его?
Сел, задумался надолго, переставил для чего-то на столе тяжелые чернильницы.
Было бы легче, если бы накричал, но он только пожалел с глубокой обидой:
– Не узнаю вас, товарищ Синицын!
И взглянул вдруг на Романа Ивановича с искренним участием.
– Может, нездоровится вам?
Кабы припомнил сейчас Додонов, что приехала к Савелу Ивановичу дочка осенью из города, догадался бы он кое о чем, не послал бы, может, зонального секретаря Синицына в Курьевку на столь тяжкое, двойное испытание, а поехал бы сам…
Хрустнув пальцами, Роман Иванович сказал убито:
– Нет, я здоров, Аркадий Филиппович!
Додонов поднялся, походил по кабинету, опять сел. Спросил с усмешкой:
– Кого же будете колхозникам в председатели рекомендовать?
Роман Иванович заговорил угрюмо, нерешительно:
– Можно бы, конечно, Кузовлева, да только беспартийный он…
– Не в этом суть! – перебил его Додонов. – Лишь бы думал и делал по-партийному. Тут другой резон: ведь образования у него тоже нет! Сельская школа да курсы трактористов в тридцатом году – вся и наука! Федора Зорина, говоришь? А кто партийной организацией руководить будет? Нет, не могу я сейчас партийные кадры отдавать.
Хохотнул сердито и обидно:
– Вот и пришли мы с тобой опять к тому же Боеву, к Савелу Ивановичу…
Не глядя друг на друга, принялись гадать, нельзя ли направить в Курьевку кого-нибудь из районного актива, но так ничего и не придумали.
Все, кого можно было послать в колхозы председателями, были давно посланы…
– Может, и вправду Кузовлева поставить, а? – ожесточенно потер лоб Додонов, но, подумав, тут же засомневался:
– Нет, не справится он; одно дело бригадой руководить, а тут ведь… Да и политически слабо подготовлен. Придется, вижу, Боева все же оставлять… Вот я сейчас посоветуюсь еще с членами бюро.
После долгих разговоров по телефону сказал как решенное:
– Ему, черту рыжему, хорошенько втолковать надо новые задачи да хвост накрутить за выпивку, и тогда он потянет еще, вот увидишь!
Встал и, протягивая руку, строго напутствовал:
– В общем, одно имей в виду: пока не выправишь положение в колхозе, лучше и не показывайся. Ясно?
2
«Нет, не ясно! – и сейчас еще мысленно продолжал спорить с Додоновым Роман Иванович. – Выправить положение! Это сказать легко, а попробуй выправь!»
Кобылица Найда, как ни сдерживал ее Роман Иванович, шла и в гору и под гору крупной рысью. Впервые запряженная в санки, она боялась всего на свете – и гудящих телефонных столбов, и глубоких человеческих следов по обочинам дороги в снегу, и одиноких черных кустов, и даже сухого пустырника, раскачивающегося на ветру. А когда показался впереди трактор, тянувший навстречу воз сена с колхозный дом, Роман Иванович не на шутку встревожился, как бы Найда от страха не выскочила из оглоблей.
Но, к удивлению его, кобылица, стоя по брюхо в снегу, совершенно спокойно подпустила трактор и отважилась даже урвать из воза большой клок сена.
«Да ведь она же техническое воспитание имеет!» – развеселился на минутку Роман Иванович, вспомнив, что Найда родилась в МТС и успела с детства наглядеться там всяких машин.
Торопясь ухватить еще сенца, Найда жевала с такой жадностью, что на губах ее запузырилась зеленая пена. Но воз, источая пряные запахи, проехал мимо.
Роман Иванович проводил его глазами с завистью, как и Найда.
«На Выселках кошено! – соображал он. – Вот бы стожка два такого сена у степахинцев Курьевскому колхозу занять! Да только где там: у самих, поди, ни одной охапки лишней нет!»
Мысли эти привели скоро его опять к спору с Додоновым.
«Выправить положение! – никак не мог он успокоиться. – Да разве с таким пнем, как Савел Иванович, его выправишь? Другие вон шефов себе хороших завели, денег по сто тысяч в кредит у государства взяли, строительство капитальное развернули, а Савел Иванович все еще чего-то жмется, выжидает… А чего выжидать? Если у государства денег сейчас не взять, на какие шиши строить будешь? Из урожая на продажу взять нечего. Его еле хватает по поставкам рассчитаться и семена заложить да прокормиться кое-как. А почему? Да потому, что земля истощена, луга запущены, народ материально не заинтересован в колхозе, и пропал у него интерес к колхозной работе. Одни на стороне промышлять заработок начали, другие в спекуляцию кинулись, а молодежь только и норовит любым путем убежать из колхоза в город. Ведь до того дошло, что девчата лучшим женихом того парня в колхозе считают, у которого паспорт есть…»
Уже весь в жару от безысходных дум, Роман Иванович принялся зло допрашивать себя, словно за ворот тряс: «Так что же будешь делать? Как поможешь землякам? Неужели отец твой для того сложил голову от кулацкого топора за колхозное дело, чтобы голодали в родной Курьевке люди и бежали от нее, как от злой мачехи?»
Сказал себе с ясной решимостью:
«Да нет же, не погляжу я ни на что, не уеду до тех пор из Курьевки, пока порядка в колхозе не наведу, черт меня побери!»
Березняк поредел, начались поля, памятные с детства каждой кочкой, а сейчас такие белые и чистые, что глазу на них не за что было зацепиться. Бежала только по пригорку вдали, как муравей по листу бумаги, лошаденка с возом дров, часто перебирая тонкими ногами.
Навострив уши, Найда пустилась за ней вскачь. А деревни все еще не было видно. Но вот из-за угора черной картечью брызнула в зеленое небо галочья стая, спина угора задымилась, проросла кружевными березами, а потом уж и посыпались навстречу родные курьевские избушки.
Около старой колеи, у самой дороги, стоял в снегу прямой высокий старик в ушанке и сыпал из тряпицы на землю желтый песок. Отряхнув тряпицу, снял шапку и поклонился деревне лысой головой в пояс…
– Садись, дед, довезу! – натянул вожжи Роман Иванович.
Старик надел шапку, зорко глянул на него из-под толстых бровей и полез молча в санки.
Щелкая копытами, Найда понесла опять во весь дух.
– Не Ивана ли Михайловича сынок? – поднял старик белую квадратную бороду.
– Его. А ты чей, дед? Всех тут знаю, но тебя не видывал что-то…
Старик оперся бородой о грудь, долго прокашливался.
– Ты еще мальчонкой был, Роман Иванович, как раскулачивали меня и увезли отсюдова, Кузьму-то Бесова, небось, помнишь?
– Как не помнить! – вздрогнул Роман Иванович. – Да теперь и признаю…
Отвернулся и сказал обломившимся голосом:
– И тебя, и брата твоего Якова Матвеевича вовек я не забуду!
Старик завозился смятенно сзади, словно выскочить хотел из санок.
– С братом ты меня рядом не ставь, Роман Иванович, не причастен я к убийству отца твоего. Кабы виноват я был, не приехал бы сюда. А я вот, видишь, умирать себя везу на родимую-то сторонку. Не боюсь показаться землякам своим. В чем вина моя была, того от Советской власти не скрывал я. А за Ивана Михайловича один Яков, брат мой, в ответе…
И заглянул сбоку в почужевшее сразу лицо Романа Ивановича с надеждой и страхом.
– Веришь ты мне, ай нет?
Роман Иванович вскинул на него застывшие в тоске и гневе глаза.
– Могу ли верить я тебе, Кузьма Матвеич, с первого слова?
– Ну, бог тебе судья! – кротко вздохнул старик.
– Поди, слышал про Якова? – покосился на него через плечо Роман Иванович. – Топорик-то его, которым он батьку моего зарубил, в канаве нашли, под мостиком, в Долгом поле. Годов через пять. А сам он, Яков, из заключения убежал да здесь, в Курьевке, и удавился в бывшем своем доме…
– Дошли до меня о том слухи, что казнил он сам себя! – сказал и торопливо нахлобучил на лоб шапку старик.
Молчали долго, пока в деревню не въехали.
– Как дальше жить думаешь? – придержал Найду Роман Иванович.
– Уж и не знаю как! Зайду вот к зятю с дочкой на первых порах. Обогреться-то, поди, пустят. А там видно будет…
Роман Иванович сердито сказал, не оглядываясь:
– В колхоз вступать надо. И дело тебе по силам найдут, и без призора не оставят…
– Кабы приняли, чего же лучше-то?! Я ведь и там, в высылке, последнее время колхозником был. Справку имею.
– Почему же не принять? Примут.
Щурясь на сизые кособокие избы, старик раздумывал вслух:
– Не шибко богато живут земляки, гляжу я. Домов новых не строят давно…
– Давно, – согласился Роман Иванович хмуро и обидчиво.
– А мы там, в выселке-то, и в колхозе хорошо жили! – выпрямился старик, хвастливо расправляя плечи. – Хошь и кулаки были, а работать умеем. Такие хоромы себе отгрохали – поглядеть любо! Да ведь и было на что строить: по сто двадцать пудов пшеницы снимали с гектара, да от скота доход имели, да от лесопилки, ну и свой доходишко был, конечно…
Вызывающе погордился, крутя белый ус:
– До войны годов пять бригадиром я состоял, сам кулаков в советскую веру переводил. Благодарность имел за труды и успехи. Оно и верно: на отличку у меня работали все!
Закрывая варежкой невольную улыбку, Роман Иванович поинтересовался:
– Как же ты их… в советскую веру переводил?
– Да ведь кого как: умных – лаской, дураков – таской! Ослушаться меня али обмануть невозможно было: кулаков этих насквозь и видел и все повадки ихние хорошо знал. Не приведи бог, бывало, ежели кто на работу не вышел без причины, упущение какое от меня скрыл али в спекуляцию кинулся. На первый раз упреждал, на второй – бил чем попадя. Наедине, понятно. Огреешь и кричать не велишь. Это я про дураков говорю. А умных, которые жить хотели и понимали, чего от них Советская власть хочет, – не трогал. Зря не обижал никого, по делу только взыскивал. Потому и жили справно, потому и уважали меня люди…
– До войны и здесь жили справно, Кузьма Матвеич, безо всяких колотушек. На работу, бывало, сами просились!
Не слыша будто, старик досадовал, качая головой:
– Эх, кабы загодя мне, Роман Иванович, знать, куда жизнь повернется, рази ж такая судьба моя была!
– Сам ты ее выбирал, Кузьма Матвеич.
– То-то и оно. Не уга́нешь, где упадешь, где встанешь!
Покосившись на свой бывший дом, под крышей которого голубела сейчас магазинная вывеска, не сказал ничего, кашлянул только неопределенно. Когда проезжали мимо пустыря, где словно слепая, все еще стояла с заколоченными окнами черная избенка Синицыных, спросил участливо:
– Жива ли мать-то у тебя, Роман Иванович?
– Померла, после отца вскоре.
– Кто же вас, сирот, поднимал?
– Братьев маленьких в детский дом взяли, в Ленинград. А я пока не подрос, у Андрея Ивановича жил, у Трубникова. Поди, помнишь его? Из города прислан был в Курьевку, а после отца председателем остался.
– Как не помнить! – усмехнулся в усы старик и отвернулся. – Братья твои при деле сейчас?
– Старший на фронте погиб, а младшие выучились, выросли, на заводах работают…
– Ну и слава богу. А своя семья-то велика ли у тебя?
– Нет у меня семьи, Кузьма Матвеич. То учился я, то на фронте был, то болел от ранения долго…
– Невеселая твоя жизнь, Рома! – пожалел старик.
От этого ласкового, забытого с детства имени дрогнуло что-то, потеплело в сердце Романа Ивановича. У мостика остановил Найду, скрывая волнение, сказал сухо:
– Вон в том доме, что с красным крылечком, живет сейчас зять твой…
Старик легко вылез из санок, обеими руками снял шапку.
– Спасибо тебе, Рома!
– Неначем… дядя Кузьма.
3
Было совсем рано, и Настасья вышла из дому не спеша, но, как только заслышала издали голодный рев скотины, заторопилась. В коровник она прибежала уже бегом.
Вторую неделю коров кормили кое-чем. Бока у них ввалились, мослы под кожей торчали острыми копыльями, в мокрых глазах жидко светилась тоскливая мольба к людям.
Глядя, как вяло перебирают они губами гнилую пареную солому, Настасья заплакала от жалости. Взяла веревку, сходила домой за своим сеном и бросила по маленькой охапке в каждую кормушку.
– Пропадете вы, сердешные, с нашими хозяевами! – глотая слезы, проговорила она с горечью и зло обрадовалась, когда в приоткрытые ворота влез боком во двор заведующий фермой Левушкин.
– Пришел, черт толстомясый! Погляди, погляди, до чего довел скотину! Масленицу празднуешь? Третий день брагой зенки с подвозчиками заливаете, а скотина без корму мрет…
Небритое опухшее лицо Василия Игнатьевича еще больше посизело. Не двигая шеей, он вывернул на Настасью белые глаза.
– Ты полегше, а то я те научу порядку. Помни, с кем говоришь!
– Ах ты пьянчуга бессовестный, он меня порядку будет учить! – тихо и яростно выговорила вдруг Настасья, ища глазами вилы. И на весь двор завопила исступленно: – Вот отсюдова, паразит, а то я тебе брюхо пропорю! И суда не побоюсь.
Левушкин испуганно попятился, но в воротах зацепился стеганкой за крюк.
– Бабы, обороните! Заколет ведь, сука!
Оборвав карман, выскочил на улицу и завизжал:
– Ты мне ответишь за свою кулацкую выходку! Привыкла тут за войну командовать, теперь завидуешь, что меня на твою должность поставили…
Со всего двора на шум сбежались доярки. Осмелев сразу, Левушкин опять пролез с улицы в ворота.
– Будьте свидетелями, бабы. Жизни лишить хотела!
И теперь уже сам начал наступать на Настасью мелкими шажками, грозно допрашивая ее:
– Ты на кого хвост подымаешь, кулацкий выродок, а? Я тебе кто? Я тебе начальник, руководитель, который поставлен тут, а ты на жизнь мою покусилась…
– Паразит ты, а не руководитель, всю совесть свою пропил, вот кто ты есть! – с плачем закричала Настасья, уже не помня себя от гнева. – Я хоть и кулацкий выродок, а больше двадцати годов состою в колхозе, и за честную работу мою не укорит меня никто. А ты от колхоза в первый же год убежал. Да и сейчас приехал сюда не помогать, а спекулировать. Бабу свою по базарам загонял – то с картошкой, то с дровами, то с мясом, то с сеном. Нам ребятишек обиходить некогда, а ты везде успеваешь. За нашими спинами живешь. Вот ты и есть настоящий кулак. Да тебя бы давно уж из партии вытряхнуть надо. Для своей скотины четыре стога сена поставил, а колхозным даже соломы гнилой не удосужился привезти…
Василию Игнатьевичу даже слова некуда было вставить. Он только отдувался, вытаращив остекленевшие от злости глаза. А Настя уже командовала:
– Ну-ка, бабы, поедемте к нему в сенник да для колхозных коров возьмем воз, а то с голоду околеют…
– Верно, Настя! Чего на него глядеть.
– Пошли, бабы! Скотину спасать надо.
Растерянно топчась около ворот, Левушкин что-то кричал еще, но бабы уже не слушали его. Они высыпали все на улицу, отвязали лошадь от вереи и кучей попадали с визгом и смехом на широкие розвальни.
– И мы масленицу справим! – уже весело говорила Настасья.
– В суд подам! – ошалело завыл Левушкин.
– Вот, вот, подавай, – пригрозила Настасья, подбирая вожжи. – Мы тебе покажем на суде! За все спросим.
– И до чего же горяч мужик! – смеялась бойкая на язык Нина Негожева, из новеньких.
– Н-но, Рыжуха, поехали! – тряхнула вожжами Настасья.
Левушкин выскочил из сугроба и тяжело затопал вслед им, но, задохнувшись, вернулся.
Не прошло и часу, как бабы, помогая лошади, втолкнули прямо в ворота огромный возище сена. Левушкин каменно стоял на месте, не вытирая злых мелких слез.
– Не вой, Василий Игнатьевич! – утешала его с воза Настасья. – Ужо на будущий год из колхозного отдадим.
– Дня на три хватит! – ликовали бабы, живо растаскивая сено по кормушкам.
Совсем повеселевшая Настасья тоже прибавила коровам сена.
– Ешьте вволю, родные мои!
Потом положила охапок пять в запас, около стойла, и заторопилась домой.
Около мостика увидела впереди Парасковью Даренову и прибавила шагу. Хоть и нечасто в последние годы делились они своими горестями и радостями, а тепло давней дружбы сохранили.
Шла Парасковья задумавшись, наклонив голову и сунув руки в карманы старенького полушубка. Тоже, видать, немало забот! Вторую неделю, сказывают, всем звеном картошку семенную перебирают в хранилище да сушат: гнить начала! А ну как пропадет – беды ведь не оберешься! И дома покою Парасковье нету: мужик пьет. Уж так ли не повезло бабе! Выросла в большой бедности, оттого в девках засиделась, оттого и замуж вышла за нелюбого, за Семку Даренова. Да и тот больше десяти годов дома не был – то за кражу в тюрьме сидел, то шлялся невесть где, пока на фронт не взяли… Всего и счастья у Парашки в жизни было, что с Зориным Алешкой любилась недолго. Собирался уж в город он ее увезти с собой, да окоротила им счастье война. Пропал Алешка на фронте в первый же год. Только и отрады осталось теперь у Парасковьи – мальчонка после него. А когда вернулся с фронта Семен без руки, пожалела его, приняла к себе. Думала, к лучшему переменился мужик, поверила ему. Устроился он учетчиком в МТС. Жили, верно, хорошо сначала, мирно. Потом попрекать Семен стал ее за Алексея, а как выпьет – мальчонку бить. Кабы непартийная была – разошлась бы с ним Парасковья сразу, да и дело с концом, пусть что хошь говорят. А партийной нельзя – осудят. Да и жалко безрукого бросать, пропадет без призора, совсем сопьется, так и несет свою долю баба, как ношу постылую.
– Здорово, подружка! Домой, что ли?
Оглянулась, просветлела Парасковья.
– Здравствуй, Настя!
Пошли рядом.
– Хоть бы проведать зашла! – попеняла ей Настя. – Никак тебя и в гости не зазовешь.
– Недосуг все.
– Как живешь-то?
– Чего уж про мою жизнь спрашивать? У меня горе, что море – и берегов не видно…
– Дома Семен?
Не ответила ничего Парасковья, поглядела на подругу, улыбнулась сквозь слезы:
– Счастливая ты, Настька! Иной раз так я тебе завидую.
Больше и не сказали ничего друг дружке, разошлись у мостика в разные стороны.
А Настасья, и верно, до того была счастливая, что и радоваться боялась, как бы не сглазить счастье! Оно ведь после горя еще дороже бывает.
Потеряв в войну сына, не чаяла уж больше Настасья пестовать ребенка, хоть и муж домой вернулся. Какие уж тут дети, коли пришел с фронта раненый, хворый, да и годы у обоих ушли. Поэтому, как почуяла ребенка под сердцем, пошла тайком от мужа в Степахино, в церковь помолиться. В бога не верила давно, а тут решила, что только бог и мог послать ей такое счастье. Тайком от мужа и окрестила потом сына. Маленький Васютка помог ей забыть боль и горечь утраты. Помолодела, расцвела Настасья после родов, ярко переживая «бабье лето». Зорко сторожила она свое счастье. Ночами не спала. То казалось ей, что сын нездоров, то за мужа боялась: не путается ли с кем. Мало ли нынче обездоленных баб! Но муж и сам дорожил семьей, относился к Настасье ласково, сына баловал.
Войдя в избу, сразу почуяла, что отец с сыном поссорились. Вытянув тонкую шею и обиженно моргая глазами, Васютка сидел перед стаканом молока, как перед горьким лекарством. Елизар, не глядя на него, хмуро мял в руке папиросу.
– Чего не поладили? – снимая полушубок, начала допрашивать их с шутливой строгостью.
Сын громко шмыгнул носом и молча уставился в окно.
– Не ест ничего, стервец! – в отчаянии пожаловался жене Елизар. – Стоит на своем: «Не хочу молока!»
Скрывая усмешку, Настасья постращала:
– Я вот возьму сейчас веревку да как начну лупить обоих: одного за потачку, а другого за капризы! В школу давно пора!
Васютка осторожно одной рукой придвинул к себе молоко, а другой отщипнул от каравая крошку хлеба. Отец торопливо начал собирать и укладывать сыну учебники в сумку, сокрушенно ругаясь:
– И что за ребята пошли? Да нам, бывало, мать какой еды ни поставит на стол – всю как ветром сдует. А в класс загодя собирались.
Васютка допил молоко, оделся. Шапку нашел в углу, около порога, надел ее и открыл задом дверь в сени.
– Ты чего это сегодня, не в себе вроде? – глянул на жену Елизар.
– Ничего! – загремела та ухватами. – Надоело мне маяться в колхозе, провалитесь вы все пропадом. Другие вон, как ни погляжу, в город переезжают, а мой муж все равно что присох здесь…
Елизар терпеливо слушал жену, по опыту зная, что не добралась она еще до самого главного. Когда изобразила в лицах, как воевала с Левушкиным, засмеялся.
Но вдруг осекся: Настасья, кусая прыгающие губы, чтобы не зареветь в голос, глядела на мужа сквозь злые слезы остановившимися глазами… Заговорила сначала тихо, а потом все громче и громче:
– Скотину губят, а тебе смешно. Весь колхоз ко дну скоро пустите, прах вас побери! До чего дошли: пьянчужку-спекулянта фермой заведовать поставили. Вот уж где смешно! Ну, у Савела Ивановича против этого жулика язык присох, потому что Савел Иванович сам выпивает, а ты чего молчишь? Тебя в правление выбрали, а ты портками только там трясешь!
До крайности уязвленный, Елизар напрасно пытался остановить ее:
– Да погоди ты, чертова мельница…
Настасья не слушала его, горько сожалея:
– Ну как тут Андрея Ивановича не вспомнишь?! Вот уж кто за колхоз болел, вот уж кто настоящим коммунистом был! Он Левушкина этого давно бы под суд отдал. Да моя бы власть, я бы всех тут вас, руководителей хреновых, метлой поганой…
Елизар уже спокойно и зло осадил жену:
– То-то и оно, что бодливой корове бог рогов не дает. А Левушкина я в партию не принимал и исключать его не имею права, потому как я беспартийный, и тебе это известно.
– Беспартийный! – так и выскочила из кухни Настасья. – А почему же это Левушкин партийный, а ты ходишь беспартийный. Это разве правильно? Ну и пусть тогда жулик этот верхом на тебе ездит…
Кто-то робко постучал с улицы в окно. Сквозь оттаявший в стекле глазок Елизар увидел белую бороду и заячью ушанку.
– Иди вынеси хлеба нищему! – отходя от окна, приказал он жене. – Из Раменья, поди.
И выругался ожесточенно:
– Позор прямо! До войны такой колхоз там богатый был, а нынче… нищих развели.
– Скоро и вы нас по миру пустите! – усмехнулась безжалостно Настасья. – Не больно далеко ушли от раменских правленцев.
Бросила ухват в угол.
– Нету у меня хлеба для них. Нам он тоже несладко достался…
– Иди подай! – прикрикнул на жену Елизар. – Старик это. Чего с него спросишь!
Настасья молча отрезала ломоть хлеба и, как была в одной кофте, вышла, хлопнув дверью.
Около крыльца смиренно стоял высокий старик в черном пальто и новых валенках.
«Не больно беден, видать, получше нашего одежа-то!» – искоса глянула она на нищего и сунула в руки ему хлеб.
– На, дедко!
Старик растерянно принял хлеб, снял шапку и поклонился лысой головой.
– Спасибо тебе, дочка!
Оглянувшись, Настасья охнула и сбежала с крыльца.
– Тятенька! – с ужасом и радостью воскликнула она.
Старик неотрывно глядел на нее, пытаясь сказать что-то. Борода его тряслась. Обняв отца, Настасья упала на грудь ему и беззвучно зарыдала.
– Дома ли сам-то? – спросил он, держа в одной руке хлеб, а другой гладя голову дочери.
– Дома.
– Примет гостя, ай нет?
– Не знаю, тятенька… – растерянно зашептала Настасья, оглядываясь. – Не вышло бы худого чего! Кто его знает. Может, к тетке Анисье сперва зайти тебе?
Кузьма выпрямился, поправил за спиной мешок.
– Возьми-ка хлеб. Боишься, вижу, как бы отец жизнь тебе не попортил? В Степахино пойду я, дружок у меня там есть, звал к себе…